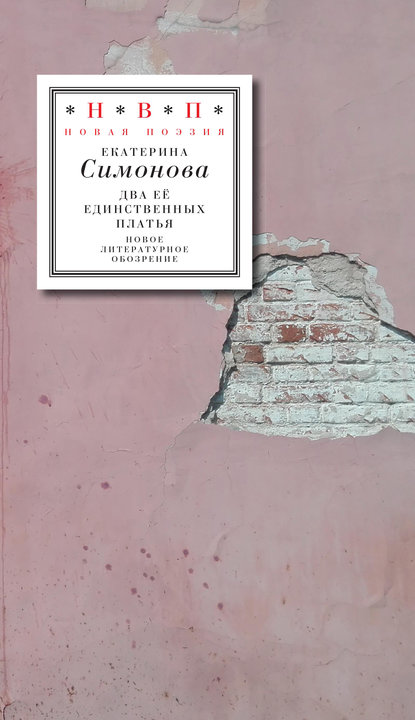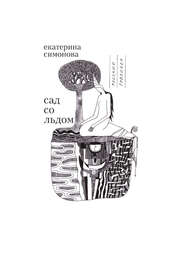По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Два ее единственных платья
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
не понимаешь,
что тебя возбуждает и пугает больше –
ее обнажённая грудь или
осознание того, что в итоге из вас двоих
в живых должна остаться только одна.
<…>
Смерть одной из вас в итоге
оборачивается не спасением, а приносит только вопросы:
Успела ли она увидеть тебя настоящей? <…>
История в этих стихах всегда воспринимается как катастрофа, как конец, как момент, когда тебе выключают свет. Об этих стихах точно можно сказать – перед нами музей, точнее – музей поэтического быта, музей где толпятся призраки.
Особенным умением Симоновой является музейное письмо. Здесь она также обладает способностью оживлять, овеществлять:
1. Осенью 1791 года в румынский город Яссы приезжает
тот самый Григорий Потемкин – в лихорадке.
Съедает кусок ветчины, целого гycя, несколько цыплят
и неимоверное количество кваса, меда и вина,
затем требует везти его вон из Румынии в г.Николаев.
Не довезли – сами знаете.
Вот так вот, и больше ему ни зеркальных
петербургских зал, ни чижовского крыжовника,
ни юных напудренных племянниц в дареных им же жемчугах.
<…>
При чтении многих как бы исторических текстов Симоновой… Нет, нельзя говорить «как бы»: лукаво исторических, игриво и игрально исторических, провокационно исторических – возникает ощущение, что перед нами не знайка с нездоровым, нескромным даже пристрастием к подробностям исчезнувшего бытия, но путешественник во времени, так пристально и насыщенно это внимание.
Опять отступление: недавно я СНОВА оказалась в местном музейчике той самой Эмили Дикинсон, среди подделок и поделок, среди не ее книг. Особое внимание чихающий экскурсовод уделил дырке в новеньких обоях: через эту дырку, дескать, желающий может разглядеть настоящие, прошлые, обои, на которые, возможно, глядела Эмили в момент поэтического сосредоточения. Вот так и в поэзии Симоновой разглядеть можно очень много отживших, настоящих, то есть прошедших вещей. Иногда кажется, перед нами бесконечный каталог того, что жалко выбросить, жалко отпустить, так хочется спасти от исчезновения.
Так пленительно и сложно устроен здесь поединок-сотрудничество между прозой и поэзией. Симонова впускает в мир своей поэзии прозу: результат изумляет. С этого изумления я начала свои записки: первым впечатлением от этих стихов было: о таком (страшном, жалком, отвратительном) нельзя писать так (красиво, о/страненно, изящно, смешно). Мне кажется, именно в таком мастерском несовпадении материала и формы заложена особая взрывная сила этой поэзии.
Полина Барскова
Маме, папе, Лене
I. Пустая квартира
«Я была рада, когда бабушка умерла…»
Я была рада, когда бабушка умерла.
Сначала она начала задумываться, замолкать,
смотреть куда-то между нами,
потом каким-то последним усилием воли
возвращаться обратно.
Через месяц вдруг спросила маму:
«Что это за мальчик сидит на холодильнике?
Видишь, смеётся, хорошенький такой, светловолосый.
Смотри, смотри же – спрыгнул, побежал куда-то,
куда побежал?»
Назавтра увидела деда, молодого, весёлого,
наконец впервые через семнадцать лет после его смерти:
«Что за рубашка на тебе, Афанасий?
Я у тебя что-то не помню такой, я тебе такую не покупала».
Через пару дней напротив за столом
сидела её мачеха. Бабушка толкала мою мать в бок локтем:
«Оль, ничего не пойму – что она молчит и улыбается
и молчит,
молчит и улыбается. Матрёна, да что с тобой?»
Через неделю людьми был полон дом.
Бабушка днём и ночью говорила только с ними,
знакомыми нам,
ни разу нами не виденными, мёртвыми, довольными,
рассказывающими наперебой,
какой в этом году будет урожай,
как они рады встрече,
а что это за чёрный котенок прячется в ванной?
При следующей нашей встрече не узнала меня,
как будто меня никогда и не было.
Перестала вставать, открывать глаза, только что-то
шептала,
тихо, нехорошо так смеялась —
пустая оболочка, полная чужим духом, как дымом.
Это была не жизнь и не смерть, а что-то совсем чужое,
что-то гораздо хуже.
Потом перестала и смеяться.
Когда мы с мамой меняли простыни, пытались вдвоём
её приподнять —
измучились, крошечное тело стало втрое тяжелее,
будто уже заживо пыталось уйти в землю,
стремилось к ней.
В день похорон мама первой пришла в бабушкину
квартиру,
присела на кухне.
Рассказывала, что вдруг стало тихо,
потом вдруг ни с того, ни с сего
начали трещать обои по всем комнатам,
вдруг заскрипели, приближаясь, половицы в коридоре.
Но, слава богу, тут кто-то постучался в дверь.
Целовать покойницу в лоб никто не целовал:
тело начало неожиданно чернеть и разлагаться.
что тебя возбуждает и пугает больше –
ее обнажённая грудь или
осознание того, что в итоге из вас двоих
в живых должна остаться только одна.
<…>
Смерть одной из вас в итоге
оборачивается не спасением, а приносит только вопросы:
Успела ли она увидеть тебя настоящей? <…>
История в этих стихах всегда воспринимается как катастрофа, как конец, как момент, когда тебе выключают свет. Об этих стихах точно можно сказать – перед нами музей, точнее – музей поэтического быта, музей где толпятся призраки.
Особенным умением Симоновой является музейное письмо. Здесь она также обладает способностью оживлять, овеществлять:
1. Осенью 1791 года в румынский город Яссы приезжает
тот самый Григорий Потемкин – в лихорадке.
Съедает кусок ветчины, целого гycя, несколько цыплят
и неимоверное количество кваса, меда и вина,
затем требует везти его вон из Румынии в г.Николаев.
Не довезли – сами знаете.
Вот так вот, и больше ему ни зеркальных
петербургских зал, ни чижовского крыжовника,
ни юных напудренных племянниц в дареных им же жемчугах.
<…>
При чтении многих как бы исторических текстов Симоновой… Нет, нельзя говорить «как бы»: лукаво исторических, игриво и игрально исторических, провокационно исторических – возникает ощущение, что перед нами не знайка с нездоровым, нескромным даже пристрастием к подробностям исчезнувшего бытия, но путешественник во времени, так пристально и насыщенно это внимание.
Опять отступление: недавно я СНОВА оказалась в местном музейчике той самой Эмили Дикинсон, среди подделок и поделок, среди не ее книг. Особое внимание чихающий экскурсовод уделил дырке в новеньких обоях: через эту дырку, дескать, желающий может разглядеть настоящие, прошлые, обои, на которые, возможно, глядела Эмили в момент поэтического сосредоточения. Вот так и в поэзии Симоновой разглядеть можно очень много отживших, настоящих, то есть прошедших вещей. Иногда кажется, перед нами бесконечный каталог того, что жалко выбросить, жалко отпустить, так хочется спасти от исчезновения.
Так пленительно и сложно устроен здесь поединок-сотрудничество между прозой и поэзией. Симонова впускает в мир своей поэзии прозу: результат изумляет. С этого изумления я начала свои записки: первым впечатлением от этих стихов было: о таком (страшном, жалком, отвратительном) нельзя писать так (красиво, о/страненно, изящно, смешно). Мне кажется, именно в таком мастерском несовпадении материала и формы заложена особая взрывная сила этой поэзии.
Полина Барскова
Маме, папе, Лене
I. Пустая квартира
«Я была рада, когда бабушка умерла…»
Я была рада, когда бабушка умерла.
Сначала она начала задумываться, замолкать,
смотреть куда-то между нами,
потом каким-то последним усилием воли
возвращаться обратно.
Через месяц вдруг спросила маму:
«Что это за мальчик сидит на холодильнике?
Видишь, смеётся, хорошенький такой, светловолосый.
Смотри, смотри же – спрыгнул, побежал куда-то,
куда побежал?»
Назавтра увидела деда, молодого, весёлого,
наконец впервые через семнадцать лет после его смерти:
«Что за рубашка на тебе, Афанасий?
Я у тебя что-то не помню такой, я тебе такую не покупала».
Через пару дней напротив за столом
сидела её мачеха. Бабушка толкала мою мать в бок локтем:
«Оль, ничего не пойму – что она молчит и улыбается
и молчит,
молчит и улыбается. Матрёна, да что с тобой?»
Через неделю людьми был полон дом.
Бабушка днём и ночью говорила только с ними,
знакомыми нам,
ни разу нами не виденными, мёртвыми, довольными,
рассказывающими наперебой,
какой в этом году будет урожай,
как они рады встрече,
а что это за чёрный котенок прячется в ванной?
При следующей нашей встрече не узнала меня,
как будто меня никогда и не было.
Перестала вставать, открывать глаза, только что-то
шептала,
тихо, нехорошо так смеялась —
пустая оболочка, полная чужим духом, как дымом.
Это была не жизнь и не смерть, а что-то совсем чужое,
что-то гораздо хуже.
Потом перестала и смеяться.
Когда мы с мамой меняли простыни, пытались вдвоём
её приподнять —
измучились, крошечное тело стало втрое тяжелее,
будто уже заживо пыталось уйти в землю,
стремилось к ней.
В день похорон мама первой пришла в бабушкину
квартиру,
присела на кухне.
Рассказывала, что вдруг стало тихо,
потом вдруг ни с того, ни с сего
начали трещать обои по всем комнатам,
вдруг заскрипели, приближаясь, половицы в коридоре.
Но, слава богу, тут кто-то постучался в дверь.
Целовать покойницу в лоб никто не целовал:
тело начало неожиданно чернеть и разлагаться.