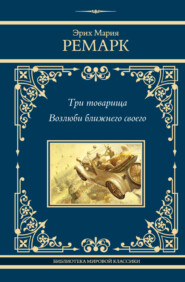По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Черный обелиск
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Черный обелиск
Эрих Мария Ремарк
В романе «Черный обелиск» (1956) Эрих Мария Ремарк блестяще воссоздал атмосферу Германии 20-х годов. Время между двумя мировыми войнами… Время зарождения фашизма… Время, которое писатель обозначил названием еще одного своего романа – «Время жить и время умирать»… Главный герой, служащий в фирме по изготовлению надгробных памятников, пытается найти ответ на вопрос о смысле человеческого существования. А в эпоху «межвременья» это особенно трудно.
Эрих Мария Ремарк
Черный обелиск
Erich Maria Remarque
DER SCHWARZE OBELISK
Печатается с разрешения The Estate of the Late Paulette Remarque и литературных агентств Mohrbooks AG Literary Agency и Synopsis.
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается
© The Estate of the Late Paulette Remarque, 1956
© Перевод. В. Станевич, наследники, 2015
© Издание на русском языке AST Publishers, 2015
I
Солнце заливает светом контору фирмы по установке надгробий «Генрих Кроль и сыновья». Сейчас апрель 1923 года, и дела идут хорошо. Весна не подкачала, мы торгуем блестяще, распродаем себе в убыток, но что поделаешь – смерть немилосердна, от нее не ускользнешь, однако человеческое горе никак не может обойтись без памятников из песчаника или мрамора, а при повышенном чувстве долга или соответствующем наследстве – даже из отполированного со всех сторон черного шведского гранита. Осень и весна – самый выгодный сезон для торговцев похоронными принадлежностями: людей умирает больше, чем летом и зимой; осенью – потому, что силы человека иссякают, весною – потому, что они пробуждаются и пожирают ослабевший организм, как слишком толстый фитиль тощую свечу. Так по крайней мере уверяет самый усердный из наших агентов, могильщик Либерман с городского кладбища, а уж ему ли не знать: старику восемьдесят лет, он предал земле свыше десяти тысяч трупов, на комиссионные по установке надгробий обзавелся собственным домом на берегу реки, садом, прудом с форелью; профессия могильщика сделала его философствующим пьяницей. Единственное, что он ненавидит, – это городской крематорий. Крематорий – нечестный конкурент. Мы тоже его недолюбливаем: на урнах ничего не заработаешь.
Я смотрю на часы. Скоро полдень, и, так как сегодня суббота, я заканчиваю свой трудовой день. Нахлобучиваю жестяной колпак на машинку, уношу за занавеску аппарат «Престо», на котором мы размножаем каталоги, убираю образцы камней и вынимаю из фиксажа фотоснимки с памятников павшим воинам и с художественных надгробных украшений. Я бухгалтер фирмы, художник, заведующий рекламой и вообще вот уже целый год состою единственным служащим нашей конторы, хотя я отнюдь не специалист.
Предвкушая наслаждение, достаю из ящика стола сигару. Это черная бразильская. Представитель Вюртембергского завода металлических изделий утром угостил меня этой сигарой, а потом попытался навязать мне партию бронзовых венков. Следовательно, сигара хорошая. Я ищу спички, но, как обычно, коробок куда-то засунули. К счастью, в печке есть еще жар. Я скатываю трубочкой бумажку в десять марок, подношу ее к углям и от нее закуриваю сигару. Топить печку в апреле, пожалуй, уже незачем; это одно из коммерческих изобретений моего работодателя Георга Кроля. Ему кажется, что когда люди скорбят и им еще приходится выкладывать деньги, то легче это сделать в теплой комнате, чем в холодной. Ведь от печали и без того знобит душу, а если к тому же у людей ноги стынут, трудно бывает выжать хорошую цену. В тепле все оттаивает – даже кошелек. Поэтому в нашей конторе всегда жарко натоплено, а нашим агентам рекомендуется зарубить себе на носу: никогда не пытаться заключать сделки в дождь и в холод на кладбище – только в теплой комнате и по возможности после обеда. При таких сделках скорбь, холод и голод – плохие советчики.
Я бросаю обгоревшую десятимарковую бумажку в печку и встаю. И тут же слышу, как в доме напротив распахивают окно. Мне незачем смотреть туда, я отлично знаю, что там происходит. Осторожно наклоняюсь над столом, словно еще вожусь с пишущей машинкой. При этом искоса заглядываю в ручное зеркальце, которое пристроил так, чтобы в нем отражалось упомянутое окно. Как обычно, Лиза, жена мясника Вацека, стоит там в чем мать родила, зевает и потягивается. Она только сейчас поднялась с постели. Наша уличка старинная, узкая, Лизу нам отлично видно, а ей – нас, и она это знает. Потому и становится перед окном. Вдруг ее большой рот растягивается в улыбку, сверкая зубами, она разражается хохотом и указывает на мое зеркальце. Ее зоркие глаза хищной птицы заметили его. Я злюсь, что пойман с поличным, но делаю вид, будто ничего не замечаю, и, окружив себя облаком дыма, отхожу в глубь комнаты. Лиза усмехается. Я выглядываю в окно, но не смотрю на нее, а притворяюсь, будто киваю кому-то идущему по улице. В довершение посылаю ему воздушный поцелуй. Лиза попадается на эту удочку. Она высовывается из окна, чтобы посмотреть, с кем же это я здороваюсь. Но никого нет. Теперь усмехаюсь я. А она сердито стучит себя пальцем по лбу и исчезает.
Собственно говоря, не известно, зачем я разыгрываю всю эту комедию. Лиза, что называется, «роскошная женщина», и я знаю многих, кто охотно платил бы по нескольку миллионов за то, чтобы наслаждаться каждое утро подобным зрелищем. Я тоже наслаждаюсь, но все же меня злит, что эта ленивая жаба, вылезающая из постели только в полдень, так бесстыдно уверена в своих чарах. Ей и в голову не приходит, что не всякий сию же минуту возжаждет переспать с ней. Притом ей, в сущности, это довольно безразлично. Лиза продолжает стоять у окна, у нее черная челка, подстриженная, как у пони, дерзко вздернутый нос, и она поводит грудями, словно изваянными из первоклассного каррарского мрамора, точно какая-нибудь тетка, помахивающая погремушками перед младенцем. Будь у нее вместо груди два воздушных шара, она так же весело выставила бы их напоказ. Но Лиза голая, и поэтому она выставляет не шары, а груди, ей все равно. Просто-напросто она радуется, что живет на свете и что все мужчины непременно должны сходить по ней с ума. Затем она об этом забывает и набрасывается прожорливым ртом на завтрак. А тем временем мясник Вацек устало приканчивает несколько старых извозчичьих кляч.
Лиза появляется снова. Она налепила себе усы и в восторге от столь блистательной выдумки. Она по-военному отдает честь, и я готов допустить, что ее бесстыдство предназначается старику Кнопфу, фельдфебелю в отставке, проживающему поблизости, но потом вспоминаю, что в спальне Кнопфа только одно окно и оно выходит во двор. А Лиза достаточно хитра и понимает, что из соседних домов ее не видно.
Вдруг, словно где-то прорвав плотину тишины, зазвонили колокола церкви Девы Марии. Церковь стоит в конце улички, и звуки так оглушают, точно валятся с неба прямо в комнату. В то же время я вижу, как мимо второго окна нашей конторы, выходящего во двор, проплывает, словно фантастическая дыня, лысая голова моего работодателя. Лиза делает неприличный жест и захлопывает свое окно. Ежедневное искушение святого Антония еще раз преодолено.
Георгу Кролю ровно сорок лет, но его лысая голова уже блестит, точно шар на кегельбане в саду пивной Боля. Она блестит с тех пор, как я его знаю, а познакомился я с ним пять лет назад. Лысина эта так блестит, что, когда мы сидели в окопах – а мы были в одном полку, – командир отдал особый приказ, чтобы Георг, даже при полном затишье на фронте, не снимал каски, ибо слишком силен был соблазн для самого благодушного противника проверить с помощью выстрела, не огромный ли это бильярдный шар.
Я щелкаю каблуками и докладываю:
– Главный штаб фирмы «Кроль и сыновья»! Пункт наблюдения за действиями врага. В районе мясника Вацека подозрительное передвижение войск.
– Ага, – отвечает Георг. – Лиза делает утреннюю зарядку. Вольно, ефрейтор Бодмер! Почему не надеваете по утрам шоры, как у лошади в кавалерийском оркестре, и не оберегаете таким способом свою добродетель? Разве вы не знаете, каковы три самые большие драгоценности нашей жизни?
– Откуда же я могу знать, господин обер-прокурор, если я и самой жизни-то не видел?
– Добродетель, юность и наивность! – безапелляционно заявляет Георг. – Если их утратишь, то уж безвозвратно! А что на свете безнадежнее многоопытности, старости и холодного рассудка?
– Бедность, болезнь и одиночество, – отзываюсь я и становлюсь вольно.
– Это только другие названия для опыта, старости и заблуждений ума.
Георг вынимает у меня изо рта сигару, мгновение смотрит на нее и определяет, как опытный коллекционер бабочку:
– Добыча взята на фабрике металлических изделий.
Он извлекает из кармана чудесно осмугленный дымом золотисто-коричневый мундштук из морской пенки, вставляет в него мою бразильскую сигару и продолжает ее курить.
– Ничего не имею против конфискации сигары, – заявляю я. – Хотя это грубое насилие, но ты, как бывший унтер-офицер, ничего другого в жизни не знаешь. Все же зачем тебе мундштук? Я не сифилитик.
– А я не гомосексуалист.
– Георг, – продолжаю я, – на войне ты моей ложкой бобовый суп хлебал, когда мне удавалось выкрасть его из кухни. А ложку я прятал за голенище грязного сапога и никогда не мыл.
Георг смотрит на пепел сигары. Пепел бел как снег.
– После войны прошло четыре с половиной года, – наставительно отвечает он. – Тогда безмерное несчастье сделало нас людьми. А теперь бесстыдная погоня за собственностью снова превратила в разбойников. Чтобы это замаскировать, нам опять нужен лак хороших манер. Ergo!{ Следовательно! (лат.)} Нет ли у тебя еще одной сигары? Эта фабрика никогда не позволит себе подкупать служащих одной сигарой.
Я вынимаю из ящика стола вторую сигару и отдаю ему.
– Ум, опытность и старость все же иногда идут на пользу, – замечаю я.
Он усмехается и вручает мне взамен сигар пачку сигарет, в которой недостает шести штук.
– А что произошло еще? – осведомляется он.
– Ничего. Клиентов не было. Но я вынужден настоятельно просить о повышении моего оклада.
– Опять? Ведь тебе только вчера повысили!
– Не вчера. Сегодня утром в девять часов. Какие-то несчастные восемь тысяч марок! И все-таки в девять утра это было еще кое-что. А потом объявили новый курс доллара, и я теперь уже не могу на них купить даже галстук, только бутылку дешевого вина. А мне необходим именно галстук.
– Сколько же стоит доллар сейчас?
– Сегодня в полдень он стоил тридцать шесть тысяч марок! А утром всего тридцать тысяч!
Георг Кроль рассматривает свою сигару.
– Уже тридцать шесть тысяч! Дело идет быстрее кошачьего романа! Чем все это кончится?
– Всеобщим банкротством, господин фельдмаршал, – отвечаю я. – А пока надо жить. Ты денег принес?
– Только маленький чемоданчик с запасом на сегодня и завтра. Тысячные и стотысячные билеты и даже несколько пачек с милыми старыми сотенными. Около двух с половиной кило бумажных денег. Инфляция растет такими темпами, что государственный банк не успевает печатать денежные знаки. Новые банкноты в сто тысяч выпущены всего две недели назад, а теперь скоро выпустят бумажки в миллион. Когда мы будем считать на миллиарды?
– Если так пойдет дальше, то всего через несколько месяцев.
– Боже мой! – вздыхает Георг. – Где прекрасные спокойные дни 1922 года? Доллар поднялся в тот год с двухсот пятидесяти марок всего до десяти тысяч. Уже не говоря о 1921-м – тогда это были какие-то несчастные триста процентов.
Эрих Мария Ремарк
В романе «Черный обелиск» (1956) Эрих Мария Ремарк блестяще воссоздал атмосферу Германии 20-х годов. Время между двумя мировыми войнами… Время зарождения фашизма… Время, которое писатель обозначил названием еще одного своего романа – «Время жить и время умирать»… Главный герой, служащий в фирме по изготовлению надгробных памятников, пытается найти ответ на вопрос о смысле человеческого существования. А в эпоху «межвременья» это особенно трудно.
Эрих Мария Ремарк
Черный обелиск
Erich Maria Remarque
DER SCHWARZE OBELISK
Печатается с разрешения The Estate of the Late Paulette Remarque и литературных агентств Mohrbooks AG Literary Agency и Synopsis.
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается
© The Estate of the Late Paulette Remarque, 1956
© Перевод. В. Станевич, наследники, 2015
© Издание на русском языке AST Publishers, 2015
I
Солнце заливает светом контору фирмы по установке надгробий «Генрих Кроль и сыновья». Сейчас апрель 1923 года, и дела идут хорошо. Весна не подкачала, мы торгуем блестяще, распродаем себе в убыток, но что поделаешь – смерть немилосердна, от нее не ускользнешь, однако человеческое горе никак не может обойтись без памятников из песчаника или мрамора, а при повышенном чувстве долга или соответствующем наследстве – даже из отполированного со всех сторон черного шведского гранита. Осень и весна – самый выгодный сезон для торговцев похоронными принадлежностями: людей умирает больше, чем летом и зимой; осенью – потому, что силы человека иссякают, весною – потому, что они пробуждаются и пожирают ослабевший организм, как слишком толстый фитиль тощую свечу. Так по крайней мере уверяет самый усердный из наших агентов, могильщик Либерман с городского кладбища, а уж ему ли не знать: старику восемьдесят лет, он предал земле свыше десяти тысяч трупов, на комиссионные по установке надгробий обзавелся собственным домом на берегу реки, садом, прудом с форелью; профессия могильщика сделала его философствующим пьяницей. Единственное, что он ненавидит, – это городской крематорий. Крематорий – нечестный конкурент. Мы тоже его недолюбливаем: на урнах ничего не заработаешь.
Я смотрю на часы. Скоро полдень, и, так как сегодня суббота, я заканчиваю свой трудовой день. Нахлобучиваю жестяной колпак на машинку, уношу за занавеску аппарат «Престо», на котором мы размножаем каталоги, убираю образцы камней и вынимаю из фиксажа фотоснимки с памятников павшим воинам и с художественных надгробных украшений. Я бухгалтер фирмы, художник, заведующий рекламой и вообще вот уже целый год состою единственным служащим нашей конторы, хотя я отнюдь не специалист.
Предвкушая наслаждение, достаю из ящика стола сигару. Это черная бразильская. Представитель Вюртембергского завода металлических изделий утром угостил меня этой сигарой, а потом попытался навязать мне партию бронзовых венков. Следовательно, сигара хорошая. Я ищу спички, но, как обычно, коробок куда-то засунули. К счастью, в печке есть еще жар. Я скатываю трубочкой бумажку в десять марок, подношу ее к углям и от нее закуриваю сигару. Топить печку в апреле, пожалуй, уже незачем; это одно из коммерческих изобретений моего работодателя Георга Кроля. Ему кажется, что когда люди скорбят и им еще приходится выкладывать деньги, то легче это сделать в теплой комнате, чем в холодной. Ведь от печали и без того знобит душу, а если к тому же у людей ноги стынут, трудно бывает выжать хорошую цену. В тепле все оттаивает – даже кошелек. Поэтому в нашей конторе всегда жарко натоплено, а нашим агентам рекомендуется зарубить себе на носу: никогда не пытаться заключать сделки в дождь и в холод на кладбище – только в теплой комнате и по возможности после обеда. При таких сделках скорбь, холод и голод – плохие советчики.
Я бросаю обгоревшую десятимарковую бумажку в печку и встаю. И тут же слышу, как в доме напротив распахивают окно. Мне незачем смотреть туда, я отлично знаю, что там происходит. Осторожно наклоняюсь над столом, словно еще вожусь с пишущей машинкой. При этом искоса заглядываю в ручное зеркальце, которое пристроил так, чтобы в нем отражалось упомянутое окно. Как обычно, Лиза, жена мясника Вацека, стоит там в чем мать родила, зевает и потягивается. Она только сейчас поднялась с постели. Наша уличка старинная, узкая, Лизу нам отлично видно, а ей – нас, и она это знает. Потому и становится перед окном. Вдруг ее большой рот растягивается в улыбку, сверкая зубами, она разражается хохотом и указывает на мое зеркальце. Ее зоркие глаза хищной птицы заметили его. Я злюсь, что пойман с поличным, но делаю вид, будто ничего не замечаю, и, окружив себя облаком дыма, отхожу в глубь комнаты. Лиза усмехается. Я выглядываю в окно, но не смотрю на нее, а притворяюсь, будто киваю кому-то идущему по улице. В довершение посылаю ему воздушный поцелуй. Лиза попадается на эту удочку. Она высовывается из окна, чтобы посмотреть, с кем же это я здороваюсь. Но никого нет. Теперь усмехаюсь я. А она сердито стучит себя пальцем по лбу и исчезает.
Собственно говоря, не известно, зачем я разыгрываю всю эту комедию. Лиза, что называется, «роскошная женщина», и я знаю многих, кто охотно платил бы по нескольку миллионов за то, чтобы наслаждаться каждое утро подобным зрелищем. Я тоже наслаждаюсь, но все же меня злит, что эта ленивая жаба, вылезающая из постели только в полдень, так бесстыдно уверена в своих чарах. Ей и в голову не приходит, что не всякий сию же минуту возжаждет переспать с ней. Притом ей, в сущности, это довольно безразлично. Лиза продолжает стоять у окна, у нее черная челка, подстриженная, как у пони, дерзко вздернутый нос, и она поводит грудями, словно изваянными из первоклассного каррарского мрамора, точно какая-нибудь тетка, помахивающая погремушками перед младенцем. Будь у нее вместо груди два воздушных шара, она так же весело выставила бы их напоказ. Но Лиза голая, и поэтому она выставляет не шары, а груди, ей все равно. Просто-напросто она радуется, что живет на свете и что все мужчины непременно должны сходить по ней с ума. Затем она об этом забывает и набрасывается прожорливым ртом на завтрак. А тем временем мясник Вацек устало приканчивает несколько старых извозчичьих кляч.
Лиза появляется снова. Она налепила себе усы и в восторге от столь блистательной выдумки. Она по-военному отдает честь, и я готов допустить, что ее бесстыдство предназначается старику Кнопфу, фельдфебелю в отставке, проживающему поблизости, но потом вспоминаю, что в спальне Кнопфа только одно окно и оно выходит во двор. А Лиза достаточно хитра и понимает, что из соседних домов ее не видно.
Вдруг, словно где-то прорвав плотину тишины, зазвонили колокола церкви Девы Марии. Церковь стоит в конце улички, и звуки так оглушают, точно валятся с неба прямо в комнату. В то же время я вижу, как мимо второго окна нашей конторы, выходящего во двор, проплывает, словно фантастическая дыня, лысая голова моего работодателя. Лиза делает неприличный жест и захлопывает свое окно. Ежедневное искушение святого Антония еще раз преодолено.
Георгу Кролю ровно сорок лет, но его лысая голова уже блестит, точно шар на кегельбане в саду пивной Боля. Она блестит с тех пор, как я его знаю, а познакомился я с ним пять лет назад. Лысина эта так блестит, что, когда мы сидели в окопах – а мы были в одном полку, – командир отдал особый приказ, чтобы Георг, даже при полном затишье на фронте, не снимал каски, ибо слишком силен был соблазн для самого благодушного противника проверить с помощью выстрела, не огромный ли это бильярдный шар.
Я щелкаю каблуками и докладываю:
– Главный штаб фирмы «Кроль и сыновья»! Пункт наблюдения за действиями врага. В районе мясника Вацека подозрительное передвижение войск.
– Ага, – отвечает Георг. – Лиза делает утреннюю зарядку. Вольно, ефрейтор Бодмер! Почему не надеваете по утрам шоры, как у лошади в кавалерийском оркестре, и не оберегаете таким способом свою добродетель? Разве вы не знаете, каковы три самые большие драгоценности нашей жизни?
– Откуда же я могу знать, господин обер-прокурор, если я и самой жизни-то не видел?
– Добродетель, юность и наивность! – безапелляционно заявляет Георг. – Если их утратишь, то уж безвозвратно! А что на свете безнадежнее многоопытности, старости и холодного рассудка?
– Бедность, болезнь и одиночество, – отзываюсь я и становлюсь вольно.
– Это только другие названия для опыта, старости и заблуждений ума.
Георг вынимает у меня изо рта сигару, мгновение смотрит на нее и определяет, как опытный коллекционер бабочку:
– Добыча взята на фабрике металлических изделий.
Он извлекает из кармана чудесно осмугленный дымом золотисто-коричневый мундштук из морской пенки, вставляет в него мою бразильскую сигару и продолжает ее курить.
– Ничего не имею против конфискации сигары, – заявляю я. – Хотя это грубое насилие, но ты, как бывший унтер-офицер, ничего другого в жизни не знаешь. Все же зачем тебе мундштук? Я не сифилитик.
– А я не гомосексуалист.
– Георг, – продолжаю я, – на войне ты моей ложкой бобовый суп хлебал, когда мне удавалось выкрасть его из кухни. А ложку я прятал за голенище грязного сапога и никогда не мыл.
Георг смотрит на пепел сигары. Пепел бел как снег.
– После войны прошло четыре с половиной года, – наставительно отвечает он. – Тогда безмерное несчастье сделало нас людьми. А теперь бесстыдная погоня за собственностью снова превратила в разбойников. Чтобы это замаскировать, нам опять нужен лак хороших манер. Ergo!{ Следовательно! (лат.)} Нет ли у тебя еще одной сигары? Эта фабрика никогда не позволит себе подкупать служащих одной сигарой.
Я вынимаю из ящика стола вторую сигару и отдаю ему.
– Ум, опытность и старость все же иногда идут на пользу, – замечаю я.
Он усмехается и вручает мне взамен сигар пачку сигарет, в которой недостает шести штук.
– А что произошло еще? – осведомляется он.
– Ничего. Клиентов не было. Но я вынужден настоятельно просить о повышении моего оклада.
– Опять? Ведь тебе только вчера повысили!
– Не вчера. Сегодня утром в девять часов. Какие-то несчастные восемь тысяч марок! И все-таки в девять утра это было еще кое-что. А потом объявили новый курс доллара, и я теперь уже не могу на них купить даже галстук, только бутылку дешевого вина. А мне необходим именно галстук.
– Сколько же стоит доллар сейчас?
– Сегодня в полдень он стоил тридцать шесть тысяч марок! А утром всего тридцать тысяч!
Георг Кроль рассматривает свою сигару.
– Уже тридцать шесть тысяч! Дело идет быстрее кошачьего романа! Чем все это кончится?
– Всеобщим банкротством, господин фельдмаршал, – отвечаю я. – А пока надо жить. Ты денег принес?
– Только маленький чемоданчик с запасом на сегодня и завтра. Тысячные и стотысячные билеты и даже несколько пачек с милыми старыми сотенными. Около двух с половиной кило бумажных денег. Инфляция растет такими темпами, что государственный банк не успевает печатать денежные знаки. Новые банкноты в сто тысяч выпущены всего две недели назад, а теперь скоро выпустят бумажки в миллион. Когда мы будем считать на миллиарды?
– Если так пойдет дальше, то всего через несколько месяцев.
– Боже мой! – вздыхает Георг. – Где прекрасные спокойные дни 1922 года? Доллар поднялся в тот год с двухсот пятидесяти марок всего до десяти тысяч. Уже не говоря о 1921-м – тогда это были какие-то несчастные триста процентов.