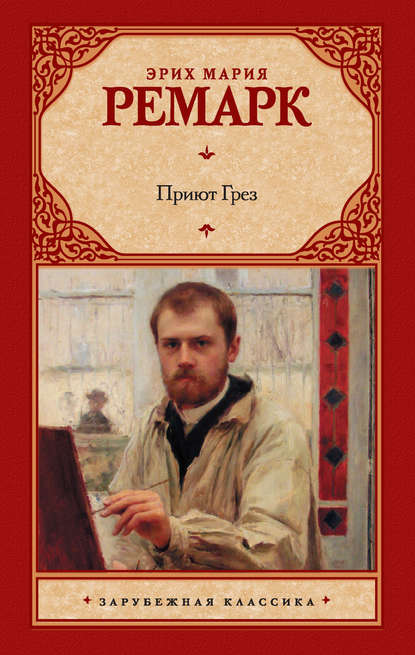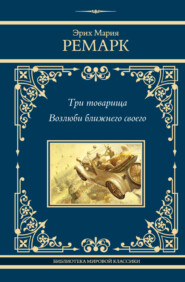По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Приют Грез
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В комнату вернулась госпожа Хайндорф.
– Стало совсем темно. Может, зажечь свет?
– Не надо, – попросила Элизабет. – Сумрак так прекрасен.
– Сударыня, мне нужно кое-что вам сообщить. Вы, вероятно, помните, каких мучений стоило мне найти первую модель для моей картины. И вот теперь с потрясающей легкостью я нашел вторую в вашей племяннице. Разрешите ли вы ей позировать мне?
– С радостью, дорогой друг, – ответила госпожа Хайндорф. – Я так рада, что ваши желания столь быстро исполняются.
– И вы бы не возражали, если бы мы уже вскоре приступили к сеансам?
– Естественно, по мне так хоть завтра…
– А где? Я бы предпочел приходить к вам, хотя у меня в мастерской все под рукой, да и освещение лучше.
Госпожа Хайндорф поглядела на него долгим взглядом, потом перевела его на Элизабет.
– Ну, так как, Элизабет?
Та ответила сияющими от радости глазами.
– Ну хорошо, – мягко заметила госпожа Хайндорф, – я уже знаю, что ты любишь больше всего. Она – большая мечтательница. – Госпожа Хайндорф с улыбкой повернулась к Фрицу, а потом, сразу посерьезнев и твердо глядя ему в глаза, добавила: – Я знаю вас, господин Шрамм, и этого достаточно. Почему бы моей племяннице не приходить к вам! Какое нам дело до отживших понятий! Когда ей прийти завтра?
– Благодарю вас, сударыня, – Фриц почтительно прижал ее руку к губам, – в три часа, если вы ничего не имеете против.
– Ну так как, Элизабет?
Та энергично кивнула:
– Да-да…
Госпожа Хайндорф улыбнулась:
– Так я и думала. Однако вечер нынче так хорош. Давайте посидим еще немного на террасе. И выпьем за вашу находку рюмочку светлого, золотистого вина.
Она позвонила, велела слуге перенести плетеные кресла и подушки на террасу и зажечь несколько цветных фонариков.
Ночь уже вполне вступила в свои права. Среди цветущих вишневых деревьев висела полная луна. Вдали чернели леса, окруженные серебристым сиянием. В небе мерцали первые звезды. Вино искрилось в бокалах.
Госпожа Хайндорф подняла свой бокал:
– Выпьем за вашу удачную находку, за вашу картину и за искусство!
Бокалы легонько звякнули.
– За находку, – тихо промолвил Фриц и осушил свой бокал одним духом.
Все помолчали. Каждый погрузился в свои мысли.
– Лу… – внезапно вырвалось у Фрица.
– Рана все еще не зажила? – тихонько осведомилась госпожа Хайндорф.
– Она не заживет никогда, – пробормотал Фриц и только тут спохватился. – Не хочу жаловаться. Мне есть что вспомнить, содержание моей жизни не было лишь пустыми грезами, как у моего бедного друга Хермайера, давно спящего в земле сырой.
– Расскажите о нем.
– Он был художник-декоратор. Из заработанных денег он отрывал от себя каждый грош, чтобы купить книг. Он читал ночи напролет. Знал наизусть чуть ли не всего Гёте. Мало-помалу в нем самом проснулся поэт. С той поры он писал ночами стихи и драмы. И твердо верил в свой успех. Как часто он с воодушевлением говорил о том, что на гонорар за свою драму, которая непременно произведет фурор, он поедет в Италию! И даже учил для этого итальянский язык… Хермайер не дожил ни до успеха своей драмы, ни до поездки в Италию. Вскоре он скончался от застарелой болезни легких. Фриц невидящими глазами уставился в одну точку перед собой.
– Кто-то может сказать: один из множества непрактичных дураков-немцев. И вероятно, будет прав. Но для меня в этом заключено больше величия, чем в завоевании мира.
Он умолк и стал глядеть в темноту. В тишине ночи где-то тихонько плескался фонтан. И волшебно светились звезды.
– Все здесь дышит миром, – промолвила Элизабет.
– Словно уже наступило лето, немецкая летняя ночь, – добавила госпожа Хайндорф.
– В немецкой летней ночи заключена странная магия, – раздумчиво начал Фриц. – И вообще в нашей родине. Пожалуй, ни один другой народ не испытывает такого восхищения перед чужестранным, такой тяги к другим мирам и тоски по дальним далям, как мы, немцы. Более того, эти чувства частенько даже заходят слишком далеко и оборачиваются обезьянничаньем, не заслуживающим ничего, кроме презрения. И тем не менее пусть наш добропорядочный немец Шмидт спокойно станет американским гражданином Смитом, пусть он говорит по-английски, назовет своих детей Мак и Мод и станет плевать на Германию. Уверяю вас, все это будет внешняя или показная ребячливость! Как только этот мистер Смит услышит звон рождественских колоколов, почует аромат родной рождественской коврижки или же увидит усеянную огнями рождественскую елку, он тут же, несмотря на свой English spoken[6 - Разговорный английский (англ.).] и Мод с Маком, вновь превратится в старого доброго немца Шмидта и, вопреки всем деловым ухваткам и погоне за долларами, вновь поверит в сказки и чудеса, которые вошли в плоть и кровь каждого настоящего немца, – я имею в виду не тех, кто породнился с евреями или славянами. И пусть даже он тысячи раз глухими беззвездными ночами кусал себе руки, он все равно, все равно превратится! Это и есть самое упоительное, вечно юное в нашем народе, это и есть многократно высмеянный простодушный немецкий Михель, его детская непрактичность. Я не политик и плюю на все политические течения. Я – человек, это и есть моя политика! К тому же я еще и художник. Поэтому для меня непрактичный Михель, все еще увенчанный невидимой короной, для которого жизнь по-прежнему полна чудес, восторгов и веры, стоит намного выше холодного и расчетливого дельца, каковыми стали наши кузены, для коих жизнь всего лишь арифметическая задача. Мир прекрасен. Но у нас он прекраснее всего. Это субъективно, и я понимаю, что англичанин, француз, испанец тоже имеют право так сказать. А уж итальянец тем более. И все же я это говорю и тоже имею на это право.
Когда я в Риме под сверкающим синевой куполом неба восхищался пентеликским и каррарским мрамором, на меня вдруг навалилась такая невыразимая тоска по летней ночи в Германии, такая ностальгия, что я тут же уехал домой и растрогался чуть ли не до слез, вновь увидев первую березку…
Фриц говорил это, уже стоя, а кончив, порывисто поднял свой бокал:
– Этот последний бокал я посвящаю Родине, Германии!
Подул легкий ветерок, звезды замерцали, и пестрые фонарики едва заметно качнулись.
Звякнули бокалы. Элизабет воскликнула:
– За нашу дорогую, любимую Родину!
Вино отливало золотом.
Все осушили бокалы до дна.
II
Фриц Шрамм украшал свою мансарду, свой Приют Грез. Накинув желтоватую холщовую куртку, он энергично сновал по комнате, поставил три лилии в старинный оловянный кувшин и удовлетворенно оглядел дело своих рук. Потом не торопясь набил свою трубку темного дерева и стал пускать голубоватые кольца дыма в воздух, полный танцующих пылинок.
В дверь тихонько постучали. Фриц поднялся.
– Прошу.
Элизабет робко вошла. И невольно остановилась при виде того, что представилось ее взору.
Небольшая мансарда с темными стенами. На них – картины, множество картин. Вдоль одной стены – темный стеллаж с книгами, яркие переплеты которых вспыхивали на солнце. На полке, покрытой темной тканью, – сверкающие раковины, разноцветные камни и золотистые куски янтаря. Посреди них – фигурка коричневого танцовщика из мореного дуба. Слева лежал череп, увенчанный венком из красных роз. Чаша, полная темно-красных роз, под висящей на стене пурпурной тканью с гипсовой маской, снятой с лица умершего Бетховена. На скошенной стене – несколько офортов и картина, затянутая черным крепом.
– Добро пожаловать в Приют Грез, – сказал Фриц и в ответ на вопрошающий взгляд Элизабет добавил: – Там – мой уголок Бетховена, как раз рядом с Окном Сказок. Все эти вещи – дорогие напоминания и сувениры. Перед ликом Бетховена всегда цветут розы в знак молчаливой памяти и немого восхищения. Цветы так искренни – и всегда красивы.