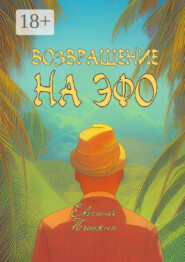По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Потому что могли
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да я это, я. И ничего удивительного в этом нет. Я думала, ты давно умер.
– Что, значит, давно?
– Прошло столько времени…
– Всего какие-то сутки.
– Ты чего? С дуба рухнул? Тринадцать лет минуло, как ты исчез на свалке!
– Ничего не понимаю. Ты меня разыгрываешь?
– Конечно. В ожидании суда, чем мне еще заняться, – обиженно произнесла она.
– Прости. Я плохо соображаю.
– Это видно, – произнесла Алька, улыбнувшись. – Интересно, чем они тебя накачали? Видел бы ты себя со стороны.
Она почти не изменилась, лишь горькие морщинки залегли в уголках рта и глаз. А глаза те же: живые, добрые. Знакомый овал лица. Прическа, правда, другая: волосы были коротко острижены и торчали ежиком.
«Твою мать, – подумал Данька, внимательнее разглядев ее, – действительно прошло несколько лет».
– Алька, только сейчас я понял, как скучал. По тебе, по знакомым. Ведь у меня нет дома, кроме Серышевска. Расскажи мне все. Кстати, как Микки?
Она опустила глаза.
– Что с ним? Он умер? Его подключили к тому медицинскому оборудованию, что я видел в квартирах? Или…
– Нет. Микки теперь Наставник. Пока есть время, я все расскажу, что случилось за эти тринадцать лет.
Рапорт
Микки поймал себя на мысли, что произошедшее в каморке бригадира мусорщиков отдает нарочитостью и театральностью, причем театральностью самой низкой пробы. Пошлость и примитивность, желание придать значимости, но неумение сделать это. Словно хозяин кафе, загнанный в рамки клишированных представлений, решил угостить завсегдатаев чем-то особенным, а на выходе – низкопробное питье и дешевая закуска. И ты невольно пьешь и ешь. Делаешь глоток, и обжигающий напиток оставляет неприятный привкус. Этот мат, эти возгласы: «Да если бы я знал!», «Да я бы никогда!» Даже фигура Наставника, всплывшая в разговоре с мусорщиком, подобно злому гению, теперь нелепой тенью болталась в мыслях, как огородное чучело на ветру. Наставник, кажется, скукожился, потерял цвет и объем, превратился в амебу. Та же искусственность. Нельзя главу комитета воспринимать всерьез. Елочная мишура осыпалась, обнажив пустышку.
Палыч вначале выглядел удрученным и растерянным, затем переменился. Морщины горечи и неудовольствия куда-то делись, взгляд отрешен, словно не его отчитывают. И в конце тирады мусорщика, вроде, заиграла улыбка на устах. Микки захотел одернуть его: нельзя же так явно выказывать презрение, но мусорщик не заметил.
Наконец, когда они покинули ангар, старший дозорный произнес:
– Да ты, Микки, не думай. Не стоит. Все обойдется. Понимаешь?
Палыч кинул фразу так, будто они уже долго беседовали.
Микки промолчал. Ощущение фарса улетучилось. Он решил, чувства его обманули. Ощущения были обманом, или… Или все-таки это правда? Правда то, что словоизвержения мусорщика надуманны, как будто он пытался напялить чужой костюм, а тот рвался по швам, но человек с ослиным упрямством продолжал повторять: все в порядке, отличная вещь, впору, беру, почему бы и нет. «Неужели, – подумал дозорный, – мне показалось?» А Палыч продолжал говорить, не переставая, будто волшебная мельница, жернова которой кружатся и вертятся, перемалывая время в муку слов, а слова оказались верткими, как слизни, ускользали от смысла, и Микки не мог понять, о чем речь.
– Погоди, Палыч. Остановись.
И они остановились.
– Что?
– Ты о чем?
– Пиши рапорт, доклад, что угодно, расскажи всю правду. Не гнушайся деталей. Ничего не скрывай. Это мой совет.
Они вновь зашагали в сторону корпуса дозорных.
– Ничего страшного не случилось…
– Палыч, ты в своем уме?! У тебя чего, фундамент треснул, или крыша поехали, или то и другое? Данька пропал. Понимаешь, пропал? Может, жив он, а, может, нет. Никто не знает, а ты предлагаешь…
– Да успокойся, наконец. Пропал, значит, пропал. Здесь эмоции не помогут. Рассуждай здраво. Ты меня слушаешь?
– Да.
– Пиши рапорт о том, что произошло, а я смягчу ситуацию.
– Каким образом? И вообще, ты о чем? Я не въезжаю.
– Полегче с выражениями. Я о том, что, если надо, дойду до Наставника и все объясню. Не спрашивай, как сделаю, но беру на себя. Ясно? Иди, садись за рапорт и… Пиши, короче.
Последние слова Палыч произнес удаляясь. Микки еле расслышал их. Они растаяли в прохладном воздухе.
Микки остался один на патрульной территории. Мысли и тело сковали невидимые кандалы вопросов, что остались без ответов. Театральность? Так случилось это, в конце концов, или нет? Да, случилось. Он только не желал в это верить.
Он машинально похлопал себя по карманам, извлек сигареты, прикурил. И как сизый дым, что безвольно плыл по воздуху, так и Микки отпустил мысль на свободу. Новая затяжка. Еще. Доза никотина дала иллюзию уверенности. Сквозь синий дурман случившееся представилось иначе: Данька исчез, но раньше надо было предполагать такой исход, раньше.
Он успокоился, поняв, что эмоции ни к чему не приведут.
«Палыч прав», – заключил Микки, оказавшись в своей комнате и садясь за стол. Вынув из ящика лист и ручку, сосредоточено посмотрел на белое поле.
Итак. Он мог описать произошедшее с самого начала. Да, с того момента, когда увидел уродливое тело свалки в бинокль. Туман рассеялся и коричневое… Нет. Стоп. Смешно ведь. Это же рапорт, а не художественное произведение, значит, писать надо по существу. Но отчет без художественных прикрас не вытанцовывался. Они настойчиво лезли на бумагу. Краем сознания, он догадался: они занимали пустые места, где Микки не хотел чего-то рассказывать. Писать все, как есть? Писать только правду? А что есть правда? Мысли, как озорные блохи, запрыгали. Они заполнили внутреннее пространство своим бесполезным шумом.
Микки задался вопросом: кто первый предложил съездить на свалку? Микки вспомнил столовую и фразу о тенях, брошенную Данькой. Значит, началось с Даньки. Затем Палыч подтвердил, что писал доклад о свалке, хотя туда и носу не совал. Выходило, что идея возникла на пусто месте? Затем бар. Вот тут они развернулись на полную, и, вроде, как он, Микки, загорелся мыслью, а старший дозорный не стал отговаривать, а наоборот. И вроде, как он виноват, но Палыч… Что он сказал тогда? Это же случилось не давно, и почему тогда… Он сказал что-то о билетах. Точно, билеты куплены, места заняты в зрительном зале. Что-то в этом роде. Шоу? Опять спектакль? А потом колесо завертелось. План начал осуществляться и…
Микки отложил ручку и прислушался к голосу тишины. Тишина сказала ему, что он упустил деталь, может, не одну, а несколько деталей, которые бы все разрешили, но вот что за детали. Микки искал виновных, не себя в этой истории, не свою ответственность. О ней он хотел умолчать. Но внутри, каждый раз, Микки задевал заусенцу, и она отзывалась болью. Казалось бы, маленькая заусенца, но столько неприятностей и неудобств несет. Он вначале решил: дело выглядело просто. Но другая часть его – называй, как хочешь – «второе я», «подсознание», «внутренний голос», «интуиция» – старалась перекричать рассудок. И вот тогда, как спасительные шоры, как наваждение, являлась уверенность: упущен какой-то важный эпизод. Может, слово или фраза, случайная мысль, жест, взгляд, поворот головы и так далее. Да, деталь, и эта деталь…
Его тщетные попытки отыскать ее прервал телефонный звонок. Это был Палыч.
– Ну, ты как там? Все в порядке? Наставник в курсе. Сегодня он в хорошем расположении духа, так что я на всех парах к нему. В смысле, до завтра откладывать не стоит. Часа через три зайду, и мы пойдем к Непорочным Отцам. Рапорт готов?
– Нет.
– Что? Ты чего? В носу ковыряешь? Срочно пиши!
На том конце бросили трубку. Микки услышал искаженный звук, который превратился в угрожающий щелчок затвора. Он почти физически ощутил, как его поставили лицом к стенке, хрустнули обоймы, взведены затвор, автоматы наизготовку, прицеливание. Скоро приговор приведут в исполнение.
…
Старший дозорный с неодобрение прочел рапорт Микки. Брезгливая мина держалась все время, пока Палыч пробегал взглядом строчки. В конце он покачал головой.