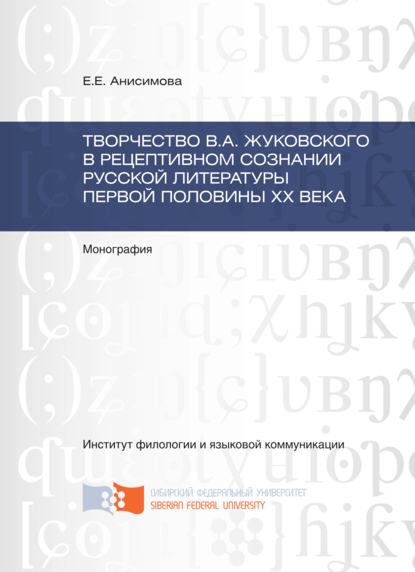По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Творчество В.А. Жуковского в рецептивном сознании русской литературы первой половины XX века
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли[291 - Цветаева М.И. Собр. соч.: в 7 т. М., 1994–1997. Т. 1. С. 177. О других жанровых корнях стихотворения Цветаевой (эпитафии и элегии) см.: Веселова В. Эпитафия – формульный жанр (Поэтика жанра) // Вопросы литературы. 2006. № 2. URL: http://magazines.russ.ru/voplit/2006/2/ve8.html (дата обращения: 15.05.2014).].
(М.И. Цветаева «Идешь на меня похожий…»)
Баллада в литературной рефлексии Анненского соотносилась не только с упомянутой выше стратегией включения будничного, вещного в собственные лирические и эпистолярные тексты, но и с изменением субъектной структуры этого лиро-эпического жанра. Сборники поэта «Тихие песни» и «Кипарисовый ларец» содержат много черт балладности, в особенности подциклы-трилистники «Кошмарный», «Проклятия», «Траурный», «Призрачный» и «Из старой тетради». Наиболее последовательной трансформации феномен «балладного ужаса» подвергся в «Трилистнике кошмарном» и его заглавном стихотворении «Кошмары». Это произведение, сюжетно сориентированное на «Светлану» Жуковского, сохраняет целый ряд ушедших в подтекст балладных компонентов: от диалогической структуры до ключевых мотивов (ситуация tables for two[292 - Ryan W.F. Gullible Girls and Dreadful Dreams. Zhukovskii, Pushkin, and Popular Divination // Slavonic and East European Review. 1992. Vol. 70. №. 4. Oct. P. 660.], противопоставление сна и яви, двойничество как принцип организации системы персонажей, образ жениха-мертвеца, мотив вихря, непогоды и т.д.). Субъектная структура, наиболее настойчиво модифицировавшаяся на протяжении всего процесса деканонизации баллады, у Анненского оказывается сориентированной не столько на лиро-эпику или лирику, сколько на поэтику его эпистолярного наследия и, в частности, на «двуслойную» переписку с Е.М. Мухиной.
Неканоническая баллада «Кошмары» строится как внутренний диалог лирического «я» с лирическим «Вы» (вежливая форма лирического «ты»). Категория «балладного страха», акцентированная уже на уровне названия текста, находится в центре литературной рефлексии Анненского. Сходно с поэтикой писем к Мухиной ситуация «балладного ужаса» подвергается остранению и ироническому снижению. С одной стороны, она связывается с чисто бытовыми обстоятельствами романтического свидания, с другой – с переосмыслением балладного запугивания как части жизнетворческой стратегии[293 - Ср. «литературную» роль Войткевича в «Суходоле» И.А. Бунина: «Войткевич, может статься, и впрямь имел серьезные намерения, загадочно вздыхая возле Тонечки, играя с ней в четыре руки, глухим голосом читая ей “Людмилу” или говоря в мрачной задумчивости: “Ты мертвецу святыней слова обручена…”», «Все стихи ей читал, все напугивал: мол, помру и приду за тобой…» (Бунин И.А. Собр. соч.: в 6 т. М., 1987–1988. Т. 3. С. 138, 126).]:
«Вы ждете? Вы в волненьи? Это бред.
Вы отворять ему идете? Нет!
<…>
Послушайте!.. Я только вас пугал:
Тот (курсив автора. – Е.А.) далеко, он умер… Я солгал.
И жалобы, и шепоты, и стуки, –
Все это «шелест крови», голос муки…
Которую мы терпим, я ли, вы ли…
Иль вихри в плен попались и завыли?
Да нет же! Вы спокойны… Лишь у губ
Змеится что-то бледное… Я глуп…
Свиданье здесь назначено другому…
Все понял я теперь: испуг, истому
И влажный блеск таимых вами глаз».
Стучат? Идут? Она приподнялась.
<…>
И вдруг я весь стал существо иное…
Постель… Свеча горит. На грустный тон
Лепечет дождь… Я спал и видел сон[294 - Анненский И.Ф. Лирика. С. 97–98.].
Как и в критической прозе Анненского, где скрытые связи между статьями обнаруживаются через авторский курсив, в «Трилистнике кошмарном» смысловые переклички между первым стихотворением подцикла и последним устанавливаются аналогичным способом. Ср.: «Послушайте!.. Я только вас пугал: / Тот далеко, он умер… Я солгал»[295 - Там же. С. 97.] («Кошмары») – «Все простит им… если это / Только Это, а не То»[296 - Там же. С. 99.] («То и это»). Таким образом, балладный образ «Того» выходит за пределы лирического сюжета «Кошмаров» и включается в поле философии «Того и Этого» Анненского, где за категорией «Того» стоит мистически-страшное мировоззрение, языком описания для которого становится «пугающая» поэтика баллады (ср.: «Если тошен луч фонарный / На скользоте топора»[297 - Там же.]). Другая мотивная параллель – включение в контекст «Кошмаров» скрытой цитаты из повести Тургенева «После смерти (Клара Милич)»[298 - Там же. С. 334.], на материале которой Анненский в своей литературно-критической статье «Умирающий Тургенев. Клара Милич» обосновывал безрелигиозный мистицизм писателя (40).
Вдвойне показательно в русле размышлений Анненского о церковно-византийской природе русского «черного синодика», что в центр «Трилистника кошмарного» поэт поместил стихотворение «Киевские пещеры», в котором страх порождается движением по пещерам Киево-Печерской лавры с могилами монахов. В контексте композиционной рамы трехчастного «кошмарного» подцикла путешествие лирического героя напрямую ассоциируется с логикой развития русской литературы, осложненной «мистическим» началом:
«Скоро ль?» – Терпение, скоро…
Звоном наполнились уши,
А чернота коридора
Все безответней и глуше…
Нет, не хочу, не хочу!
Как? Ни людей, ни пути?
Гасит дыханье свечу?
Тише… Ты должен ползти…[299 - Там же. С. 98.]
Как и у действительного адресанта писем к Е.М. Мухиной, оптика лирического героя «Кошмаров» оказывается настроенной на двойное понимание происходящего: как поэтическое, балладное, так и будничное, скучное. Первый шаг к такому «расслоению» балладного сюжета был сделан самим Жуковским в его лирическом послесловии к «Светлане», где мистический ужас перенаправлялся в сферу онейрического и тем самым противопоставлялся повседневному. В случае с балладным жанром, по наблюдению И. Кукулина, «мы сталкиваемся с фундаментальным непостоянством канона, аналогичным тому, о чем писал выдающийся генетик Роман Хесин, – непостоянству генома. Непостоянная, вечно перестраивающая себя система генов определяет то, как растет и формируется живой организм. Если мы считаем литературу живым организмом, то и канон, определяющий ее, – непостоянный: он состоит из подвижных нитей, связывающих прошлое литературы с ее сегодняшним днем»[300 - Кукулин И. От Сваровского к Жуковскому и обратно…]. Анненский, составляя в критике свой «черный синодик», перечень писательских имен, во главе с Жуковским-балладником, стремится, с одной стороны, дистанцироваться от этого перечня, с другой же – фактически присваивает топосы данной традиции и реализует их в художественном и эпистолярном наследии, где они кодируют образы и события именно в перспективе «черного синодика». «Балладный страх» как наиболее репрезентативная для поэта жанровая составляющая удваивается в его текстах, формируя две параллельные картины: ироническую презентацию мистико-поэтического ужаса и истинного трагизма будничного, вещного измерения жизни.
2.3. «Силуэт» Жуковского в критике Ю.И. Айхенвальда
Одной из версий присущей эстетическому сознанию эпохи fin de si?cle систематизации классики[301 - См. об этом процессе, в частности: Вдовин А.В. Годовщина смерти литератора как праздник: к истории традиции в России (1850–1900-е гг.) // Festkultur in der russischen Literatur (18. bis 21. Jahrhundert) / Культура праздника в русской литературе XVIII–XXI вв. / отв. ред.: A. Graf. M?nchen, 2010. С. 81–93.] стала книга Ю.И. Айхенвальда «Силуэты русских писателей», выходившая в четыре этапа на протяжении 1906–1917 гг. Собранные в ней критические эссе представляли собой практически полный свод литературных портретов признанных русских литераторов. Айхенвальд в духе новой эпохи модернизма трансформировал и деканонизировал традиционный литературно-критический жанр литературного портрета, став одним из основоположников и наиболее последовательным адептом жанра «силуэта».
В отличие от известных со времен Н.М. Карамзина образцов литературного портрета, создатель «Силуэтов русских писателей» написал не только набросок, эскиз отдельной творческой личности, но и «групповой портрет», целую галерею литераторов конца XVIII–XX вв. По наблюдению А.Ю. Морыганова, литературно-критический инструментарий Айхенвальда «базируется <…> на принципе смыслового “сжатия” художественного слова. Существенным композиционным элементом статьи становятся своего рода “анфилады”, каталогизирующие перечни образов писателя. <…> Как правило, сжатие творчества или произведения до образного “конспекта” или образного “тезиса” подчиняется одному лейтмотиву»[302 - Морыганов А.Ю. Принцип «сжатия» в «Силуэтах русских писателей» Ю.И. Айхенвальда // Творчество писателя и литературный процесс. Иваново, 1999. С. 10–11.]. Одним из слагаемых этого литературного каталога стал образ «тишайшего поэта русской литературы»[303 - Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. М., 1994. С. 523.] – В.А. Жуковского.
Целью настоящего раздела является изучение рецептивной стратегии освоения поэзии и биографии Жуковского в литературной критике Айхенвальда. В качестве основного источника исследования нами была взята книга «Силуэты русских писателей», в особенности вступление к ней – манифест «имманентной критики» автора и силуэт первого русского романтика.
К. Чуковский в своем обзоре литературной критики нескольких первых лет XX в., вышедшем под красноречивым названием «О короткомыслии» (1907), отметил сходство творческих стратегий Ю.И. Айхенвальда, И.Ф. Анненского и Д.С. Мережковского. В целом, дав отрицательную оценку новым веяниям в литературной критике, Чуковский оказался точен в определении ее главной тенденции – внеисторической и субъективной каталогизации творчества русских писателей:
На наших глазах вымирает один из существенных родов российской журнальной словесности – литературная критика.
Правда, как раз в последнее время появилось особенно много подобного рода произведений, но они-то и свидетельствуют о своем полнейшем вырождении. Если взять, например, недавно вышедший томик критических статей г. Айхенвальда «Силуэты» или «Книгу отражений» г. И.Ф. Анненского, то нетрудно убедиться, что критическими статьями они зовутся только потому, что названия юриспруденция или двойная бухгалтерия еще меньше подходят к ним.
Главное, что характеризует подобные книги, это произвольность их тем и сюжетов. Г. Анненский, например, спрашивает: музыкален ли гений Толстого? И, ответив на этот вопрос, немедленно задает новый: что общего между гоголевским «Носом» и шекспировским «Королем Лиром»? А затем тотчас же: как отразилась болезнь Тургенева на «Кларе Милич»? И так далее. Г. Айхенвальд, со своей стороны, с такой же легкостью от Гаршина идет к Баратынскому, от Короленко к Грибоедову, – и всюду он свой человек, со всеми по-домашнему и с каждым говорит на его языке, но зачем ему нужно ходить к каждому поочередно, и почему именно к Грибоедову, а не к Фонвизину, и где связь между одним его визитом и другим, – этого никто никогда не поймет. Как люди тонкие и проницательные г.г. Айхенвальд и Анненский умеют открывать скелеты в каждом посещаемом доме (это тоже особенность новой критики, поведшаяся от Льва Шестова и Д. Мережковского <…>)[304 - Чуковский К.И. О короткомыслии // Чуковский К.И. Собр. соч.: в 15 т. Т. 6. М., 2012. С. 534.].
Еще одной из отмеченных Чуковским тенденций в литературной критике модернизма стало спокойное отношение к исключению того или иного автора из общепринятого свода. Так, книгу Е. Соловьева «Очерки из истории русской литературы XIX века» он сравнил с другим типом культурной «коллекции» – «музеем древностей» – и отметил, что при выборе той или иной «музейной» темы критики могут «совершенно обойти Тютчева, Карамзина, Жуковского» или любого другого автора, который не соответствует «экспозиции»[305 - Там же. С. 537.]. В «Силуэтах русских писателей» эта судьба отчасти и постигла первого русского романтика, портрет которого появился лишь в третьем издании последнего выпуска сборника. Это обстоятельство представляется вдвойне показательным, если учесть, что теоретические основания «имманентной критики»[306 - См.: Зуев Д.В. «Имманентная критика» Ю.И. Айхенвальда доэмигрантского периода: проблема писателя и читателя: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2006.], как называл свой метод сам Айхенвальд, были сформулированы во многом с опорой на литературную традицию и отдельные образы поэзии Жуковского.
Собственный интерес к персональной стороне литературы Айхенвальд прокомментировал следующим образом:
И потому гораздо фактичнее, гораздо «научнее» (если уж вообще говорить о научности) при исследовании художественной словесности обращать главное и особенное внимание на тот неизбежный и самоочевидный, на тот бесспорный фактор литературы, каким является сам писатель, т.е. его творческая индивидуальность. Важен прежде всего и после всего он сам. Это он – виновник своих произведений, а не его эпоха. Он не продукт ничей, как ничьим продуктом не служит никакая личность[307 - Там же. С. 18–19.].
Далее критик резюмирует: «Нет направлений: есть писатели»[308 - Там же. С. 21.].
Именно этими взглядами определяется поэтика статей-«силуэтов», расположение которых внутри трех выпусков и приложения было весьма условным. Так, в первой части очерк о Батюшкове предшествует разговору о Крылове, Лермонтов следует за Баратынским, а Карамзин и Жуковский отнесены в изданное несколькими годами позже приложение. Тем не менее сама выбранная Айхенвальдом «техника» литературного портрета как нельзя лучше отвечает требованиям той эпохи, в которую он работал.
Мой голос из-под земли[291 - Цветаева М.И. Собр. соч.: в 7 т. М., 1994–1997. Т. 1. С. 177. О других жанровых корнях стихотворения Цветаевой (эпитафии и элегии) см.: Веселова В. Эпитафия – формульный жанр (Поэтика жанра) // Вопросы литературы. 2006. № 2. URL: http://magazines.russ.ru/voplit/2006/2/ve8.html (дата обращения: 15.05.2014).].
(М.И. Цветаева «Идешь на меня похожий…»)
Баллада в литературной рефлексии Анненского соотносилась не только с упомянутой выше стратегией включения будничного, вещного в собственные лирические и эпистолярные тексты, но и с изменением субъектной структуры этого лиро-эпического жанра. Сборники поэта «Тихие песни» и «Кипарисовый ларец» содержат много черт балладности, в особенности подциклы-трилистники «Кошмарный», «Проклятия», «Траурный», «Призрачный» и «Из старой тетради». Наиболее последовательной трансформации феномен «балладного ужаса» подвергся в «Трилистнике кошмарном» и его заглавном стихотворении «Кошмары». Это произведение, сюжетно сориентированное на «Светлану» Жуковского, сохраняет целый ряд ушедших в подтекст балладных компонентов: от диалогической структуры до ключевых мотивов (ситуация tables for two[292 - Ryan W.F. Gullible Girls and Dreadful Dreams. Zhukovskii, Pushkin, and Popular Divination // Slavonic and East European Review. 1992. Vol. 70. №. 4. Oct. P. 660.], противопоставление сна и яви, двойничество как принцип организации системы персонажей, образ жениха-мертвеца, мотив вихря, непогоды и т.д.). Субъектная структура, наиболее настойчиво модифицировавшаяся на протяжении всего процесса деканонизации баллады, у Анненского оказывается сориентированной не столько на лиро-эпику или лирику, сколько на поэтику его эпистолярного наследия и, в частности, на «двуслойную» переписку с Е.М. Мухиной.
Неканоническая баллада «Кошмары» строится как внутренний диалог лирического «я» с лирическим «Вы» (вежливая форма лирического «ты»). Категория «балладного страха», акцентированная уже на уровне названия текста, находится в центре литературной рефлексии Анненского. Сходно с поэтикой писем к Мухиной ситуация «балладного ужаса» подвергается остранению и ироническому снижению. С одной стороны, она связывается с чисто бытовыми обстоятельствами романтического свидания, с другой – с переосмыслением балладного запугивания как части жизнетворческой стратегии[293 - Ср. «литературную» роль Войткевича в «Суходоле» И.А. Бунина: «Войткевич, может статься, и впрямь имел серьезные намерения, загадочно вздыхая возле Тонечки, играя с ней в четыре руки, глухим голосом читая ей “Людмилу” или говоря в мрачной задумчивости: “Ты мертвецу святыней слова обручена…”», «Все стихи ей читал, все напугивал: мол, помру и приду за тобой…» (Бунин И.А. Собр. соч.: в 6 т. М., 1987–1988. Т. 3. С. 138, 126).]:
«Вы ждете? Вы в волненьи? Это бред.
Вы отворять ему идете? Нет!
<…>
Послушайте!.. Я только вас пугал:
Тот (курсив автора. – Е.А.) далеко, он умер… Я солгал.
И жалобы, и шепоты, и стуки, –
Все это «шелест крови», голос муки…
Которую мы терпим, я ли, вы ли…
Иль вихри в плен попались и завыли?
Да нет же! Вы спокойны… Лишь у губ
Змеится что-то бледное… Я глуп…
Свиданье здесь назначено другому…
Все понял я теперь: испуг, истому
И влажный блеск таимых вами глаз».
Стучат? Идут? Она приподнялась.
<…>
И вдруг я весь стал существо иное…
Постель… Свеча горит. На грустный тон
Лепечет дождь… Я спал и видел сон[294 - Анненский И.Ф. Лирика. С. 97–98.].
Как и в критической прозе Анненского, где скрытые связи между статьями обнаруживаются через авторский курсив, в «Трилистнике кошмарном» смысловые переклички между первым стихотворением подцикла и последним устанавливаются аналогичным способом. Ср.: «Послушайте!.. Я только вас пугал: / Тот далеко, он умер… Я солгал»[295 - Там же. С. 97.] («Кошмары») – «Все простит им… если это / Только Это, а не То»[296 - Там же. С. 99.] («То и это»). Таким образом, балладный образ «Того» выходит за пределы лирического сюжета «Кошмаров» и включается в поле философии «Того и Этого» Анненского, где за категорией «Того» стоит мистически-страшное мировоззрение, языком описания для которого становится «пугающая» поэтика баллады (ср.: «Если тошен луч фонарный / На скользоте топора»[297 - Там же.]). Другая мотивная параллель – включение в контекст «Кошмаров» скрытой цитаты из повести Тургенева «После смерти (Клара Милич)»[298 - Там же. С. 334.], на материале которой Анненский в своей литературно-критической статье «Умирающий Тургенев. Клара Милич» обосновывал безрелигиозный мистицизм писателя (40).
Вдвойне показательно в русле размышлений Анненского о церковно-византийской природе русского «черного синодика», что в центр «Трилистника кошмарного» поэт поместил стихотворение «Киевские пещеры», в котором страх порождается движением по пещерам Киево-Печерской лавры с могилами монахов. В контексте композиционной рамы трехчастного «кошмарного» подцикла путешествие лирического героя напрямую ассоциируется с логикой развития русской литературы, осложненной «мистическим» началом:
«Скоро ль?» – Терпение, скоро…
Звоном наполнились уши,
А чернота коридора
Все безответней и глуше…
Нет, не хочу, не хочу!
Как? Ни людей, ни пути?
Гасит дыханье свечу?
Тише… Ты должен ползти…[299 - Там же. С. 98.]
Как и у действительного адресанта писем к Е.М. Мухиной, оптика лирического героя «Кошмаров» оказывается настроенной на двойное понимание происходящего: как поэтическое, балладное, так и будничное, скучное. Первый шаг к такому «расслоению» балладного сюжета был сделан самим Жуковским в его лирическом послесловии к «Светлане», где мистический ужас перенаправлялся в сферу онейрического и тем самым противопоставлялся повседневному. В случае с балладным жанром, по наблюдению И. Кукулина, «мы сталкиваемся с фундаментальным непостоянством канона, аналогичным тому, о чем писал выдающийся генетик Роман Хесин, – непостоянству генома. Непостоянная, вечно перестраивающая себя система генов определяет то, как растет и формируется живой организм. Если мы считаем литературу живым организмом, то и канон, определяющий ее, – непостоянный: он состоит из подвижных нитей, связывающих прошлое литературы с ее сегодняшним днем»[300 - Кукулин И. От Сваровского к Жуковскому и обратно…]. Анненский, составляя в критике свой «черный синодик», перечень писательских имен, во главе с Жуковским-балладником, стремится, с одной стороны, дистанцироваться от этого перечня, с другой же – фактически присваивает топосы данной традиции и реализует их в художественном и эпистолярном наследии, где они кодируют образы и события именно в перспективе «черного синодика». «Балладный страх» как наиболее репрезентативная для поэта жанровая составляющая удваивается в его текстах, формируя две параллельные картины: ироническую презентацию мистико-поэтического ужаса и истинного трагизма будничного, вещного измерения жизни.
2.3. «Силуэт» Жуковского в критике Ю.И. Айхенвальда
Одной из версий присущей эстетическому сознанию эпохи fin de si?cle систематизации классики[301 - См. об этом процессе, в частности: Вдовин А.В. Годовщина смерти литератора как праздник: к истории традиции в России (1850–1900-е гг.) // Festkultur in der russischen Literatur (18. bis 21. Jahrhundert) / Культура праздника в русской литературе XVIII–XXI вв. / отв. ред.: A. Graf. M?nchen, 2010. С. 81–93.] стала книга Ю.И. Айхенвальда «Силуэты русских писателей», выходившая в четыре этапа на протяжении 1906–1917 гг. Собранные в ней критические эссе представляли собой практически полный свод литературных портретов признанных русских литераторов. Айхенвальд в духе новой эпохи модернизма трансформировал и деканонизировал традиционный литературно-критический жанр литературного портрета, став одним из основоположников и наиболее последовательным адептом жанра «силуэта».
В отличие от известных со времен Н.М. Карамзина образцов литературного портрета, создатель «Силуэтов русских писателей» написал не только набросок, эскиз отдельной творческой личности, но и «групповой портрет», целую галерею литераторов конца XVIII–XX вв. По наблюдению А.Ю. Морыганова, литературно-критический инструментарий Айхенвальда «базируется <…> на принципе смыслового “сжатия” художественного слова. Существенным композиционным элементом статьи становятся своего рода “анфилады”, каталогизирующие перечни образов писателя. <…> Как правило, сжатие творчества или произведения до образного “конспекта” или образного “тезиса” подчиняется одному лейтмотиву»[302 - Морыганов А.Ю. Принцип «сжатия» в «Силуэтах русских писателей» Ю.И. Айхенвальда // Творчество писателя и литературный процесс. Иваново, 1999. С. 10–11.]. Одним из слагаемых этого литературного каталога стал образ «тишайшего поэта русской литературы»[303 - Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. М., 1994. С. 523.] – В.А. Жуковского.
Целью настоящего раздела является изучение рецептивной стратегии освоения поэзии и биографии Жуковского в литературной критике Айхенвальда. В качестве основного источника исследования нами была взята книга «Силуэты русских писателей», в особенности вступление к ней – манифест «имманентной критики» автора и силуэт первого русского романтика.
К. Чуковский в своем обзоре литературной критики нескольких первых лет XX в., вышедшем под красноречивым названием «О короткомыслии» (1907), отметил сходство творческих стратегий Ю.И. Айхенвальда, И.Ф. Анненского и Д.С. Мережковского. В целом, дав отрицательную оценку новым веяниям в литературной критике, Чуковский оказался точен в определении ее главной тенденции – внеисторической и субъективной каталогизации творчества русских писателей:
На наших глазах вымирает один из существенных родов российской журнальной словесности – литературная критика.
Правда, как раз в последнее время появилось особенно много подобного рода произведений, но они-то и свидетельствуют о своем полнейшем вырождении. Если взять, например, недавно вышедший томик критических статей г. Айхенвальда «Силуэты» или «Книгу отражений» г. И.Ф. Анненского, то нетрудно убедиться, что критическими статьями они зовутся только потому, что названия юриспруденция или двойная бухгалтерия еще меньше подходят к ним.
Главное, что характеризует подобные книги, это произвольность их тем и сюжетов. Г. Анненский, например, спрашивает: музыкален ли гений Толстого? И, ответив на этот вопрос, немедленно задает новый: что общего между гоголевским «Носом» и шекспировским «Королем Лиром»? А затем тотчас же: как отразилась болезнь Тургенева на «Кларе Милич»? И так далее. Г. Айхенвальд, со своей стороны, с такой же легкостью от Гаршина идет к Баратынскому, от Короленко к Грибоедову, – и всюду он свой человек, со всеми по-домашнему и с каждым говорит на его языке, но зачем ему нужно ходить к каждому поочередно, и почему именно к Грибоедову, а не к Фонвизину, и где связь между одним его визитом и другим, – этого никто никогда не поймет. Как люди тонкие и проницательные г.г. Айхенвальд и Анненский умеют открывать скелеты в каждом посещаемом доме (это тоже особенность новой критики, поведшаяся от Льва Шестова и Д. Мережковского <…>)[304 - Чуковский К.И. О короткомыслии // Чуковский К.И. Собр. соч.: в 15 т. Т. 6. М., 2012. С. 534.].
Еще одной из отмеченных Чуковским тенденций в литературной критике модернизма стало спокойное отношение к исключению того или иного автора из общепринятого свода. Так, книгу Е. Соловьева «Очерки из истории русской литературы XIX века» он сравнил с другим типом культурной «коллекции» – «музеем древностей» – и отметил, что при выборе той или иной «музейной» темы критики могут «совершенно обойти Тютчева, Карамзина, Жуковского» или любого другого автора, который не соответствует «экспозиции»[305 - Там же. С. 537.]. В «Силуэтах русских писателей» эта судьба отчасти и постигла первого русского романтика, портрет которого появился лишь в третьем издании последнего выпуска сборника. Это обстоятельство представляется вдвойне показательным, если учесть, что теоретические основания «имманентной критики»[306 - См.: Зуев Д.В. «Имманентная критика» Ю.И. Айхенвальда доэмигрантского периода: проблема писателя и читателя: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2006.], как называл свой метод сам Айхенвальд, были сформулированы во многом с опорой на литературную традицию и отдельные образы поэзии Жуковского.
Собственный интерес к персональной стороне литературы Айхенвальд прокомментировал следующим образом:
И потому гораздо фактичнее, гораздо «научнее» (если уж вообще говорить о научности) при исследовании художественной словесности обращать главное и особенное внимание на тот неизбежный и самоочевидный, на тот бесспорный фактор литературы, каким является сам писатель, т.е. его творческая индивидуальность. Важен прежде всего и после всего он сам. Это он – виновник своих произведений, а не его эпоха. Он не продукт ничей, как ничьим продуктом не служит никакая личность[307 - Там же. С. 18–19.].
Далее критик резюмирует: «Нет направлений: есть писатели»[308 - Там же. С. 21.].
Именно этими взглядами определяется поэтика статей-«силуэтов», расположение которых внутри трех выпусков и приложения было весьма условным. Так, в первой части очерк о Батюшкове предшествует разговору о Крылове, Лермонтов следует за Баратынским, а Карамзин и Жуковский отнесены в изданное несколькими годами позже приложение. Тем не менее сама выбранная Айхенвальдом «техника» литературного портрета как нельзя лучше отвечает требованиям той эпохи, в которую он работал.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: