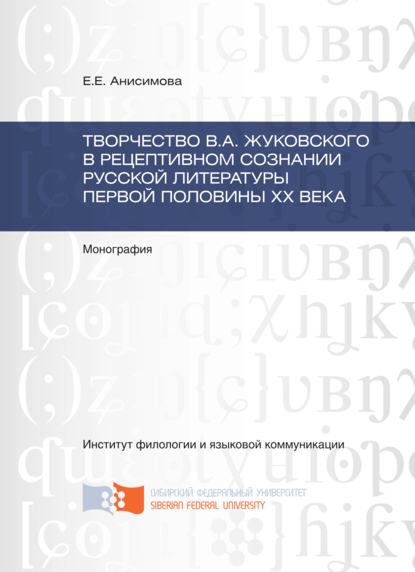По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Творчество В.А. Жуковского в рецептивном сознании русской литературы первой половины XX века
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В свою очередь, усиливший в конце XIX в. свое влияние дивергентный тип художественного сознания, к которому относился и модернизм[66 - Тюпа В.И. Дискурсные формации: очерки по компаративной риторике. М., 2010. С. 24–25, 32, 113–124.], выдвинув на первый план фигуру самовластного автора, казалось бы, существенно монологизировал рецептивный механизм, понизив диалогичность акта восприятия «чужого», редуцировав канонические для русской литературы «протеизм» и «отзывчивость» пушкинского идеала и заменив их модернизацией, «присвоением» актуализированных объектов, а подчас и декларативно-авторитарным «сбрасыванием» их «с парохода современности». Позволим себе привести один пример в дополнение к подробно проанализированной И. Паперно череде «моих Пушкиных» – конструктов творческого воображения поэтов серебряного века[67 - Паперно И. Пушкин в жизни человека Серебряного века.]. В самом начале интересующей нас эпохи, в 1887 г., К.М. Фофановым было написано стихотворение «Тени Пушкина», историю создания которого подробно описал сын поэта:
Снится отцу, будто сидит он в пивной. Пьет пиво. Раскрываются двери, входит энергичной походкой человек низенького роста <…>, и в нем отец узнает Пушкина. Пушкин начинает читать свое стихотворение «Пока не требует поэта / К священной жертве Аполлон» и т.д., таким вдохновенным чтением, какого отец ни от кого в жизни не слыхал. По прочтении стихотворения Пушкин зарыдал и склонился на колени перед отцом. На этом отец проснулся, пораженный виденным. <…> Об этом сне мне приходилось слышать неоднократно в последние годы жизни отца[68 - Фофанов К. Стихотворения и поэмы / вступ. ст., сост., подг. текста и коммент. С.В. Сапожкова. СПб., 2010. С. 473–474.].
Весьма важно, что приведенный эпизод, наряду с редукцией пушкинского культа к частно-индивидуальному и даже немного скандальному быту, капризной инверсией статусов («склонился на колени перед отцом»), позволяет увидеть еще и зачаток будущей «высокой» символистской теории, в которой названное здесь пушкинское стихотворение будет положено в основу концепции жизнетворчества как важнейшей стратегии нового искусства. В.Я. Брюсов, спонтанный продолжатель Фофанова, подвергнет, как известно, выраженную в «Поэте» эстетическую программу Пушкина смелому переосмыслению[69 - Брюсов В.Я. Священная жертва // Брюсов В.Я. Среди стихов, 1894–1924: Манифесты. Статьи. Рецензии / вступ. ст. и коммент. Н.А. Богомолова. М., 1990. С. 127–131. См. также: Пайман А. История русского символизма. М., 2002. С. 168–169.]. Отметим, что предвестием будущей брюсовской программы в этом маргинальном фрагменте наследия Фофанова является характерное для символистской эстетики стремление не просто развести в романтическом ключе жизнь и искусство, а соединить их в акте сотворения новой целостной жизни и нового человека[70 - Подробнее см.: Paperno I. The Meaning of Art: Symbolist Theories // Creating Life. The Aesthetic Utopia of Russian Modernism / Ed. by I. Paperno and J.D. Grossman. Stanford, 1994. P. 13–23.]. Совмещение грубой бытовой обстановки с образом великого поэта, настроенного по отношению к самой этой обстановке совершенно бесконфликтно, предвосхищает символистскую идею жизнетворческого синтеза духовной и эмпирической ипостасей действительности.
Вместе с тем даже такие решительные операции с наследием создателя новой русской литературы оставляли зазоры для диалогизации рецептивного процесса. В первую очередь модернистский тип художественного сознания, санкционировав индивидуальные и групповые литературные каноны, устройство которых стало больше сообщать не столько о включенных в них персоналиях, сколько о прихотливо сформулированных направлениях индивидуальных поисков самих реципиентов, необычайно интенсифицировал работу рецептивного механизма, наделив проблему «предшественников» самостоятельным значением. Следствием этого и стало преображение потенциально любого артефакта прошлого в живого участника культурного процесса. В особенности эта тенденция, как отметил И.П. Смирнов, была присуща символизму с его тоталистским намерением «выявить как можно больше антецедентов с повторяющимися мотивами, что отвечало разделявшейся символистами идее “вечного возвращения” и другим, близким к ней (согласно известной формулировке Белого, символизм переживает “…в искусстве все века и все науки”<…>)»[71 - Смирнов И.П. Порождение интертекста (Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б.Л. Пастернака). 2-е изд. СПб., 1995. С. 98.].
Во-вторых, само волевое «присвоение» эстетического объекта (в роли кумира-вдохновителя, каковым был Вл. Соловьев для младо-символистов, или в качестве очередной маски в жизнетворческой игре) было на самом деле иллюзорным: подобно тому, как субъектная сторона символистской лирики обнаруживала экспансию раздвоенного взгляда на «себя» как на «другого»[72 - Бройтман С.Н. Русская лирика XIX – начала XX века в свете исторической поэтики (Субъектно-образная структура). С. 216.], внутренняя проблематичность субъекта модернистской культуры подразумевала взгляд на себя словно со стороны самой реципируемой инстанции. Иначе говоря, «мой Пушкин» становился «моим» лишь в каких-то определенных аспектах (т.е. «смотрел» на «меня» с какой-то отдельной «своей» точки зрения), «ненужные» «мне» нюансы (т.е. другие потенциальные «его» точки зрения) подлежали замалчиванию, зато найденные соответствия уверенно осмыслялись как «пушкинские». Так, И. Паперно выделила несколько главных направлений, в рамках которых образ и наследие великого поэта осваивались деятелями новой эпохи: «принятие образа Пушкина как образца человека, на который следовало ориентироваться в построении собственной личности», практика «возведения своей “генеалогии” к Пушкину или пушкинскому герою», «через титул “первого поэта”», «метонимически: через отождествление с определенными знаками пушкинского образа», через идею «соприсутствия Пушкина в жизни современного человека», «общая проекция обстоятельств собственной жизни на “Пушкина”», «ассоциация имен “великих Александров”», установление «соответствий» между топографическими и бытовыми реалиями[73 - Паперно И. Пушкин в жизни человека Серебряного века // Cultural Mythologies of Russian Modernism. From the Golden Age to the Silver Age / Ed. by B. Gasparov, R.P. Hughes, I. Paperno. Berkeley, Los Angeles, Oxford, 1992. С. 33–43.].
Многочисленные прецеденты создания автопроекций на классику XIX в. и в первую очередь на образ Пушкина породили третий рецептивный феномен эпохи: диалогические ситуации расширили свою традиционную «локализацию», как бы добавили к точке «встречи» реципиента с реципируемым объектом острое переживание «соседних» опытов аналогичных восприятий, начав, следовательно, рассекать поле литературы на границах наполнявших его индивидуализированных жизнетворческих мифов. Иными словами, «моих Пушкиных» становилось все больше, и они были отчетливо полемичны по отношению друг к другу. В этом отношении известная оценка Пушкина Ап. Григорьевым как «нашего всего» оказывалась неадекватной интересующему нас времени именно ввиду своего характерно классического интегрирующего смысла, который шел вразрез с персонализмом новой эпохи и порожденным им своеобразием культурных коммуникаций.
***
В нашей работе мы преследуем цель реконструировать максимально репрезентативные в очерченном историко-литературном контексте сценарии актуализации имени и наследия В.А. Жуковского, способы создания рецептивного «мифа Жуковского», функционально аналогичного «мифу Пушкина». В качестве нижней границы рассматриваемого нами периода были выбраны 1880–1890-е гг. Ключевыми датами здесь нужно считать юбилейный 1883 год, когда был поставлен вопрос о включении поэта в пантеон классиков, а также 1893 год, ознаменовавшийся выходом книги Д.С. Мережковского «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы» – первого опыта теоретической легитимации «нового искусства», в контексте которого и будут совершаться все интересующие нас рецептивные преобразования образа и наследия Жуковского. Маркерами верхней границы периода стали «жуковскоцентричные» произведения поздних модернистов: изданная к столетнему юбилею со дня смерти романтика беллетризованная биография «Жуковский» (1951), принадлежащая перу Б.К. Зайцева, и романы В.В. Набокова «Лолита» (1955) и «Пнин» (1957), представляющие собой, вероятно, вершинные с эстетической точки зрения образцы развернутых к Жуковскому интертекстов.
Прецеденты создания «своих» Жуковских помогут понять, как в творческой системе данного автора происходит усвоение «старой» классики, как срабатывают механизмы преемственности, каким образом функционирует механизм «изобретения традиции» (Э. Хобсбаум). В идеале (весьма вероятно, недостижимом в рамках одной работы) обобщение найденных художниками первой половины XX в. подходов к образу поэта XIX столетия позволит наметить единый сюжет реципированного Жуковского – парадоксально становящегося поэтом не только романтической, но (в рамках освоения его поэзии и жизне-творческой программы) и модернистской эпохи.
Преследуя эту главную для нас цель, мы считаем необходимым сделать ряд важных оговорок. Во-первых, Жуковский как один из создателей русской поэтической культуры далеко не всегда воспринимался его наследниками осознанно, программно – как равноправная и, самое главное, индивидуализированная личность в культурном диалоге. Очевидно, что тысячи и тысячи аллюзий на его хрестоматийные произведения были результатом действия инерции – чаще всего жанровой. Прав В.Н. Топоров, указавший на то, что «язык поэтических произведений Жуковского 1800-х (начиная с “Сельского кладбища”) – 1810-х годов вошел как целое (язык русской элегии) важной составной частью в фонд русского поэтического языка (ни об одном русском поэте XVIII в., даже о Карамзине, нельзя сказать того же)»[74 - Топоров В.Н. «Сельское кладбище» Жуковского: к истокам русской поэзии // Russian Literature. 1981. № 10. С. 208.]. Во многом создав «язык» поэтической культуры романтизма, Жуковский естественно был вскоре обезличен, сведен к loci communes, клише, спектр использования которых простирался от серьезных замыслов по деканонизации и творческому преобразованию созданных поэтом жанровых эталонов[75 - См. на эту тему известные замечания С.Н. Бройтмана о судьбе баллады после Жуковского, а также недавнюю работу В.И. Козлова о продуктивном использовании элегических топосов, восходящих главным образом также к Жуковскому. Бройтман С.Н. Русская лирика XIX – начала XX века в свете исторической поэтики (Субъектно-образная структура). М., 1997. С. 127–134; Бройтман С.Н. Баллада // Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 2. Бройтман С.Н. Историческая поэтика. М., 2004. С. 330– 334; Козлов В.И. Русская элегия неканонического периода. Очерки типологии и истории. М., 2013.] вплоть до травестирования в контексте смеховой паралитературы (этому «силовому полю» Жуковского в русской литературе посвящена, в частности, недавняя книга А.С. Немзера[76 - Немзер А.С. При свете Жуковского: очерки истории русской литературы. М., 2013.]; отметим в связи с этим и нашу предыдущую работу о рецепции поэта в пародийном мире словесности XIXXX вв.[77 - Лопатина Е.Е. Поэзия В.А. Жуковского в истории русской пародии: дис. … канд. филол. наук. Томск, 2007.]). В настоящем исследовании мы считаем нужным дистанцироваться от «автоматизированного», как сказали бы формалисты, Жуковского. Во всех предложенных ниже случаях русский балладник и первый романтик предстает как вызов жизнетворческой, поэтической и/или идеологической программе того или иного художника XX в., обращающегося к своему великому предшественнику очевидно зачем-то, заинтересованно, словно надеясь услышать от создателя «Людмилы» и «Светланы» какое-то ответное слово.
Во-вторых, делая акцент именно на таком реципированном Жуковском, нам необходимо обосновать перечень репрезентативных имен и источников, которые находятся в центре внимания в настоящей работе. Очевидно, что восприятие наследия и личности стихотворца-романтика регулировалось «архитектурой», закономерностями литературного процесса начала – первой половины XX в. Далеко не каждое писательское объединение этой богатой на эстетические дискуссии эпохи будет комплементарно Жуковскому; это же относится и к масштабным литературным индивидуальностям, стоящим как бы «над» отдельными школами. Определяя далее границы нашего материала, мы хотели бы построить систему наших аргументов по принципу «от противного» и коснуться прежде всего тех ярких литературных имен, которые, как может показаться, обойдены в диссертации вниманием.
В исследованиях, посвященных судьбе наследия того или иного художника, необходимо разграничить понятия традиции и рецепции. Литературная традиция предполагает не столько диалог с предшественником как творческим индивидуумом, сколько использование (полемическое или сочувственное) наработанного им художественного инструментария – использование более или менее сознательное, более или менее автоматическое. Например, то, что М.Ю. Лермонтов или Л.Н. Толстой, описывая Бородинское сражение, прибегали, как показал А.М. Панченко, к тем же приемам, что и их предшественник – безвестный средневековый автор «Сказания о Мамаевом побоище», говорит не о том, что художники XIX столетия как-то реципировали произведение древнерусского книжника, а о том, что все они глубоко понимали и задействовали топосы батальной поэтики, производные от христианской в своей основе национальной картины мира[78 - Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ // Из истории русской культуры. Т. 3 (XVII – начало XVIII века). М., 1996. С. 240–246.].
Традиция связана с общей культурной эрудицией писателя и степенью владения им средствами художественного языка, созданного его предшественниками. При этом если между «старшим» и «младшим» поэтами (термины Х. Блума) имеется временная дистанция более одного литературного поколения, то усвоение традиции осуществляется по цепочке: от более раннего предшественника – к непосредственному. В таком случае практически невозможно отделить влияние первого от влияния второго, выступающего в качестве посредника, и уместнее говорить о значимости целой литературной школы или литературного направления, а не о воздействии отдельного автора. Как отметил В.Н. Топоров в своей работе о А.А. Блоке и Жуковском, в рамках традиции «среди схождений <…> прежде всего выделяются те, которые относятся к общему (разрядка автора. – Е.А.) – к уровню интонации, настроения, ритма, а не слов и конкретных образов»[79 - Топоров В.Н. Блок и Жуковский: к проблеме реминисценций // Творчество А.А. Блока и русская культура XX века. Тезисы I Всесоюзной конференции. Тарту, 1975. С. 85.].
Творчество Блока вообще представляет собой один из ярчайших примеров следования традиции Жуковского и созданной им романтической школы. По характерному наблюдению В.Н. Топорова, «Блок чаще всего усваивал поэтические достижения Жуковского не непосредственно, а в том виде, какой они получили у Тютчева, Фета, Соловьева»[80 - Там же. С. 84. См. в продолжение темы: Лейбов Р. Тютчев и Жуковский. Поэзия утраты // Тютчевский сборник II. Тарту, 1999. С. 31–47; Спивак М. Фетовские реминисценции в цикле А. Блока «Снежная маска» (1907) // Блоковский сборник XVIII. Россия и Эстония в XX веке: диалог культур. Тарту, 2010. С. 9–25.]. В специальном исследовании, посвященном влиянию Жуковского на творчество Блока, А.С. Барбачаков убедительно показал, что «символисты второго призыва в начале XX века становятся наследниками “запасного” пути развития русской романтической поэзии XIX века (от В.А. Жуковского к А.А. Фету) и реанимируют романтические тенденции в искусстве»[81 - Барбачаков А.С. В.А. Жуковский в творческом сознании А.А. Блока: дис. … канд. филол. наук. Томск, 1992. С. 8.]. В диссертации, написанной позднее и посвященной романтической традиции в лирике Блока в целом, опорные слагаемые поэтического языка Жуковского были рассмотрены в виде цепочек аллюзий и реминисценции Жуковский – Тютчев / Фет / Соловьев – Блок. Так, литературный генезис лирического мотива молчания у Блока (например, в стихотворении «Когда-нибудь, не скоро, Вас я встречу…», 1898 г.) невозможно, по мысли исследователя, соотнести с «Невыразимым» Жуковского напрямую, минуя “Silentium!” Ф.И. Тютчева. Аналогичным полигенетизмом отличаются и другие блоковские образы с «жуковской» генетикой: сорванный цветок, путешественник, Восток, здесь и там, спящая царевна, горний мир и т.д.[82 - См.: Чой Чжоу Сул. Русские поэты-романтики XIX-го века в восприятии А. Блока (Семантика реминисценций и аллюзий): дис. … канд. филол. наук. СПб., 2001. С. 9–61.] В этом смысле весьма показателен пример узнавания Блоком «своих» слов и образов в личных документах Жуковского. Читая монографию А.Н. Веселовского «В.А. Жуковский. Поэзия чувства и “сердечного воображения”» (1904), поэт обнаружил и подчеркнул в ранее не публиковавшихся письмах русского балладника точные совпадения с собственными, уже изданными стихами[83 - См.: Мушина И. Блок и Жуковский // Звезда. 1980. № 10 (октябрь). С. 219; Библиотека А.А. Блока: Описание. Кн. 1. Сост. О.В. Миллер и др. Л., 1984. С. 123–130.]. Резонно предположить, что для поэта-символиста эти схождения были неожиданными свидетельствами художественного родства – признаками безотказной работы механизма историко-литературной преемственности. В этом смысле показательно, что восприятие Блоком Жуковского, считавшегося представителем той литературной традиции, которая подводила к самому Блоку, во многом представляло собой историю неосуществленных замыслов: в их череде рубежной вехой стал выход названной книги Веселовского, на которую поэт откликнулся рецензией, согласившись практически со всеми ключевыми тезисами ученого[84 - См.: Блок А.А. Академик А.Н. Веселовский. В.А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения» [рецензия] // Блок А.А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. Т. 7. М., 2003. С. 160–166.], и отказался от продолжения собственного исследования о Жуковском[85 - Кумпан К.А. Александр Блок – выпускник университета // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1983. Т. 42. № 2. С. 170.].
Отметив неосуществленные филологические изыскания Блока, размышлявшего об эпистолярии Жуковского, скажем также о судьбе «метельного текста»[86 - Об этой повсеместно встречающейся в русской литературе сюжетно-образной универсалии см.: Минц 3.Г., Лотман Ю.М. Образы природных стихий в русской литературе (Пушкин – Достоевский – Блок) // Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 1995. С. 814–824; Минц З.Г., Юлова А.П. Из комментария к циклу Блока «Снежная маска» // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 620. Тарту, 1963. С. 103; Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 599 и сл.; Плюханова М. Рассказ «Метель» в системе ассоциаций Толстого // Лев Толстой в Иерусалиме: Мат-лы междунар. науч. конференции «Лев Толстой: после юбилея». М., 2013. С. 303–316.] русского балладника в поэзии поэта-символиста. История этого мотивного комплекса начинается со стихотворения «Ночь на Новый год» от 31 декабря 1901 г. Это произведение представляет собой едва ли не единственный у Блока пример, когда текст русского романтика воспринимается напрямую, безотносительно к позициям поэтов-посредников, также ранее прибегавшим к похожей образности. Героиня известной баллады «Светлана» словно переносится в святочное стихотворение XX в. В своей работе «“Поэтика даты” и ранняя лирика Ал. Блока» З.Г. Минц указала, что «Светлана» Жуковского – не только ключ к святочной лирике младосимволиста, но и элемент его осознанного ритуализованного «святочного поведения»: впоследствии сам поэт признавался Б.А. Садовскому, что имеет обыкновение перечитывать эту балладу ночью, в рождественский сочельник[87 - Минц З.Г. «Поэтика даты» и ранняя лирика Ал. Блока // Минц З.Г. Поэтика Александра Блока. СПб., 1999. С. 396–397.]. Однако и данное стихотворение, являющееся «первотекстом» святочной лирики Блока, уже включало в себя, помимо прямой отсылки к тексту Жуковского, также отсылки к сну пушкинской Татьяны и к стихотворению Фета «Перекресток, где ракитка…» (цикл «Гадания»)[88 - Там же. С. 397.]. В более поздних обращениях к теме «снежного вихря», прежде всего, в созданном в святочные дни неспокойного 1907 г. цикле «Снежная маска», балладные подтексты приобрели уже «фоновый характер»[89 - Об этом см.: Барбачаков А.С. В.А. Жуковский в творческом сознании А.А. Блока. С. 229.].
Финальным аккордом в развитии темы стал балладный слой в поэтике поэмы «Двенадцать», а также образность и риторика ближайшего конвоя поэмы – статьи «Интеллигенция и революция». Оба произведения были написаны в предельно сжатые сроки во время январских праздников 1918 г. Если между «зимней» лирикой Блока и святочной балладой Жуковского в роли текстов-посредников выступали «Евгений Онегин» и фетовские «Гадания», то поэма «Двенадцать» позволяет увидеть литературную преемственность, идущую несколько иным путем: также от «Светланы» Жуковского, но по направлению к «бесовской» теме Пушкина и Достоевского[90 - Бройтман С.Н. Русская лирика XIX – начала XX века в свете исторической поэтики (Субъектно-образная структура). М., 1997. С. 127–134.], у которых образ снежного вихря приобрел отчетливые социальные обертоны[91 - Балладная поэтика присутствует и в других литературных воспроизведениях социально-исторических катаклизмов первой половины XX в. – от «Окаянных дней» Бунина до «Поэмы без героя» А.А. Ахматовой.]. При сохранении целого ряда балладных признаков (драматизация повествования, метель, мотив свадьбы-похорон, революционный кризис как наивысший полюс в коллизии легитимного/нелегитимного и т.д.) в поэме и сопутствующей ей статье о «мировом циклоне», который бушует в заметенных снегом странах, ассоциативный фон «метельного текста» уже утрачивает непосредственно «жуковский» характер.
Заметно, что в обоих случаях у Блока – в исследовательской попытке осмыслить личность Жуковского и в восприятии отдельных произведений романтика – традиция словно поглощает возможный индивидуальный рецептивный «текст». Талант Блока проявился в синтетическом восприятии литературных предшественников. Надо отметить, что основой историософии Блока было присущее многим модернистам ницшеанское представление о циклической повторяемости эпох, поколений, которые виделись поэту в виде соединенных между собой звеньев[92 - О внимании Блока к проблемам наследственности, рода и вырождения см.: Матич О. Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de si?cle в России. М., 2008.]:
Сыны отражены в отцах:
Коротенький обрывок рода –
Два-три звена, – и уж ясны
Заветы темной старины:
Созрела новая порода, –
Угль превращается в алмаз.
Он, под киркой трудолюбивой,
Восстав из недр неторопливо,
Предстанет – миру напоказ![93 - Блок А.А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. Т. 5. М., 1999. С. 23.]
Закономерно, что в рамках такого подхода Жуковский не мог в рецептивном сознании Блока миновать все промежуточные «звенья» литературной цепи и предстать перед символистом XX в. в качестве непосредственного собеседника – творчество первого русского романтика вошло в тексты Блока в состоянии синтетического сплава со всей совокупностью художественных решений, предложенных последователями Жуковского в XIX в.
Вопрос о «собеседниках» поэта – современниках и потомках – был концептуально поставлен в статье «О собеседнике» (1913) младшего современника Блока и представителя постсимволистской ветви модернизма – О.Э. Мандельштама, чутко и тонко проведшего разграничительную линию между традицией и рецепцией. Отдавая предпочтение «читателю в потомстве», автор сравнил взаимодействие поэта со своими будущими читателями с посланием морехода в бутылке: «Читая стихотворение Боратынского, я испытываю то же самое чувство, как если бы в мои руки попала такая бутылка». По мнению Мандельштама, такой диалог во времени является краеугольным камнем историко-литературного процесса, необходимым условием адресованности литературного труда для «старшего поэта», условием, побуждающим к творчеству «младшего»:
Итак, если отдельные стихотворения (в форме посланий или посвящений) и могут обращаться к конкретным лицам – поэзия, как целое, всегда направляется к более или менее далекому, неизвестному адресату, в существовании которого поэт не может сомневаться, не усомнившись в себе. Метафизика здесь ни при чем. Только реальность может вызвать к жизни другую реальность. Поэт не гомункул, и нет оснований приписывать ему свойства самозарождения[94 - Мандельштам О.Э. О собеседнике // Мандельштам О.Э. Собр. соч.: в 4 т. Т. 2. М., 1991. С. 235, 240.].
Рассуждая в терминах рецепции и подчиняя ей свою «тоску по мировой культуре», Мандельштам действительно сумел создать ряд «своих» собеседников, словно воскресших из тени минувших эпох – речь идет о Данте, Баратынском, Батюшкове и др.
Именно в этом мандельштамовском смысле рецепция представляется явлением персональным и осознанным. Она отличается четким и непосредственным восприятием предшественника. Предельным воплощением рецептивного механизма в творческом сознании художника становится создание индивидуального, авторского литературного мифа о «старшем поэте». Рецепция, являясь диалогическим феноменом, одновременно способствует проведению осмысленных аналогий между прошлым и современной культурной ситуацией и/или непосредственно судьбой «младшего поэта». Потому закономерно, что схождения относятся не к общему, а конкретному и связаны с отдельными деталями биографии, жизнестроительными проектами, яркими художественными открытиями.
Кроме того, актуальным представляется выделить два, не всегда пересекающихся, направления рецепции. В первом случае восприятие писателя концентрируется на личности предшественника, харизме которой так или иначе подчиняются его художественные достижения. Условно назовем такой тип рецепции «мифологизирующим». Т.е. этот аспект нашей работы будет преимущественно связан с теми случаями, когда Жуковский открывался другими поэтами как личность (оценка этой личности в этических терминах «положительного» или «отрицательного» имеет второстепенное значение). Например, Мережковский включает образ Жуковского в принципиальный для себя контекст бунта против отца, царя и Бога и, несмотря на нелестную оценку биографического облика поэта, делает «Жуковский текст»[95 - Термин введен в работе: Айзикова И.А. Художественная система В.А. Жуковского как текст // Канунова Ф.З., Айзикова И.А., Никонова Н.Е. Эстетика и поэтика переводов В.А. Жуковского 1820–1840-х гг.: проблемы диалога, нарратива, мифопоэтики. Томск, 2009. С. 424.] структурообразующим для своего историософского романа «Александр I».
Закономерно, что в подобных рецептивных опытах Жуковский зачастую выступает в качестве героя художественного («Александр I» Мережковского) или биографического произведения («Жуковский» Зайцева, “W.A. Joukowski” Эллиса), персонального претекста героя («Дело корнета Елагина», «Зойка и Валерия» Бунина, «Пнин» Набокова) или собственного неодушевленного заместителя (памятники и улицы в сочинениях Маяковского, Хармса, Ильфа и Петрова).
Во втором случае мы имеем дело с сознательной апроприацией тех фрагментов реципируемого наследия, которым сообщается статус парадигмальных – принципиально значимых в том или ином новом культурном контексте. Из творчества «старшего поэта» выбираются и подвергаются осмыслению и переосмыслению отдельные художественные образы, мотивы или связанные с именем художника жанры (особенно тогда, когда имя поэта и есть, в сущности, «имя» жанра; именно такой была связь Жуковского с жанром баллады). Один из таких примеров – история восприятия известной строки «Камоэнса» Жуковского «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли», ставшей точкой отсчета в «дискуссии» о природе поэзии для нескольких литературных поколений. Поэты конца XIX – первой половины XX вв. активно вступали в диалог с русским балладником, дописывая и/или переписывая его поэтический афоризм в диапазоне от «Поэзия есть зверь, пугающий людей!..» (К.М. Фофанов) до «Поэзия есть мысль, устроенная в теле» (Н.А. Заболоцкий)[96 - Об обработке этого образа Н. Заболоцким см.: Лощилов И. «Соединив безумие с умом…» О некоторых аспектах поэтического мира Н.А. Заболоцкого // Семиотика безумия: сб. ст. / сост. Н. Букс. Париж; М., 2005. С. 146.]. Как видно, в случае работы парадигмального рецептивного механизма личность предшественника отходит на второй план, а актуализируется его конкретное произведение или группа связанных между собой произведений. Ядром «парадигмального» Жуковского в первой половине XX в. становятся, наряду с формулой из «Камоэнса», также трансформации жанра баллады.
В целом, конечно, нельзя говорить о непреодолимости границы между мифологизирующим и парадигмальным типами рецепции: в отдельных случаях связь между «старшим» и «младшим» поэтами настолько сильна, что рецептивные тексты, относящиеся к двум выделенным типам, накладываются друг на друга. Примером здесь может стать творчество таких писателей, как И.А. Бунин и Б.К. Зайцев. Для первого тема родовой памяти оказывается тесно связанной с жанром баллады, семантическим ядром которой является проблема законного и незаконного – ключевая как для русской истории, так и для биографического мифа самого писателя, возводящего свою литературную генеалогию к Жуковскому – незаконнорожденному отпрыску рода Буниных. Для второго этическая концепция «тихих классиков» – духовной основы русской литературы – органично совпала с освоением философии и практики путешествий Жуковского и дала два литературных вектора: биографию-житие («Жуковский», пример мифологизирующей рецепции) и путешествие-паломничество («Путешествие Глеба», пример парадигмальной рецепции).
Характерным примером рецепции второго типа становится то, что к одной и той же парадигме тяготеет более одного художника. Например, богатый материал для переосмысления баллады представляет собой не только творчество Бунина, но и других писателей, например Набокова, который насыщает «Жуковским текстом» свой ориентированный на балладную поэтику роман «Лолита». Однако чаще всего балладное творчество писателей XX в. находится в русле памяти жанра, т.е. имперсональной традиции русской литературы, в которой имя Жуковского – лишь одно в ряду других поэтов, обращавшихся к жанру баллады. Сюда можно отнести балладные эксперименты Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой[97 - Образ Жуковского в контексте акмеистской эстетики реконструируется в ряде специальных работ. См.: Ичин К. Межтекстовой синтез в «Заблудившемся трамвае» Гумилева // Н. Гумилев и русский Парнас. Мат-лы науч. конф. 17–19 сентября 1991 г. СПб., 1992. С. 92–98; Тименчик Р.Д. Жуковский у Ахматовой. Фрагмент темы // Con amore: Историко-филологический сборник в честь Л.Н. Киселевой. М., 2010. С. 605–610; Поливанов К. «Светлана» Жуковского в «Докторе Живаго» Пастернака и «Поэме без героя» Ахматовой // Там же. С. 529–536.], М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака, советских, а также и многих современных балладников[98 - Войтехович Р. Неназываемый Жуковский в творческом мире Цветаевой // Пушкинские чтения в Тарту. Вып. 3. Тарту, 2004. С. 313–335; Гринберг И.Л. Три грани лирики: современная баллада, ода и элегия. М., 1985: Страшнов С.Л. «Молодеет и лад баллад»: Баллада в истории русской советской поэзии. М., 1991; Кукулин И. От Сваровского к Жуковскому и обратно: О том, как метод исследования конструирует литературный канон // Новое лит. обозрение. 2008. № 89. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2008/ 89/ku16.html (дата обращения: 26.12.2012).]. На этом основании случаи литературной традиции по причине своей неисчислимости нами не выделялись в отдельные главы и параграфы, а привлекались в качестве историко-литературного контекста.
При всецелом преобладании образа Пушкина на рецептивном горизонте эпохи серебряного века Жуковский занимал свое важное и неотъемлемое место в диалоге модернизма с традицией. Нахождение русского балладника в переплетении художественных стратегий начала – первой половины XX в. можно уподобить пребыванию посреди некоего рельефа, складки и неровности которого направляли рецептивные потоки или к Жуковскому, или в сторону от него. Одни художники в этом ландшафте заняли позицию отстоящих вершин, усвоив лишь отдельные элементы художественного языка поэта и не создав персонального рецептивного сюжета. Другие писатели и поэты, для которых наследие Жуковского стало органичной составляющей художественной ментальности и объективным элементом структуры текста, оказались в русле этого рецептивного течения. Художественное наследие Жуковского, совершившего прорыв от литературы, стоявшей на путях «культурного импорта»[99 - См.: Клейн И. Пути культурного импорта: труды по русской литературе XVIII века. М., 2005.] к «истинно-человеческой поэзии в России»[100 - Соловьев В.С. Родина русской поэзии. По поводу элегии «Сельское кладбище» // Вестник Европы. 1897. № 11. С. 347.], настолько масштабно, что следы его традиции можно отыскать практически у каждого отечественного литератора, однако «свой», реципированный Жуковский есть далеко не у всех.
Рассматривая обращенные к Жуковскому рецептивные «валентности» (ср. понятие Х.Р. Яусса «горизонт ожидания») литературы рубежа XIX–XX вв., скажем прежде всего о весьма важных ситуациях рецептивных неудач, знаковых лакун в конструировании «своего» Жуковского. Первую в этом перечне встречаем в наследии старших символистов. Преследуя цели многоаспектного перевода, переноса традиции западноевропейского модернизма в Россию, поэты поколения В.Я. Брюсова и К.Д. Бальмонта типологически, казалось, были близки Жуковскому-переводчику, однако творчество последнего усваивалось ими главным образом на уровне общего языка поэзии (это относится не только к Брюсову, но и к З.Н. Гиппиус, и к Ф.К. Сологубу), а совершавшиеся попытки мифологизировать образ первого русского романтика сопровождались выражением известной настороженности в его адрес (Д.С. Мережковский). В.Я. Брюсов, автор нескольких остроумных пародий на балладника, сочувственно отзывался о Жуковском, именуя его «поэтом нашей детской мечты, сказочником, которому мы все обязаны лучшими часами наших ранних лет»[101 - Брюсов В.Я. Собр. соч.: в 7 т. Т. 1. М., 1973. С. 653.]. Однако в его случае рецепция как диалог наталкивалась на полное несовпадение с ключевыми параметрами художественного мира поэта XIX столетия. В основе эстетической самопрезентации мэтра русского символизма находились такие составляющие, как декларативная вестернизация (здесь достаточно вспомнить разноязычные названия его сборников), демонический характер образа лирического героя, решительно противоречащая жизнестроительным принципам Жуковского парадигма любовного сюжета – сюжета соблазнения[102 - См. подробно на эту тему: Богомолов Н.А. Вокруг «серебряного века»: статьи и материалы. М., 2010. С. 93–203.], в разработке которого предшественниками Брюсова были скорее Лермонтов и Достоевский (ср. диаметрально противоположные в этическом и эстетическом отношениях лирические истории поэтов, ставшие стержневыми в их художественных картинах мира: Жуковский – Маша Протасова и Брюсов – Надежда Львова). Фронтальной и глубокой рецепции Жуковского словно не суждено было направиться по брюсовскому «руслу».
Интерес к Жуковскому значительно усилился у младосимволистов. Повышенный и, главное, сочувственный интерес к первому русскому романтику наблюдался практически у всех лидеров этого направления. Наиболее сильному влиянию подвергся Блок, в творчестве которого принято видеть финал традиции русского романтизма. Так, Р. Иванов-Разумник однажды высказался, что «Блок – поистине Жуковский минувшего символизма»[103 - Иванов-Разумник Р.В. Роза и Крест (Поэзия Александра Блока) // Александр Блок: pro et contra. СПб., 2004. С. 219.]. Подобное удвоение историко-литературного «места» поэта-предшественника во многом стало препятствием для мифологизирующей рецепции, хотя поэзия Жуковского сопровождала Блока на протяжении всего его творческого пути.
Андрей Белый оставил множество теплых слов о Жуковском и его воздействии на культурную эпоху начала XX в. Однако его собственный художественный мир в большей степени тяготел к прозе и стихопрозе, а рецептивная энергетика была устремлена к другому современнику Жуковского – Н.В. Гоголю[104 - См.: Белый А. Мастерство Гоголя. М.; Л., 1934.]. Наиболее последовательно миф о Жуковском был сформирован в творчестве другого младосимволиста – Эллиса, который, несмотря на тяжелые материальные условия жизни в эмиграции и языковой барьер, тем не менее стал автором немецкоязычной биографии поэта-романтика. Жуковский был значительной частью его творческого сознания: по сути, Эллис прочерчивает близкую блоковской цепь преемственности Жуковский – Фет – младосимволисты, однако наполняет ее личными биографическими смыслами и, вторя известным драматическим обстоятельствам из жизни Жуковского, формулирует концепцию «незаконнорожденности» русской литературы. И если уровень творческих достижений Эллиса, вероятно, сделает его имя лишь одним из многих в длинном ряду восходящей к Жуковскому традиции, то отчетливо индивидуальный характер его рецептивного диалога с поэтом-романтиком позволяет ему словно выйти из этого ряда, обрести в ретроспективе Жуковского свое особое лицо.
В круге акмеистов уместнее говорить скорее о традиции, чем о рецепции Жуковского. Уже И.Ф. Анненский, предвосхитивший эстетику «Цеха поэтов», весьма настороженно отнесся к мистицизму русского романтика; позднее же Жуковский прямо назывался А.А. Ахматовой главным предтечей русского символизма, от которого сами акмеисты стремились дистанцироваться. Футуристы, литературные наследники символизма, предложили проект авангардного искусства, ориентированного на живую звучащую речь, а потому облик Жуковского, литературного аристократа, в опытах футуристской рецепции получил роль оппонента и/или объекта сатиры «младших поэтов» (Маяковский, Хармс).
***
Исследование рецептивных процессов от столетнего юбилея рождения до столетия со дня смерти Жуковского показало эстетическую динамику восприятия личности и творчества стихотворца. Тексты, инспирированные первыми круглыми датами – 1883 и 1902 гг., тяготели к жанрам биографии, юбилейной статьи и стихотворения «по поводу». Несмотря на различия в акцентах, все они участвовали в едином процессе «канонизации» поэта (об этом подробно мы говорим в первой главе). Критика раннего модернизма продемонстрировала перспективы создания разных образов первого русского романтика. Аналогично феномену «моих Пушкиных», череду которых инициирует В.Я. Брюсов, литературная критика рубежа XIX–XX вв. становится мастерской по созданию разных ликов «моего Жуковского». В ней отдельные свойства образа и наследия поэта были доведены до абсолюта, формируя скорее броский и контрастный (и в силу этого очевидно внеисторический) «силуэт» русского балладника, нежели его детальный «литературный портрет» (см. главу 2).
Следующим этапом восприятия поэтического наследия Жуковского стало конструирование индивидуальных мифов о поэте в художественном творчестве писателей серебряного века. Общей закономерностью этого набора рецептивных практик стало «изобретение» цепочек традиции, восходящих к автору «Светланы» и ведущих, как правило, к самому данному автору. Если юбилейная рецепция 1883 и 1902 гг. была направлена на включение Жуковского в пантеон русских классиков, то осмысление линий традиции, возводящих литераторов XX столетия к художникам золотого века, определялось уже потребностью в самоидентификации и автолегитимации самих новых поэтов (см. главу 3, разделы 3.1–3.3). Закономерно, что после исторического переворота конца 1910-х – начала 1920-х гг. следующим этапом рецепции русского романтика является проблематизация и де-конструкция его классического статуса в авангарде и сатире 1910– 1920-х гг., а маркерами наследия Жуковского становятся не детали биографии и произведения русского романтика, а памятники и улицы, установленные и названные в его честь (см. главу 3, разделы 3.4–3.5).
Завершает историю рецепции эпохи модернизма художественные и филологические штудии В.В. Набокова, получившего реноме последнего модерниста и первого, наряду с Х.-Л. Борхесом, постмодерниста (глава 3, раздел 3.6).
Наконец, помимо индивидуально-авторских мифов о Жуковском принципиальное значение для нас имел парадигмальный срез рецепции, когда самостоятельное значение обретали отдельные образы и элементы поэтической системы, созданной стихотворцем-романтиком. Наиболее репрезентативными в этой перспективе предстали наставнический и рыцарский жизнетворческие сюжеты, отлившийся в известную формулу «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли» вопрос о сущности поэзии, а также процесс деканонизации и позднейших жанровых преобразований романтической баллады и травелога (см. главу 4).
Глава 1
Социальные аспекты рецепции творчества Жуковского на рубеже XIX–XX веков: писательские юбилеи и проблема классического канона
1.1. Юбилей 1883 года: пространство власти, механизмы конструирования поэтической биографии
Литературный юбилей обычно провоцирует всплеск интереса к фигуре юбиляра и становится той критической точкой, которая определяет его классический или неклассический статус[105 - См.: Вдовин А.В. Годовщина смерти литератора как праздник: к истории традиции в России (1850–1900-е гг.) // Festkultur in der russischen Literatur (18. bis 21. Jahrhundert) / Культура праздника в русской литературе XVIII–XXI вв. / отв. ред. A. Graf. M?nchen, 2010. С. 81–93.]. В то же время особенности юбилейных празднований и инспирированных ими текстов обусловлены не только (а часто и не столько) фактами жизни и творчества здравствующего или уже умершего виновника торжества, но в первую очередь общественно-литературным контекстом самой даты. Как заметил в посвященной В.А. Жуковскому речи Я.К. Грот, юбилей «дает нам возможность взглянуть с новой точки зрения на наше настоящее и на самих себя, проверить наши собственные помышления, желания и действия»[106 - Грот Я.К. Очерк жизни и поэзии Жуковского // Грот Я.К. Труды. Т. 3. Очерки истории русской литературы (1848–1893). Биографии, характеристики и критико-библиографические заметки / под ред. К.Я. Грота. СПб., 1901. С. 172. Цитируемая статья представляет собой полный вариант речи Я.К. Грота, прочитанной на публичном собрании Отделения русского языка и словесности в честь 100-летнего юбилея Жуковского 30 января 1883 г.], – показательно акцентировав отнесенность своего интереса не к прошлому, но к актуальному настоящему. Торжества в честь В.А. Жуковского, одного из создателей новой русской литературы, предоставляют обширный материал как для изучения «культа» первого русского романтика, его изменяющегося от эпохи к эпохе социокультурного реноме, так и для понимания самой «механики» юбилейных торжеств как акта исторической канонизации их виновника. Первый тезис, которым мы хотели бы открыть настоящую главу, заключается в том, что ключевые направления интерпретации наследия Жуковского, намеченные в юбилейный 1883 год, а затем усиленные во время следующих празднований в 1902 г., сформировали в конечном счете основные тенденции в осмыслении произведений и биографического мифа Жуковского в культуре fin de si?cle.
Точкой отсчета в посвященных Жуковскому юбилейных торжествах стал 1883 г. – 100-летний юбилей со дня рождения поэта. 1880-е гг. в русском историко-культурном процессе были очередным и во многом определяющим этапом становления литературного самосознания. За прошедший век русская литература преодолела путь от попыток включения западноевропейского литературного опыта в национальный до создания общепризнанных мировых шедевров. Подобная трансформация потребовала осмысления как истоков этого процесса, так и закономерностей действующего культурного механизма. Символическим рубежом в самосознании русской литературы, по наблюдению Ю.А. Молока, было открытие памятника А.С. Пушкину в 1880 г., ставшее крупным общественным событием и «актом <…> духовного самосознания» русской культуры[107 - Молок Ю.А. Пушкин в 1937 году. М., 2000. С. 11.]. Речи Достоевского, Тургенева и Аксакова, прозвучавшие на торжественном открытии монумента, обусловили дальнейшую рефлексию об истоках русской литературной классики. В этой атмосфере готовился и отмечался юбилей Жуковского 1883 г. Фигура поэта в это время отвечала культурному запросу времени: она одновременно попадала в поле осмысления путей русской классики и в поле набирающего обороты культа Пушкина – «ученика-победителя» Жуковского. Одна из посвященных Жуковскому праздничных брошюр начиналась показательными словами: «Двадцать девятое января – знаменательный день в истории умственного и литературного развития России! Это – день рождения дивного человека (курсив автора. – Е.А.) и поэта В.А. Жуковского и день кончины его гениального ученика, свободного поэта А.С. Пушкина»[108 - Витевский В.Н. В.А. Жуковский в своих письмах, как человек и наставник в Бозе почившего императора Александра II (1783–1883). Казань, 1883. С. 5.].
Следующим фактором, определившим особенности юбилея 1883 г., стала гибель Александра II в 1881 г. Смерть венценосного воспитанника Жуковского инспирировала обнародование значительного массива документов, связанных с биографией и деятельностью императора, которые не могли быть напечатаны при его жизни. К числу таких документов относится обширная переписка Жуковского с Александром Николаевичем, публикацию которой «Русский архив» приурочил к юбилею поэта[109 - См.: Письма Жуковского к государю императору Александру Николаевичу. Часть первая (1832–1839), с предисловием и пояснениями [Петра Бартенева] // Русский архив. 1883. Кн. 1. № 1. С. I–XXXII (первой пагинации); Письма Жуковского к Государю Императору Александру Николаевичу. Часть вторая. 1839–1941 (Болезнь в Могилеве. – Преподаватели наследника цесаревича. – Барон Розен. – Н.В. Гоголь. – Женитьба Жуковского) // Русский архив. 1883. Кн. 2. № 3. С. XXXIII–LVI; Письма В.А. Жуковского к Государю Императору Александру Николаевичу. Часть третья. 1842–1847. (Семейная жизнь. – Рождение дочери. – Значение самодержавия. – Кончина великой княгини Александры Николаевны. – Рождение сына. – Советы, как воспитывать великих князей. – Рейтерны. – Декабристы. – Кончина свояченицы) // Русский архив. 1883. Кн. 2. № 4. С. LVII–CLX.]. Так в начале 1880-х гг. начинают свое энергичное развитие темы Жуковского-педагога и Жуковского-наставника царя-освободителя. В опубликованных в 1883 г. юбилейных работах этот акцент особенно заметен[110 - Например, см.: Витевский В.Н. В.А. Жуковский в своих письмах, как человек и наставник…; Десницкий К. В.А. Жуковский, как человек, христианин, поэт и воспитатель. Вятка, 1883; Миллер О. В.А. Жуковский, как человек и как наставник Императора Александра II. М., 1883; Невзоров В. В.А. Жуковский. Биографический очерк и его воспитательное значение для русского общества. Казань, 1883.]. В речи, прочитанной на торжественном заседании Академии наук в честь юбилея Жуковского, профессор О.Ф. Миллер подчеркнул: «Да, мы не только счастливее, но и несчастнее Жуковского. И наше сегодняшнее светлое торжество невольно омрачается скорбью. Из-за могилы того, чей бессмертный дух нами в настоящее время чествуется, видится нам другая, еще слишком свежая и несказанно нам дорогая могила. Над этою всенародно чтимой могилой в сиянии незаходимого света начертано: “19 февраля”»[111 - В.А. Жуковский. Чествование его памяти в С.-Петербурге 29 и 30 января 1883 года. СПб., 1883. С. 43.].
Впрочем, мысль о благотворном нравственном влиянии Жуковского-наставника на наследника престола была высказана Миллером задолго до дня отмены крепостного права. Будущий профессор, а тогда юный студент Петербургского университета, он отозвался стихотворением на смерть Жуковского и опубликовал его в «Северной пчеле»:
Мир отдохнул. Зашла звезда Наполеона;