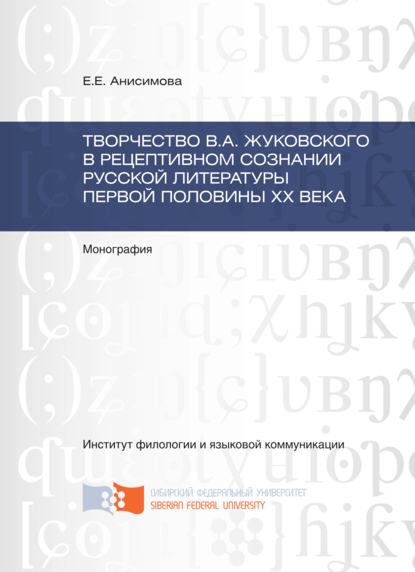По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Творчество В.А. Жуковского в рецептивном сознании русской литературы первой половины XX века
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не менее любопытен пример З.Н. Гиппиус, другой представительницы старшего поколения модернистов, которая в своих многочисленных литературно-критических статьях, а также «Литературном дневнике» писала о Жуковском почти исключительно как об авторе статьи «О смертной казни», уклоняясь от разговоров о его художественных произведениях. При этом характерно, что в критических эссе, написанных позднее, Гиппиус неоднократно обращалась к образам и отдельным строчкам из произведений Жуковского – но оперируя ими как loci communes, общими местами поэзии, не называя имени автора. Впрочем, подобные реминисценции в ее критике не выглядят «проходными», поскольку используются в таких семантически нагруженных фрагментах, как название («Мертвый младенец в руках») и эпиграф (статья «Мелькнувшее мгновенно», открывающаяся словами из стихотворения Жуковского «Песня» 1820 г.). Причем в первом случае аллюзия является еще и «нижним слоем» в палимпсестной конструкции: строки и образы переводной баллады Жуковского «Лесной царь» Гиппиус трансформировала в метафору состязания за наследие Вл. Соловьева и право считаться его продолжателями, борьбы, разгоревшейся между представителями старшего и младшего поколений религиозных философов. Последних критик сравнила с балладным всадником, который достиг цели своего пути, но утратил его смысл. Аналогичные примеры можно найти и в критике Мережковского, явно предпочитавшего «табуировать» имя Жуковского. Так, например, это правило положено в основу всей риторической конструкции статьи «Суворин и Чехов» (1914), где в качестве литературного комментария также используется «Лесной царь» без всяких отсылок к самому Жуковскому:
Какое-то наваждение, злая чара, колдовство проклятое, напоминающее сказку о «Лесном царе».
Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой…
«Дитя, что ко мне ты так робко прильнул»?
– Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул…
«Хладная мгла» – «русские потемки», как определяет сам Чехов безвременье 90-х годов, из которого он вышел; вышел и Суворин.
«Он в темной короне, с густой бородой».
– О, нет, то белеет туман над водой…
<…> У Суворина нет лжи в словах, но ложь в делах; он весь – воплощенная ложь, обман, туман над водой[215 - Мережковский Д.С. Акрополь: избр. лит.-критич. статьи. М., 1991. С. 289, 291.].
Исследователь критического наследия теоретика символизма Н.Г. Коптелова справедливо указала на диалогическую установку статьи Мережковского, однако, как можно заметить, диалог осуществляется не с персонифицированным Жуковским, а с его балладой, словно отделенной от переводчика и первого русского романтика. «Диалогическая структура эссе “Чехов и Суворин” обогащается и творческим освоением в нем текста баллады Гете “Лесной царь” в переводе Жуковского. Диалог Мережковского с этим стихотворением, по сути, выполняет мифотворческую функцию, раскрывая подоплеку иррациональной, необъяснимой привязанности и даже, как представляется критику, “слепой” любви Чехова к Суворину», – отмечает исследовательница[216 - Коптелова Н.Г. Проблема рецепции русской литературы XIX века в критике Д.С. Мережковского (1880–1917). Кострома, 2010. С. 46–47.].
Эхо этой традиции докатилось и до отдельных представителей следующего литературного поколения. Так, в систематизирующей работе М.А. Волошина «Лики творчества» (1904) ни разу имя Жуковского не называется прямо, однако косвенно – в виде анонимных цитат – его поэзия в книге присутствует. На данную тенденцию в наследии критиков, эстетиков и стихотворцев серебряного века впервые указал Р. Войтехович, анализировавший в этом аспекте творчество М.И. Цветаевой и обнаруживший скрытое присутствие в ее текстах «неназываемого Жуковского»[217 - См.: Войтехович Р. Неназываемый Жуковский в творческом мире М. Цветаевой // Пушкинские чтения в Тарту 3: Материалы международной научной конференции, посвященной 220-летию В.А. Жуковского и 200-летию Ф.И. Тютчева / ред. Л. Киселева. Тарту, 2004. С. 311–335.]. На наш взгляд, «замолчанные Жуковские», присутствующие в сознании поэтов рубежа веков, образуют своего рода традицию, один из векторов рецепции поэзии русского романтика. Традиция эта заявляет о себе в наследии уже первого русского теоретика модернизма – Д.С. Мережковского.
Целью настоящего раздела является исследование места поэзии и личности В.А. Жуковского в творческом сознании Д.С. Мережковского. Для ее достижения необходимо определить ту историко-литературную роль, которую в своей критике, политической эссеистике, художественной прозе и воспоминаниях Мережковский отвел первому русскому романтику. Литературно-критические и художественные произведения Мережковского являются наиболее показательными для осмысления феномена «неназываемого Жуковского» в критике раннего модернизма. С одной стороны, именно автор доклада «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1892) в своих эстетических манифестах начинает традицию «табуирования» имени поэта. С другой стороны, его художественная проза и статьи о других авторах позволяют заметить настойчивое стремление вытеснить признанного русского классика из самосознания новой эпохи. Похожая рецептивная закономерность подробно описана В. Паперным в его книге «Культура Два». Как показал исследователь, архитектура и скульптура имеют широкие возможности для буквальной материализации тех культурных тенденций, которые в словесности зачастую проступают завуалированно и незаметно для современников. Так, в середине 1930-х гг. в тень – в прямом и переносном смысле – был задвинут «пессимист» Н.В. Гоголь: памятник писателю работы Н.А. Андреева был перемещен с Гоголевского бульвара в глухой двор, так как «то, в чем с точки зрения культуры не хватает бодрости и живости, не должно маячить перед глазами»[218 - Паперный В. Культура Два. М., 2011. С. 166.]. Мережковский, стоявший в последнее десятилетие XIX в. во главе нового литературного направления, совершает, по существу, аналогичный культурный жест по отношению к русскому балладнику.
Тезис, которым мы бы хотели открыть этот фрагмент нашей работы, заключается в том, что фиксирующаяся в эстетике и критике Мережковского фигура «неназываемого Жуковского» знаменует не забвение как таковое, а свидетельствует об осмысленной попытке «задвинуть» поэта в тень историко-литературного процесса. В мотивах подобной стратегии Мережковского нам помогут разобраться как его отдельные литературно-критические ремарки, так и посвященный 1820-м гг. русской истории роман «Александр I» (1913), в котором поэзии и личности Жуковского была отведена ключевая роль.
***
Как мы помним, начиная с юбилейных торжеств 1883 г. Жуковский уверенно входит в пантеон отечественных классиков. Выполненная А. Вдовиным систематизация данных из хрестоматий XIX в. по русской литературе показала, что по числу публикаций в них Жуковский занимал уверенное третье место (862 раза), пропустив вперед только Пушкина (1577) и Крылова (1126), но сильно опередив Лермонтова (563), Батюшкова (193) и Баратынского (120), не говоря уже о поэтах второй половины XIX в.[219 - См.: Частотность авторов и их текстов в русских хрестоматиях XIX века (1805–1912) / сост. А.В. Вдовин // Acta Slavica Estonica IV. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, IX. Хрестоматийные тексты: русская педагогическая практика XIX в. и поэтический канон. Тарту, 2013. С. 310–317.] С учетом же того, что творчество Крылова было представлено в хрестоматиях только несколькими все время повторявшимися программными баснями, а присутствие Жуковского подразумевало включение как известных баллад и стихотворений, так и больших текстов разных жанров (сказка, героическая кантата, драма, поэма), по объему хрестоматийных текстов «побежденный учитель» проигрывал лишь «победителю-ученику» Пушкину. Именно на этих литературных образцах и их произведениях воспитывалось поколение будущих критиков и писателей-модернистов. Кроме того, признание той огромной роли, которую сыграл Жуковский в русской поэзии, не ограничивалось официальными мероприятиями и изданиями. Оно подкреплялось мнением авторитетного для символистов Вл. Соловьева, назвавшего творчество Жуковского «родиной русской поэзии» и «началом истинно человеческой поэзии в России»[220 - Соловьев В.С. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 118.].
Поэтому выстраивание Мережковским отечественного историко-литературного процесса вне Жуковского выглядит вдвойне красноречивым умолчанием. Свое отношение к поэту-романтику писатель приоткрывает в двух своих критических работах: «Л. Толстой и Достоевский» (1902) и «Две тайны русской поэзии» (1915). В первой из них Жуковский характерно «спрятан» за названия своих произведений. Впрочем, аналогичным образом Мережковский внедряет в свой труд и память о Н.М. Карамзине.
Почти невозможно представить себе князя Андрея с его беспощадно острою, точною и холодною, уже чрезмерно утонченною, уже столь болезненною, столь нашею (курсив автора. – Е.А.) чувствительностью, современником «Бедной Лизы», «Вадима», «Громобоя» и «Певца во стане русских воинов». Не кажется ли, что он прочел и прочувствовал не только Байрона, Лермонтова, но и Стендаля, Мэримэ, даже Флобера и Шопенгауэра?[221 - Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский / изд. подг. Е.А. Андрущенко. М., 2000. С. 106.]
Признавая в творчестве Жуковского и Карамзина важную для эпохи модернизма «чувствительность», Мережковский тем не менее предпочел дистанцироваться от нее. В образе толстовского князя Андрея критику виделся болезненный надрыв декаданса, а не руссоист-ская сентиментальность рубежа XVIII–XIX вв. Последняя казалась критику скорее отталкивающим, чем сближающим фактором. Между эпохой Жуковского и временем Толстого создатель русского символизма проводит резкую границу.
Была и другая грань образа Жуковского, которая не только вызывала неприятие Мережковского, но и вновь ставила русского балладника в один ряд с Карамзиным. Источником слишком «здоровой» чувствительности, которой отличались лучшие произведения Жуковского и Карамзина, была, по мнению критика, их ошибочная общественная позиция. В теоретических работах Мережковский открыто не демонстрировал свои историософские взгляды, но автокомментарии на эту тему нетрудно найти в его литературной критике и художественной прозе. Так, в статье «Две тайны русской поэзии» писатель детально развил свою концепцию русской литературы, финал эволюции которой он видел в рождении русского модернизма. Помимо того, что в этой работе к Жуковскому и Карамзину был добавлен Державин, в ней, самое главное, был выдвинут критерий, объединяющий этих столь разных литераторов в одну группу: подчиненное положение придворного поэта, едва ли в начале XIX в. пользовавшегося, на взгляд Мережковского, большей свободой, чем переводчик и одописец 1730–1740-х гг.:
Эта религиозная стихия православия отразилась и на русском сознании, на русской литературе.
Крепостное право – колыбель ее. Пеленами рабства повита, молоком рабства вскормлена. Можно сказать, что Державин, Карамзин, Жуковский родились и умерли в том положении тела и духа, в котором старинный придворный пиита, с одою в руках, полз на коленях к трону.
Пушкин встал на ноги[222 - Мережковский Д.С. В тихом омуте: статьи и исследования разных лет. М., 1991. С. 422.].
Разделяя либеральный миф о «сервильности» русского классицизма, Мережковский в своем романе «Александр I» прямо соотносит судьбы Державина, Карамзина и Жуковского с придворными унижениями их предшественника В.К. Тредиаковского:
– Ну, чего еще желать? – усмехнулся Пущин: – бывало, Тредиаковский, поднося оду императрице, от дверей к трону на коленях полз <…>[223 - Мережковский Д.С. Полн. собр. соч.: в 24 т. М., 1914. Т. 6. С. 244. Далее это издание цитируется в тексте с указанием тома и страницы в скобках.].
Дав в романе «Александр I» подробный портрет Жуковского, Мережковский иронизирует по аналогичному поводу: «На лице его превосходительства написано: “слава царю земному и небесному, – а я всем доволен, и жалованием, и наградными”» (VII. 198). Так образ поэта-романтика размещается Мережковским в пространстве фундаментальной национальной темы поэта и царя. Антитеза поэт и царь оставалась одной из основных мифологем творчества Мережковского на протяжении всего жизненного пути писателя и философа. Достаточно вспомнить такие его программные произведения, посвященные династии Романовых, как «Антихрист. Петр и Алексей», «Павел I», «Александр I», «14 декабря», а также написанный в соавторстве с З. Гиппиус и Д. Философовым сборник «Царь и революция». Во всех этих обширных произведениях конфликт власти и творческой личности имел моделирующее значение.
По наблюдению М. Мейлаха, истоки извечного конфликта поэта и царя «следует искать в глубокой архаике, в предыстории и сущностной природе поэзии и царской власти, что во многих культурах отражается в разделении функций священника и царя, царя и пророка»[224 - Мейлах М. Поэзия и власть // Лотмановский сборник. Вып. 3. М., 2004. С. 720.]. Природа противостояния поэта и царя, по мнению исследователя, заключается в следующем:
Поэт, имеющий власть над словом, «властелин имен», имеет власть и над миром и, таким образом, с царем конкурирует. Царь обеспечивает стабильность мира; поэт-демиург творит мир в слове (а значит, не только в слове), творит его заново, разрушая и пересоздавая его по вдохновению, и, стало быть, представляя собой опасность для царской власти, фиксирующей мир в застывающих формах. <…>.
Конфликт царя и поэта, таким образом, это конфликт между двумя формами власти, которые со временем кристаллизуются – первая, в формах земного могущества, другая – в форме настораживающей способности поэта не только быть внушаемым свыше, но и воплощать эти внушения в небезопасных словесных формах, которые могут непосредственно, в обход царя, воздействовать на мир, – не говоря уже о законной функции пророка – наставлять и, если надобно, обличать царя, передавая ему <…> слово Божие[225 - Там же. С. 723–724.].
Мережковский, находившийся в авангарде религиозно-философских поисков рубежа XIX–XX вв., как мало кто другой ощущал эту древнюю связь и по-своему видел миссию поэта в России. Устами декабристов в романе «Александр I» писатель оспаривает право императора действовать от лица христианства. Уравняв официальное православие с самодержавием, Мережковский направил духовные поиски своих персонажей к двум социокультурным полюсам, превозносившимся в модернистской поэтической среде: к мистическим сектам[226 - См.: Эткинд А. Хлыст (Секты, литература и революция). М., 1998.] и к творчеству свободолюбивых поэтов. В лице последних в романе выступают А.С. Пушкин и А.С. Грибоедов, не фигурирующие, впрочем, как герои, но часто упоминающиеся и организующие в романе своего рода персональные «тексты».
В сымитированном дневнике декабриста Голицына, одного из героев-протагонистов романа «Александр I», Мережковский комментирует «чувствительность» Карамзина, сочетающую меланхолическую сентиментальность с крепостничеством и верностью самодержавию:
Милый старик – весь тихий, тишайший, осенний, вечерний. Высокого роста; полуседые волосы на верх плешивой головы зачесаны; лицо продолговатое, тонкое, бледное; около рта две морщины глубокие: в них – Бедная Лиза – меланхолия и чувствительность. <…> Орденская звезда на длиннополой бекеше, тоже старинной <…>.
– Бог видит, люблю ли человечество и народ русский, но для истинного благополучия крестьян желаю единственно того, чтобы имели они добрых господ и средства к просвещению.
Встал, подошел к столу, отыскал письмо, к своим крестьянам в нижегородское имение Бортное и, как будто для совета с Катериной Андреевной, а на самом деле для моего наставления, прочел <…>. И в заключение приказ: «буянов, если не уймутся, высечь розгами».
А вечером над романом госпожи Сюз? опять будет плакать (VII. 138, 140).
«Хвалит Аракчеева», «бранит Пушкина» (VII. 140–141) – в привычной для себя антитетичной манере резюмирует автор. Сходными взглядами на политику и литературу отличался в романе Мережков-ского и персонаж Жуковского. Природа его романтизма также была очерчена при помощи приема имитации исторического документа – дневника супруги Александра I:
– Помилуйте, да русские мужики живут, как у Христа за пазухой! – воскликнул Жуковский. – То неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у доброго помещика нет во всей вселенной[227 - Вряд ли Мережковскому были неизвестны детали филантропической деятельности Жуковского и его настоящая позиция в отношении крепостного права. Наставническая миссия поэта при Царе-Освободителе и эпизод освобождения им Т. Шевченко широко освещались и комментировались в многочисленных юбилейных изданиях и на мероприятиях 1883 г. и 1902 г.].
<…> Начал извиняться за несогласное мнение о вольности и спросил, не сержусь ли я на него.
– Полноте, Василий Андреевич… Посмотрите-ка лучше, какая луна!
Мы шли пустынной аллеей, по берегу озера.
– Ох, уж эта мне луна! – поморщился он: – того и гляди, Отчет заставят писать…
О павловских лунных ночах пишет для императрицы отчеты в стихах <…>
Только от застарелой романтической грусти у него завалы в печени, и он, по совету медиков, на деревянной лошадке для моциона качается (VII. 197–198).
Согласно литературно-историософской программе Мережков-ского чувствительность старых поэтов являлась ложной по причине их подчинения престолу. Оттолкнувшись от этой посылки, Мережковский противопоставил «сервильности» Карамзина и Жуковского популярное в символизме «неонародничество», а «ложной» чувствительности в духе «Бедной Лизы» – новейшую изломанную чувственность[228 - См.: Матич О. Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de si?cle в России. М., 2008.], дальний прообраз которой Мережковский увидел в толстовском князе Андрее. В своей книге «Л. Толстой и Достоевский» он отделил этого персонажа «Войны и мира» от типичных читателей Карамзина и Жуковского, тем самым показав, что истоки «болезненной чувствительности» следует искать не только в современных западноевропейских литературных и философских веяниях, но и в общественно-политической позиции человека любой эпохи. Вопрос об отношении к власти и самодержавию заслонил для Мережковского явно осознаваемые им самим литературные связи с «чувствительными» поэтами-предшественниками. Преемственность по отношению к ним в контексте историософских и социально-политических воззрений критика-символиста выглядела нежелательной, а потому либо замалчивалась, либо отчуждалась.
Особенностью поэтической практики и эстетики русского модернизма стало соединение мистического понимания мира с позитивистскими подходами и, в частности, с социологизмом народничества конца XIX в. Так, по наблюдению А. Пайман, уже первые шаги на литературном поприще Д.С. Мережковского, автора манифеста, открывшего историю русского символизма, сопровождались восторженными откликами народнического критика А.М. Скабичевского[229 - Пайман А. История русского символизма. М., 2000. С. 33.]. Сам писатель в «Автобиографической заметке» рассказывал о сильном влиянии, которое оказали на него в юные годы Михайловский и Успенский, и подчеркивал особую для себя значимость «служения» народу (XXIV. 112–113). Позднее, уже в компании З.Н. Гиппиус, Мережковский отправился в новое «паломничество», прокомментировав цели своего «хождения в народ» следующим образом:
И вот что еще надо бы узнать: нет ли в глубинах русского народа сил, отвечающих нам. Нам нужно по-новому, по-своему «идти в народ». Не думайте, что я говорю это легкомысленно. Я чувствую, как это трудно, почти невозможно, труднее, чем нигилистам. Но, кажется, этого не избегнуть <…>. Но несомненно, что что-то везде, во всех (даже в марксистах) совершается, зреет, и мы пойдем навстречу. И тогда переход к народу будет проще, естественнее – через сектантов[230 - Цит. по: Эткинд А. Хлыст (Секты, литература и революция). С. 190.].
Мережковский перенес духовные поиски своего времени на александровскую эпоху. Так, не найдя полного удовлетворения своих запросов в идеях декабристов, один из главных героев романа «Александр I», Валерьян Голицын, начал посещать различные религиозные секты – от общины Екатерины Татариновой до скопцов. Другой персонаж, декабрист Михаил Лунин, показан Мережковским как «рыцарь Прекрасной Дамы» и последователь иезуитства. Символическое значение в романе приобрело имя София/Софья, отсылавшее одновременно к комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» и к религиозной философии Вл. Соловьева. Подобное временное смещение было для 1820-х гг. анахронизмом, но именно этот прием позволял писателю-модернисту символически связать две эпохи.
Народническая школа, которую прошел Мережковский, непроизвольно включала его в работу культурного механизма, который был описан Б.А. Успенским как непреходящая противопоставленность русского интеллигента любым институтам власти:
Интеллигенция прежде всего осмысляет себя в отношении к власти (в частности, к царю как олицетворению власти) и к народу. Отношение к власти и к народу определяет, так сказать, координаты семантического пространства, положительный и отрицательный полюсы: интеллигенция противопоставляет себя власти, и она служит народу (которому она тем самым фактически также себя противопоставляет)[231 - Успенский Б.А. Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры // Успенский Б.А. Этюды о русской истории. СПб., 2002. С. 396.].
Литература рассматривалась Мережковским в оптике конфликта с Государством, потому и модернистская свобода в его понимании приобретала отчетливые социальные подтексты и должна была противостоять представителям официального государственного курса. В целом резкие выпады писателя против русского самодержавия и его сторонников, поиски мистических способов воссоединения с народом стали органичной частью общего процесса нациестроительства и установки на соперничество интеллигента с монархом. Как показали современные исследования по истории и мифологии русской монархии, радикальная общественная позиция значительной части отечественной образованной элиты во многом была обусловлена тем изолированным положением, которое было ей уготовано в актуальном «сценарии власти»[232 - См.: Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии: в 2 Т. М., 2002–2004.]. Специально исследовавшая этот феномен и отталкивающаяся от идей Р. Уортмана И. Шевеленко отмечает:
<…> Начиная с царствования Николая I правящие элиты в России стремились утвердить такую концепцию политической нации, которая не входила бы в противоречие с режимом абсолютизма. Тем самым отрицался как неорганичный для России путь превращения народа в субъект и источник власти <…>. Связанный с этой общей тенденцией культурный миф об органическом единстве народа и царя как основе национального бытия окончательно сложился в царствование Александра III и был унаследован Николаем II. Для успешной эксплуатации этого мифа, по мнению Ричарда Уортмана, правящим элитам de facto потребовалось исключить образованный класс России, в особенности его элиты, из своего понимания нации/народа.
Разумеется, эти последние отнюдь не соглашались с подобной участью, и тот же Уортман указывал в другом месте, что конкуренция между монархической властью и образованным классом за право «представлять народ» составляла важный сюжет в интеллектуальной истории России XIX – начала XX века. В последние десятилетия XIX века эта конкуренция любопытно развивалась, среди прочего, в сфере эстетической <…>[233 - Шевеленко И. Империя и нация в воображении русского модернизма // Ab Imperio. 2009. № 3. С. 171–172.].