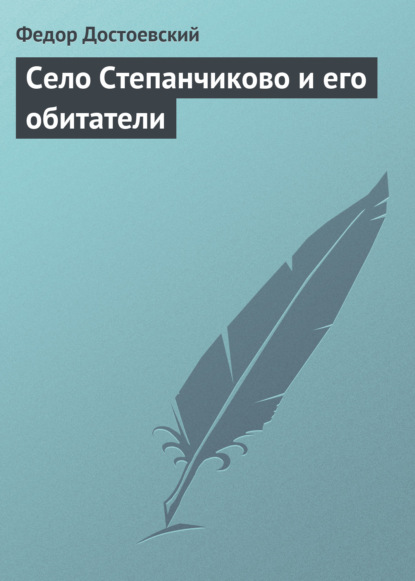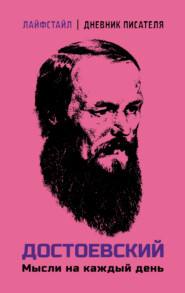По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Село Степанчиково и его обитатели
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Mais rеpondez donc,[3 - Да отвечай же (франц.).] Егорушка! – подхватывает генеральша, пожимая плечами.
– Я спрашиваю: горит ли в вас эта искра иль нет? – снисходительно повторяет Фома, взяв конфетку из бонбоньерки, которая всегда ставится перед ним на столе. Это уж распоряжение генеральши.
– Ей-богу, не знаю, Фома, – отвечает наконец дядя с отчаянием во взорах, – должно быть, что-нибудь есть в этом роде… Право, ты уж лучше не спрашивай, а то я совру что-нибудь…
– Хорошо! так, по-вашему, я так ничтожен, что даже не стою ответа, – вы это хотели сказать? Ну, пусть будет так; пусть я буду ничто.
– Да нет же, Фома, бог с тобой! Ну когда я это хотел сказать?
– Нет, вы именно это хотели сказать.
– Да клянусь же, что нет!
– Хорошо! пусть буду я лгун! пусть я, по вашему обвинению, нарочно изыскиваю предлога к ссоре; пусть ко всем оскорблениям присоединится и это – я все перенесу…
– Mais, mon fils…[4 - Но, сын мой (франц.).] – вскрикивает испуганная генеральша.
– Фома Фомич! маменька! – восклицает дядя в отчаянии. – Ей-богу же, я не виноват! так разве, нечаянно, с языка сорвалось!.. Ты не смотри на меня, Фома: я ведь глуп – сам чувствую, что глуп; сам слышу в себе, что нескладно… Знаю, Фома, все знаю! ты уж и не говори! – продолжает он, махая рукой. – Сорок лет прожил и до сих пор, до самой той поры, как тебя узнал, все думал про себя, что человек… ну и все там, как следует. А ведь и не замечал до сих пор, что грешен, как козел, эгоист первой руки и наделал зла такую кучу, что диво, как еще земля держит!
– Да, вы-таки эгоист! – замечает удовлетворенный Фома Фомич.
– Да уж я и сам понимаю теперь, что эгоист! Нет, шабаш! исправлюсь и буду добрее!
– Дай-то бог! – заключает Фома Фомич, благочестиво вздыхая и подымаясь с кресла, чтоб отойти к послеобеденному сну. Фома Фомич всегда почивал после обеда.
В заключение этой главы позвольте мне сказать собственно о моих личных отношениях к дяде и объяснить, каким образом я вдруг поставлен был глаз на глаз с Фомой Фомичом и нежданно-негаданно внезапно попал в круговорот самых важнейших происшествий из всех, случавшихся когда-нибудь в благословенном селе Степанчикове. Таким образом, я намерен заключить мое предисловие и прямо перейти к рассказу.
В детстве моем, когда я осиротел и остался один на свете, дядя заменил мне собою отца, воспитывал меня на свой счет и, словом, сделал для меня то, что не всегда сделает и родной отец. С первого же дня, как он взял меня к себе, я привязался к нему всей душой. Мне было тогда лет десять, и помню, что мы очень скоро сошлись и совершенно поняли друг друга. Мы вместе спускали кубарь и украли чепчик у одной презлой старой барыни, приходившейся нам обоим сродни. Чепчик я немедленно привязал к хвосту бумажного змея и запустил под облака. Много лет спустя я ненадолго свиделся с дядей уже в Петербурге, где я кончал тогда курс моего учения на его счет. В этот раз я привязался к нему со всем жаром юности: что-то благородное, кроткое, правдивое, веселое и наивное до последних пределов поразило меня в его характере и влекло к нему всякого. Выйдя из университета, я жил некоторое время в Петербурге, покамест ничем не занятый и, как часто бывает с молокососами, убежденный, что в самом непродолжительном времени наделаю чрезвычайно много чего-нибудь очень замечательного и даже великого. Петербурга мне оставлять не хотелось. С дядей я переписывался довольно редко, и то только когда нуждался в деньгах, в которых он мне никогда не отказывал. Между тем я уж слышал от одного дворового человека дяди, приезжавшего по каким-то делам в Петербург, что у них, в Степанчикове, происходят удивительные вещи. Эти первые слухи меня заинтересовали и удивили. Я стал писать к дяде прилежнее. Он отвечал мне всегда как-то темно и странно и в каждом письме старался только заговаривать о науках, ожидая от меня чрезвычайно много впереди по ученой части и гордясь моими будущими успехами. Вдруг, после довольно долгого молчания, я получил от него удивительное письмо, совершенно не похожее на все его прежние письма. Оно было наполнено такими странными намеками, таким сбродом противоположностей, что я сначала почти ничего и не понял. Видно было только, что писавший был в необыкновенной тревоге. Одно в этом письме было ясно: дядя серьезно, убедительно, почти умоляя меня, предлагал мне как можно скорее жениться на прежней его воспитаннице, дочери одного беднейшего провинциального чиновника, по фамилии Ежевикина, получившей прекрасное образование в одном учебном заведении, в Москве, на счет дяди, и бывшей теперь гувернанткой детей его. Он писал, что она несчастна, что я могу составить ее счастье, что я даже сделаю великодушный поступок, обращался к благородству моего сердца и обещал дать за нею приданое. Впрочем, о приданом он говорил как-то таинственно, боязливо и заключал письмо, умоляя меня сохранить все это в величайшей тайне. Письмо это так поразило меня, что, наконец, у меня голова закружилась. Да и на какого молодого человека, который, как я, только что соскочил со сковороды, не подействовало бы такое предложение, хотя бы, например, романическою своею стороною? К тому же я слышал, что эта молоденькая гувернантка – прехорошенькая. Я, однако ж, не знал, на что решиться, хотя тотчас же написал дяде, что немедленно отправляюсь в Степанчиково. Дядя выслал мне, при том же письме, и денег на дорогу. Несмотря на то, я, в сомнениях и даже в тревоге, промедлил в Петербурге три недели. Вдруг случайно встречаю одного прежнего сослуживца дяди, который, возвращаясь с Кавказа в Петербург, заезжал по дороге в Степанчиково. Это был уже пожилой и рассудительный человек, закоренелый холостяк. С негодованием рассказал он мне про Фому Фомича и тут же сообщил мне одно обстоятельство, о котором я до сих пор еще не имел никакого понятия, именно, что Фома Фомич и генеральша задумали и положили женить дядю на одной престранной девице, перезрелой и почти совсем полоумной, с какой-то необыкновенной биографией и чуть ли не с полумиллионом приданого; что генеральша уже успела уверить эту девицу, что они между собою родня, и вследствие того переманить к себе в дом; что дядя, конечно, в отчаянии, но, кажется, кончится тем, что непременно женится на полумиллионе приданого; что, наконец, обе умные головы, генеральша и Фома Фомич, воздвигли страшное гонение на бедную, беззащитную гувернантку детей дяди, всеми силами выживают ее из дома, вероятно, боясь, чтоб полковник в нее не влюбился, а может, и оттого, что он уже и успел в нее влюбиться. Эти последние слова меня поразили. Впрочем, на все мои расспросы: уж не влюблен ли дядя в самом деле, рассказчик не мог или не хотел дать мне точного ответа, да и вообще рассказывал скупо, нехотя и заметно уклонялся от подобных объяснений. Я задумался: известие так странно противоречило с письмом дяди и с его предложением!.. Но медлить было нечего. Я решился ехать в Степанчиково, желая не только вразумить и утешить дядю, но даже спасти его по возможности, то есть выгнать Фому, расстроить ненавистную свадьбу с перезрелой девой и, наконец, – так как, по моему окончательному решению, любовь дяди была только придирчивой выдумкой Фомы Фомича, – осчастливить несчастную, но, конечно, интересную девушку предложением руки моей и проч. и проч. Мало-помалу я так вдохновил и настроил себя, что, по молодости лет и от нечего делать, перескочил из сомнений совершенно в другую крайность: я начал гореть желанием как можно скорее наделать разных чудес и подвигов. Мне казалось даже, что я сам выказываю необыкновенное великодушие, благородно жертвуя собою, чтоб осчастливить невинное и прелестное создание, – словом, я помню, что во всю дорогу был очень доволен собой. Был июль; солнце светило ярко; кругом меня развертывался необъятный простор полей с дозревавшим хлебом… А я так долго сидел закупоренным в Петербурге, что, казалось мне, только теперь настоящим образом взглянул на свет божий!
II. Господин Бахчеев
Я уже приближался к цели моего путешествия. Проезжая маленький городок Б., от которого оставалось только десять верст до Степанчикова, я принужден был остановиться у кузницы, близ самой заставы, по случаю лопнувшей шины на переднем колесе моего тарантаса. Закрепить ее кое-как, для десяти верст, можно было довольно скоро, и потому я решился, никуда не заходя, подождать у кузницы, покамест кузнецы справят дело. Выйдя из тарантаса, я увидел одного толстого господина, который, так же как и я, принужден был остановиться для починки своего экипажа. Он стоял уже целый час на нестерпимом зное, кричал, бранился и с брюзгливым нетерпением погонял мастеровых, суетившихся около его прекрасной коляски. С первого же взгляда этот сердитый барин показался мне чрезвычайной брюзгой. Он был лет сорока пяти, среднего роста, очень толст и ряб. Толстота, кадык и пухлые, отвислые его щеки свидетельствовали о блаженной помещичьей жизни. Что-то бабье было во всей его фигуре и тотчас же бросалось в глаза. Одет он был широко, удобно, опрятно, но отнюдь не по моде.
Не понимаю, почему он и на меня рассердился, тем более что видел меня первый раз в жизни и еще не сказал со мною ни слова. Я заметил это, как только вылез из тарантаса, по необыкновенно сердитым его взглядам. Мне, однако ж, очень хотелось с ним познакомиться. По болтовне его слуг я догадался, что он едет теперь из Степанчикова, от моего дяди, и потому был случай о многом порасспросить. Я было приподнял фуражку и попробовал со всевозможною приятностью заметить, как неприятны иногда бывают задержки в дороге; но толстяк окинул меня как-то нехотя недовольным и брюзгливым взглядом с головы до сапог, что-то проворчал себе под нос и тяжело поворотился ко мне всей поясницей. Эта сторона его особы, хотя и была предметом весьма любопытным для наблюдений, но, уж конечно, от нее нельзя было ожидать разговора приятного.
– Гришка! не ворчать под нос! выпорю!.. – закричал он вдруг на своего камердинера, как будто совершенно не слыхав того, что я сказал о задержках в дороге.
Этот «Гришка» был седой, старинный слуга, одетый в длиннополый сюртук и носивший пребольшие седые бакенбарды. Судя по некоторым признакам, он тоже был очень сердит и угрюмо ворчал себе под нос. Между барином и слугой немедленно произошло объяснение.
– Выпорешь! ори еще больше! – проворчал Гришка будто про себя, но так громко, что все это слышали, и с негодованием отвернулся что-то приладить к коляске.
– Что? что ты сказал? «Ори еще больше»?.. грубиянить вздумал! – закричал толстяк, весь побагровев.
– Да чего вы взъедаться в самом деле изволите? Слова сказать нельзя!
– Чего взъедаться? Слышите? На меня же ворчит, а мне и не взъедаться!
– Да за что я буду ворчать?
– За что ворчать… А то, небось, нет? Я знаю, за что ты будешь ворчать: за то, что я от обеда уехал, – вот за что.
– А мне что! По мне хоть совсем не обедайте. Я не на вас ворчу; кузнецам только слово сказал.
– Кузнецам… А на кузнецов чего ворчать?
– А не на них, так на экипаж ворчу.
– А на экипаж чего ворчать?
– А зачем изломался! Вперед не ломайся, а в целости будь.
– На экипаж… Нет, ты на меня ворчишь, а не на экипаж. Сам виноват, да он же и ругается!
– Да что вы, сударь, в самом деле пристали? Отстаньте, пожалуйста!
– А чего ты всю дорогу сычом сидел, слова со мной не сказал, – а? Говоришь же в другие разы!
– Муха в рот лезла – оттого и молчал и сидел сычом. Что, я вам сказки, что ли, буду рассказывать? Сказочницу Маланью берите с собой, коли сказки любите.
Толстяк раскрыл было рот, чтоб возразить, но, очевидно, не нашелся и замолчал. Слуга же, довольный своей диалектикой и влиянием на барина, выказанным при свидетелях, с удвоенной важностию обратился к рабочим и начал им что-то показывать.
Попытки мои познакомиться оставались тщетными, особенно при моей неловкости; но мне помогло непредвиденное обстоятельство. Одна заспанная, неумытая и непричесанная физиономия внезапно выглянула из окна закрытого каретного кузова, с незапамятных времен стоявших без колес у кузницы и ежедневно, но тщетно ожидавшего починки. С появлением этой физиономии раздался между мастеровыми всеобщий смех. Дело в том, что человек, выглянувший из кузова, был в нем накрепко заперт и теперь не мог выйти. Проспавшись в нем хмельной, он тщетно просился теперь на свободу; наконец стал просить кого-то сбегать за его инструментом. Все это чрезвычайно веселило присутствовавших.
Есть такие натуры, которым в особенную радость и веселье бывают довольно странные вещи. Гримасы пьяного мужика, человек, споткнувшийся и упавший на улице, перебранка двух баб и проч. и проч. на эту тему производят иногда в иных людях самый добродушный восторг, неизвестно почему. Толстяк-помещик принадлежал именно к такого рода натурам. Мало-помалу его физиономия из грозной и угрюмой стала делаться довольной и ласковой и, наконец, совсем прояснилась.
– Да это Васильев? – спросил он с участием. – Да как он туда попал?
– Васильев, сударь, Степан Алексеич, Васильев! – закричали со всех сторон.
– Загулял, сударь, – прибавил один из работников, человек пожилой, высокий и сухощавый, с педантски строгим выражением лица и с поползновением на старшинство между своими, – загулял, сударь, от хозяина третий день как ушел, да у нас и хоронится, навязался к нам! Вот стамеску просит. Ну, на что тебе теперь стамеска, пустая ты голова? Последний струмент закладывать хочет!
– Эх, Архипушка! деньги – голуби: прилетят и опять улетят! Пусти, ради небесного создателя, – молил Васильев тонким, дребезжащим голосом, высунув из кузова голову.
– Да сиди ты, идол, благо попал! – сурово отвечал Архип. – Глаза-то еще с третьёва дня успел переменить; с улицы сегодня на заре притащили; моли Бога – спрятали, Матвею Ильичу сказали: заболел, «запасные, дескать, колотья у нас проявились».
Смех раздался вторично.
– Да стамеска-то где?
– Да у нашего Зуя! Наладил одно! пьющий человек, как есть, сударь, Степан Алексеич.
– Хе-хе-хе! Ах, мошенник! Так ты вот как в городе работаешь: инструмент закладываешь! – прохрипел толстяк, захлебываясь от смеха, совершенно довольный и пришедший вдруг в наиприятнейшее расположение духа.
– А ведь столяр такой, что и в Москве поискать! Да вот так-то он всегда себя аттестует, мерзавец, – прибавил он, совершенно неожиданно обратившись ко мне. – Выпусти его, Архип: может, ему что и нужно.
Барина послушались. Гвоздь, которым забили каретную дверцу более для того, чтобы позабавиться над Васильевым, когда тот проспится, был вынут, и Васильев показался на свет божий испачканный, неряшливый и оборванный. Он замигал от солнца, чихнул и покачнулся; потом, сделав рукой над глазами щиток, осмотрелся кругом.
– Народу-то, народу-то! – проговорил он, качая головой. – И всё, чай, тре…звые, – протянул он в каком-то грустном раздумье, как бы в упрек самому себе. – Ну, с добрым утром, братцы, с наступающим днем.