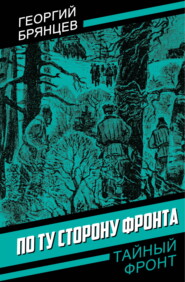По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
По тонкому льду
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы потратили на разговор с ней два с лишним часа и к допросу, снятому сотрудником угрозыска, не прибавили ни одной подробности, если не считать эпизода с кошкой.
Вслед за Кульковой вызвали шофера Мигалкина. Это был очень смышленый молодой человек, отлично понимающий, что его короткая, но трудная биография обязывает его быть особенно разборчивым в выборе средств к достижению своей цели. А жизненная цель его предельно ясна. Он изложил ее доходчиво и кратко. Сейчас он шофер второго класса, а к концу года получит первый. Через год попытается поступить в институт, хочет стать инженером-автомобилистом, возможно – конструктором. И только. Ни больше ни меньше. Что отец его эмигрант, враг советского строя – он не скрывал и не намерен скрывать. Они расстались навсегда. Подобно отцу, он мог стать чиновником, или коммерсантом, или переводчиком у японцев. Японским языком он владеет почти так же, как русским. Он мог, наконец, остаться на той стороне. Хотя в Россию его никто не приглашал, но и из Харбина не выгоняли. Он уехал по собственной воле и считает, что это первый действительно верный шаг в его самостоятельной жизни. Был ли отец против его отъезда? Нет! Больше того, именно отец первый подал ему эту мысль. Он сказал: «Ты, Серафим, русский, родился в России, должен жить и умереть там». За эти слова ему превеликое спасибо. Сам отец не собирается возвращаться на родину. У него свои счеты с советской властью. До революции он был видным чиновником, состоятельным человеком, имел трехэтажный дом в Воронеже, прекрасную дачу в. Ялте, приличный счет в банке. В шестнадцатом году он перебрался в Москву, купил скромный домик из девяти комнат с чудесным садом и, главное, автомобиль. Автомобиль французской марки, о котором мечтал долгие годы. И все это через год вылетело в трубу. А тут еще политические разногласия… Помирить кадетов и большевиков было невозможно, а старик был активным членом партии кадетов.
Вот так… Значит, с отцом у Мигалкина дороги разошлись…
Если следствие хочет знать, почему он остановился на профессии шофера, ответить нетрудно: еще мальчишкой тянулся к ней, любил ее и не думал ни о чем другом.
Знает ли он о том, что школа в Харбине, которую он окончил, готовила диверсантов и террористов? Точно не знает. Ходили слухи. Но ему лично никто и никогда никаких предложений не делал.
По делу, которое интересует следствие, готов сообщить все без утайки. Да, он действительно подвез на своей трехтонке со станции в город в ночь с двенадцатого на тринадцатое февраля двух пассажиров: мужчину и женщину. Нет, сам он не набивался. Наоборот, они напросились. Встретился с ними на перроне часа три спустя после прихода поезда возле багажного склада, где получал четыре ящика с запасными частями.
Мужчина спросил его, где можно остановиться приезжим. Мигалкин ответил, что гостиницы в городе нет, приезжие устраиваются кто как может, но он знает одну квартирную хозяйку, у которой раньше жил. Речь шла о Кульковой. Мужчина согласился – на том и порешили. Перед тем, как отправиться в путь, мужчина обратился со вторым вопросом: не слышал ли Мигалкин о ветвраче Проскурякове, жителе города? Мигалкин не знал Проскурякова.
О Кульковой он может сказать, что это особа жадная и сварливая. Живет на доходы от двух коров и квартиры, которую сдает приезжим. В прошлом она совершила какие-то преступления, о которых рассказывает очень туманно и без особого желания. Кулькова – женщина со странностями. Супружеской жизни не признает, но очень любит детей. Совершенно не употребляет в пищу мяса, однако пристрастна к спиртным напиткам.
Знала ли Кулькова мужчину и женщину, что приехали ночью в город? Нет, не знала. В этом Мигалкин уверен.
Может ли он описать внешность незнакомца? Конечно! Он хорошо разглядел его. Это мужчина лет тридцати пяти, выше среднего роста, с запоминающимся, открытым, энергичным, гладко выбритым лицом и большим лбом. Недурен собой. На таких обычно обращают внимание.
Вот все, что рассказал Мигалкин. И это было уже известно по материалам допроса уголовного розыска.
Геннадий попытался для большего воздействия повысить голос, но Мигалкин спокойно и вежливо предупредил его:
– Можно говорить тише. У меня отличный слух.
В конце допроса Геннадий снова применил, как и в разговоре с Кульковой, провокационный ход.
– Мы располагаем данными, что вы не случайно встретились с попутчиками на станции, а ездили встречать их.
Мигалкин опять-таки очень вежливо и резонно ответил:
– Если об одном и том же двое говорят по-разному, то кто-то из них лжет и пытается ввести следствие в заблуждение. В ваших силах проверить как мои показания, так и данные, о которых вы упомянули. И тот, кто лжет, получит удовольствие познакомиться со статьей, о которой вы предупредили меня перед допросом…
Нет-нет… Мигалкин был парень очень смышленый, рассудительный, и Геннадий, мне думается, понял это.
Когда мы остались одни, а это произошло около одиннадцати ночи, Безродный сказал:
– Надо во что бы то ни стало расколоть эту контру.
– Кого конкретно вы имеете в виду? – счел нужным уточнить я.
– Обоих, – угрюмо ответил Безродный.
– Вы уверены, что они контрреволюционеры?
– Я убежден, что они соучастники преступления. Налицо сговор.
– Так вы убедите и нас в этом, товарищ старший лейтенант! – попросил Дим-Димыч.
– Постараюсь, – ядовито заметил Безродный и посмотрел на стенные часы. – Теперь отдыхать. Завтра с утра вы, товарищ Трапезников, загляните в берлогу Кульковой и побеседуйте с жильцами. А вы… – Он повернулся к Брагину.
– Я хочу предложить… – неосторожно прервал его Дим-Димыч, но Геннадий не дал ему высказаться.
– Вы будете делать то, что прикажу я. Договоритесь в больнице, чтобы труп убитой положили в ледник и сохранили. Это раз. Сходите в автохозяйство, где работает Мигалкин, и возьмите на него характеристику. Это два. Установите, живет ли в городе ветврач Проскуряков, и соберите сведения о нем. Это три. Договоритесь с уголовным розыском, чтобы размножили фото убитой. Это четыре. Пока все. Ясно?
– Предельно, товарищ старший лейтенант! – ответил Дим-Димыч.
15 февраля 1939 г.
(среда)
Утром каждый занимался своим делом. Дим-Димыч отправился в больницу. Безродный опять вызвал на допрос Кулькову, а я пошел на Старолужскую улицу.
Какое-то чувство подсказывало мне, что я понапрасну трачу время.
Стоило только переступить порог входной двери, как весь дом ожил и зашевелился, словно встревоженный муравейник. По коридорам зашлепали босые ноги, зашаркали башмаки, началось многоголосое шушуканье.
Я постоял некоторое время, осваиваясь с полумраком, и постучал в первую дверь налево.
Меня встретила улыбающаяся женщина. С ее разрешения я вошел в комнату, сел на расшатанный стул и повел беседу. За стеной в коридоре все время улавливались какие-то подозрительные шорохи. Они меня нервировали. Я шагнул к двери, толкнул ее: прилипнув к косяку, стояла курносая девчонка лет двенадцати.
– Ты что здесь торчишь? – строго спросил я.
Она прыснула, прикрыла рот рукой и убежала…
Я обошел шесть квартир и покинул злополучный дом уже под вечер, усталый и голодный.
Предчувствие мое оправдалось. Ничего интересного беседы не дали. О Кульковой говорили всякие небылицы, но к делу это не имело никакого отношения.
Наконец дом на Старолужской улице остался далеко позади, и я вернулся в районное отделение.
Дим-Димыч все поручения Безродного выполнил. Автохозяйство дало Мигалкину блестящую характеристику.
Ветврач Проскуряков Никодим Сергеевич действительно жил в городе, но совсем недавно, месяц назад, умер.
Доложить результаты Безродному сразу не удалось. Запершись в кабинете, он что-то печатал на пишущей машинке.
Пользуясь передышкой, мы – я, Дим-Димыч и Каменщиков – сели в дежурной комнате и стали обмениваться мнениями. Для меня было ясно, что следствие зашло в тупик. Руководство управления допустило ошибку, согласившись с доводами Каменщикова и приняв это дело в свое производство. Пока я не видел под ним никакой политической подоплеки.
Вот если бы к убийству имели непосредственное отношение Мигалкин и Кулькова, тогда можно было бы что-то предполагать, подозревать. А сейчас вся эта таинственная история оборачивалась самым банальным образом. По-видимому, муж решил избавиться от своей благоверной – мало ли причин к этому, – завез ее в глубокую провинцию и тут совершил свой злодейский замысел. Правда, он почему-то прибег к такому необычному способу, как эмболия, но тут уж дело вкуса. Кому что нравится!
Я высказал свое мнение Каменщикову и Дим-Димычу и добавил, что было бы правильно немедля возвратить все материалы уголовному розыску.
Каменщиков запротестовал. Он, как и Безродный, придерживался точки зрения, что и Кулькова, и Мигалкин причастны к убийству, и был против возвращения материалов органам милиции.
Дим-Димыч согласился с Каменщиковым в той части, что материалы не следует возвращать милиции, по крайней мере до той поры, пока не станет окончательно ясно, что налицо чисто уголовное преступление. А относительно причастности к убийству Кульковой и Мигалкина мнение его не расходилось с моим.
– Мы должны, – сказал Дим-Димыч, – наметить себе минимум и осуществить его. Этим минимумом я считаю опознание убитой и установление личности ее спутника. Только тогда нам, возможно, удастся определить, с чем мы столкнулись: с уголовным или политическим преступлением. А сейчас мы топчемся на месте.
Вслед за Кульковой вызвали шофера Мигалкина. Это был очень смышленый молодой человек, отлично понимающий, что его короткая, но трудная биография обязывает его быть особенно разборчивым в выборе средств к достижению своей цели. А жизненная цель его предельно ясна. Он изложил ее доходчиво и кратко. Сейчас он шофер второго класса, а к концу года получит первый. Через год попытается поступить в институт, хочет стать инженером-автомобилистом, возможно – конструктором. И только. Ни больше ни меньше. Что отец его эмигрант, враг советского строя – он не скрывал и не намерен скрывать. Они расстались навсегда. Подобно отцу, он мог стать чиновником, или коммерсантом, или переводчиком у японцев. Японским языком он владеет почти так же, как русским. Он мог, наконец, остаться на той стороне. Хотя в Россию его никто не приглашал, но и из Харбина не выгоняли. Он уехал по собственной воле и считает, что это первый действительно верный шаг в его самостоятельной жизни. Был ли отец против его отъезда? Нет! Больше того, именно отец первый подал ему эту мысль. Он сказал: «Ты, Серафим, русский, родился в России, должен жить и умереть там». За эти слова ему превеликое спасибо. Сам отец не собирается возвращаться на родину. У него свои счеты с советской властью. До революции он был видным чиновником, состоятельным человеком, имел трехэтажный дом в Воронеже, прекрасную дачу в. Ялте, приличный счет в банке. В шестнадцатом году он перебрался в Москву, купил скромный домик из девяти комнат с чудесным садом и, главное, автомобиль. Автомобиль французской марки, о котором мечтал долгие годы. И все это через год вылетело в трубу. А тут еще политические разногласия… Помирить кадетов и большевиков было невозможно, а старик был активным членом партии кадетов.
Вот так… Значит, с отцом у Мигалкина дороги разошлись…
Если следствие хочет знать, почему он остановился на профессии шофера, ответить нетрудно: еще мальчишкой тянулся к ней, любил ее и не думал ни о чем другом.
Знает ли он о том, что школа в Харбине, которую он окончил, готовила диверсантов и террористов? Точно не знает. Ходили слухи. Но ему лично никто и никогда никаких предложений не делал.
По делу, которое интересует следствие, готов сообщить все без утайки. Да, он действительно подвез на своей трехтонке со станции в город в ночь с двенадцатого на тринадцатое февраля двух пассажиров: мужчину и женщину. Нет, сам он не набивался. Наоборот, они напросились. Встретился с ними на перроне часа три спустя после прихода поезда возле багажного склада, где получал четыре ящика с запасными частями.
Мужчина спросил его, где можно остановиться приезжим. Мигалкин ответил, что гостиницы в городе нет, приезжие устраиваются кто как может, но он знает одну квартирную хозяйку, у которой раньше жил. Речь шла о Кульковой. Мужчина согласился – на том и порешили. Перед тем, как отправиться в путь, мужчина обратился со вторым вопросом: не слышал ли Мигалкин о ветвраче Проскурякове, жителе города? Мигалкин не знал Проскурякова.
О Кульковой он может сказать, что это особа жадная и сварливая. Живет на доходы от двух коров и квартиры, которую сдает приезжим. В прошлом она совершила какие-то преступления, о которых рассказывает очень туманно и без особого желания. Кулькова – женщина со странностями. Супружеской жизни не признает, но очень любит детей. Совершенно не употребляет в пищу мяса, однако пристрастна к спиртным напиткам.
Знала ли Кулькова мужчину и женщину, что приехали ночью в город? Нет, не знала. В этом Мигалкин уверен.
Может ли он описать внешность незнакомца? Конечно! Он хорошо разглядел его. Это мужчина лет тридцати пяти, выше среднего роста, с запоминающимся, открытым, энергичным, гладко выбритым лицом и большим лбом. Недурен собой. На таких обычно обращают внимание.
Вот все, что рассказал Мигалкин. И это было уже известно по материалам допроса уголовного розыска.
Геннадий попытался для большего воздействия повысить голос, но Мигалкин спокойно и вежливо предупредил его:
– Можно говорить тише. У меня отличный слух.
В конце допроса Геннадий снова применил, как и в разговоре с Кульковой, провокационный ход.
– Мы располагаем данными, что вы не случайно встретились с попутчиками на станции, а ездили встречать их.
Мигалкин опять-таки очень вежливо и резонно ответил:
– Если об одном и том же двое говорят по-разному, то кто-то из них лжет и пытается ввести следствие в заблуждение. В ваших силах проверить как мои показания, так и данные, о которых вы упомянули. И тот, кто лжет, получит удовольствие познакомиться со статьей, о которой вы предупредили меня перед допросом…
Нет-нет… Мигалкин был парень очень смышленый, рассудительный, и Геннадий, мне думается, понял это.
Когда мы остались одни, а это произошло около одиннадцати ночи, Безродный сказал:
– Надо во что бы то ни стало расколоть эту контру.
– Кого конкретно вы имеете в виду? – счел нужным уточнить я.
– Обоих, – угрюмо ответил Безродный.
– Вы уверены, что они контрреволюционеры?
– Я убежден, что они соучастники преступления. Налицо сговор.
– Так вы убедите и нас в этом, товарищ старший лейтенант! – попросил Дим-Димыч.
– Постараюсь, – ядовито заметил Безродный и посмотрел на стенные часы. – Теперь отдыхать. Завтра с утра вы, товарищ Трапезников, загляните в берлогу Кульковой и побеседуйте с жильцами. А вы… – Он повернулся к Брагину.
– Я хочу предложить… – неосторожно прервал его Дим-Димыч, но Геннадий не дал ему высказаться.
– Вы будете делать то, что прикажу я. Договоритесь в больнице, чтобы труп убитой положили в ледник и сохранили. Это раз. Сходите в автохозяйство, где работает Мигалкин, и возьмите на него характеристику. Это два. Установите, живет ли в городе ветврач Проскуряков, и соберите сведения о нем. Это три. Договоритесь с уголовным розыском, чтобы размножили фото убитой. Это четыре. Пока все. Ясно?
– Предельно, товарищ старший лейтенант! – ответил Дим-Димыч.
15 февраля 1939 г.
(среда)
Утром каждый занимался своим делом. Дим-Димыч отправился в больницу. Безродный опять вызвал на допрос Кулькову, а я пошел на Старолужскую улицу.
Какое-то чувство подсказывало мне, что я понапрасну трачу время.
Стоило только переступить порог входной двери, как весь дом ожил и зашевелился, словно встревоженный муравейник. По коридорам зашлепали босые ноги, зашаркали башмаки, началось многоголосое шушуканье.
Я постоял некоторое время, осваиваясь с полумраком, и постучал в первую дверь налево.
Меня встретила улыбающаяся женщина. С ее разрешения я вошел в комнату, сел на расшатанный стул и повел беседу. За стеной в коридоре все время улавливались какие-то подозрительные шорохи. Они меня нервировали. Я шагнул к двери, толкнул ее: прилипнув к косяку, стояла курносая девчонка лет двенадцати.
– Ты что здесь торчишь? – строго спросил я.
Она прыснула, прикрыла рот рукой и убежала…
Я обошел шесть квартир и покинул злополучный дом уже под вечер, усталый и голодный.
Предчувствие мое оправдалось. Ничего интересного беседы не дали. О Кульковой говорили всякие небылицы, но к делу это не имело никакого отношения.
Наконец дом на Старолужской улице остался далеко позади, и я вернулся в районное отделение.
Дим-Димыч все поручения Безродного выполнил. Автохозяйство дало Мигалкину блестящую характеристику.
Ветврач Проскуряков Никодим Сергеевич действительно жил в городе, но совсем недавно, месяц назад, умер.
Доложить результаты Безродному сразу не удалось. Запершись в кабинете, он что-то печатал на пишущей машинке.
Пользуясь передышкой, мы – я, Дим-Димыч и Каменщиков – сели в дежурной комнате и стали обмениваться мнениями. Для меня было ясно, что следствие зашло в тупик. Руководство управления допустило ошибку, согласившись с доводами Каменщикова и приняв это дело в свое производство. Пока я не видел под ним никакой политической подоплеки.
Вот если бы к убийству имели непосредственное отношение Мигалкин и Кулькова, тогда можно было бы что-то предполагать, подозревать. А сейчас вся эта таинственная история оборачивалась самым банальным образом. По-видимому, муж решил избавиться от своей благоверной – мало ли причин к этому, – завез ее в глубокую провинцию и тут совершил свой злодейский замысел. Правда, он почему-то прибег к такому необычному способу, как эмболия, но тут уж дело вкуса. Кому что нравится!
Я высказал свое мнение Каменщикову и Дим-Димычу и добавил, что было бы правильно немедля возвратить все материалы уголовному розыску.
Каменщиков запротестовал. Он, как и Безродный, придерживался точки зрения, что и Кулькова, и Мигалкин причастны к убийству, и был против возвращения материалов органам милиции.
Дим-Димыч согласился с Каменщиковым в той части, что материалы не следует возвращать милиции, по крайней мере до той поры, пока не станет окончательно ясно, что налицо чисто уголовное преступление. А относительно причастности к убийству Кульковой и Мигалкина мнение его не расходилось с моим.
– Мы должны, – сказал Дим-Димыч, – наметить себе минимум и осуществить его. Этим минимумом я считаю опознание убитой и установление личности ее спутника. Только тогда нам, возможно, удастся определить, с чем мы столкнулись: с уголовным или политическим преступлением. А сейчас мы топчемся на месте.