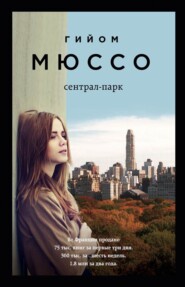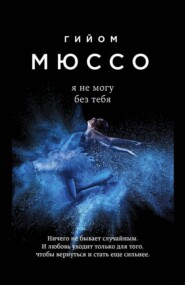По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь как роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С первого же дня люди, никогда обо мне не слышавшие, не читавшие ни одной моей книги и вообще никогда не державшие в руках книгу, бросились раскапывать в моих прежних романах зашифрованные фразы, разнимать их на части и громоздить теории одна другой смехотворнее. С моей жизни и с жизни тех, с кем я пересекалась, эти стервятники, любители жареного, тщатся содрать все покровы. Как я поняла, вывод у них один: в исчезновении дочери виновата я сама.
Бессовестные писаки – худшие из судей. Они не затрудняют себя никакими доказательствами, никакими размышлениями, для них не существует нюансов. Цель поиска – не истина, а зрелище. При этом стесываются углы, на свет вытаскивается все самое анекдотичное, ведь жадная до зрелищ толпа легко соблазняется картинкой, ее не отвращает лень прессы, они одурачены и порабощены щелчками объектива. Исчезновение моей дочери – уничтожившая меня драма – сводится к вульгарному развлечению, поводу для словоблудия и зубоскальства. По правде говоря, таким подходом грешит не только желтая пресса. Ему охотно отдают предпочтение каналы и издания, мнящие себя серьезными. Как и все прочие, их авторы охотно купаются в грязи с хрюкающими свиньями, с той лишь разницей, что не намерены в этом признаваться. Забыв всякий стыд, они выдают вуайеризм за «расследование». Это волшебное слово они считают оправданием своих мерзких атак.
Травля превращает меня в заключенную, запертую в стеклянном кубе на шестом этаже. Фантина много раз предлагала мне перебраться к ней, но я не устаю повторять себе, что если Кэрри вернется, то только сюда, домой, в нашу квартиру.
Последнее мое убежище, моя отдушина – обустроенная крыша здания: раньше там была площадка для игры в бадминтон. От нее остались бамбуковые кресла и, конечно, круговая панорама Манхэттена и Бруклина. Город кажется отсюда далеким и одновременно близким, выставляющим напоказ мельчайшие детали: объятые паром канализационные люки, разноцветные блики стеклянных фасадов, чугунные пожарные лестницы, цепляющиеся за фасады из рыжего песчаника.
Я поднимаюсь сюда по нескольку раз в день, чтобы отдышаться. Случается, лезу по шаткой железной лестнице еще выше, к цистерне с водой, питающей «Ланкастер». Оттуда открывается и вовсе головокружительный вид. За ваше внимание борются небо и пустота. Стоит опустить глаза – и возникает соблазн спрыгнуть, напоминание о том, что никогда в жизни я не умела строить ни семейных, ни дружеских отношений.
Единственной моей связью с миром была Кэрри. Если ее не найдут, то, знаю, наступит день, когда я брошусь в пустоту. Это записано где-то в книге времен. Каждый день я забираюсь на нашу водокачку и определяю, наступил этот день или еще нет. До сих пор натянутая нить надежды удерживала меня от последнего шага, но дочери все нет, и я боюсь, что моему терпению скоро придет конец. У меня в голове теснятся самые противоречивые мысли. Ночь за ночью я резко просыпаюсь, задыхаясь, вся в поту, бесполезная, как соскочившая велосипедная цепь. В памяти образ Кэрри уже бледнеет. Чувствую, она начинает от меня ускользать. Ее лицо утрачивает отчетливость, я больше не могу вспомнить ее мимику, выражение ее глаз, ее голос. Почему так происходит? Из-за выпивки, успокоительного, антидепрессантов? Главное не это, а то, что я теряю ее во второй раз.
Как ни странно, единственный, кто обо мне беспокоится, – это Марк Рутелли. Три месяца назад он вышел на пенсию и с тех пор каждую неделю меня навещает, чтобы держать в курсе собственного расследования, пока что замершего в мертвой точке.
А еще есть мой редактор Фантина.
3.
– Я настаиваю, Флора: ты обязана отсюда съехать.
На часах четыре. Сидя на высоком кухонном табурете с чашкой чая в руке, Фантина де Вилат в который раз убеждает меня в необходимости переезда.
– Ты сможешь снова стать собой только на новом месте.
На ней цветастое платье с запа?хом, черная косуха, рыжие кожаные сапоги на высоком каблуке. Волосы цвета красного дерева, перехваченные широкой заколкой c жемчугом, переливаются на осеннем солнце.
Чем дольше я на нее смотрю, тем сильнее мне кажется, что вижу саму себя в зеркале. Несколько лет издательского успеха преобразили Фантину. Раньше она была сдержанна и незаметна, а теперь обрела уверенность и привлекательность. Теперь она больше говорит сама, чем слушает собеседника, и все хуже переносит, когда ей перечат. Мало-помалу она превратилась во вторую версию меня. Одевается как я, переняла мою жестикуляцию, мои шутки, мои ужимки, даже закладывает за ухо прядь волос совсем как я. Сделала себе справа на шее – там же, где у меня, – небольшую татуировку в виде ленты Мёбиуса. Чем больше меркну я, тем полнее расцветает она, чем больше я погружаюсь во тьму, тем ярче она сияет.
Я познакомилась с Фантиной семь лет назад в Париже, в парке при особняке Соломона Ротшильда, на приеме по случаю выхода нового романа одной из звезд американской литературы.
Я покинула Нью-Йорк на несколько месяцев ради путешествия по Европе и зарабатывала на переезды мелкой подработкой. В тот вечер я обносила гостей бокалами с шампанским. Фантина была в то время помощницей ассистентки директора крупного издательства. Иными словами, никем. Люди смотрели сквозь нее и толкали, не замечая. Мисс Целлофан, просившая прощения за свое существование и не знавшая, что делать со своим телом и взглядом.
Одна я ее увидела. Потому что в душе я романтик. Потому что это моя изюминка, единственный, наверное, мой талант, во всяком случае, это то, что у меня получается лучше, чем у остальных: находить в людях что-то, о чем они сами знать не знают. Она владела английским, и мы обменялись парой слов. Я разглядела в ней двойственность: презрение к среде, в которой она находилась, и при этом острую потребность к ней принадлежать. Я заметила, что она тоже что-то во мне почуяла; мне было в ее обществе хорошо, и я даже сказала ей, что дописываю роман «Девушка в лабиринте» – историю нескольких ньюйоркцев, сталкивающихся в роковую дату 10 сентября 2001 года в баре в Бауэри.
– «Лабиринт» – название бара, – сочла я нужным уточнить.
– Обещайте, что я буду первой, кому вы пришлете ваш роман!
Через две-три недели я отправила ей по электронной почте законченную после возвращения в Нью-Йорк рукопись. Десять дней не приходило ни ответа, ни даже уведомления о получении. Зато как-то сентябрьским днем Фантина позвонила в дверь моей нью-йоркской квартиры. Я тогда жила в крохотной студии в квартале «Адская кухня», в запущенном доме на 11-й авеню, откуда открывались, правда, сногсшибательные виды на Гудзон и на берег Нью-Джерси. Облик Фантины, какой она предстала передо мной в тот день, засел у меня в памяти: серо-бежевый плащ, очки отличницы и чемоданчик банкирши. Она с ходу заявила, что в восторге от «Девушки в лабиринте» и хочет ее издать, но не там, где работает: она задумала создать свое собственное издательство – идеальный инструмент для публикации моего романа. Я поделилась с ней своим скепсисом, а она в ответ достала из портфеля картонную папку с только что одобренным запросом банковского кредита. «Я раздобыла средства на запуск собственного дела, Флора. Сил для этого мне придал твой текст». И, сверкая глазами, она добавила: «Если ты мне доверяешь, я обещаю бороться за твою книгу до последнего вздоха». А так как я не видела разницы между своей книгой и собой, то услышала ее слова как «обещаю бороться до последнего вздоха за ТЕБЯ». Мне впервые говорили такое, и я поверила в ее искренность. Я уступила ей права на издание моего романа во всем мире.
Фантина сдержала слово и повела за мою книгу беззаветный бой. Не прошло и месяца, как права на «Девушку в лабиринте» были проданы на Франкфуртской книжной ярмарке в более чем двадцать стран. В Штатах роман вышел в издательстве Knopf c рекламной похвалой Марио Варгаса Льосы, утверждавшего, что роман «высечен из той же горной породы», что его шедевр «Разговор в «Соборе». Звездный критик литературного раздела «Нью-Йорк таймс», внушающая всем ужас Мишико Какутани, оценила стиль романа «как неровный, но дерзкий» и обнаружила в нем «жизненные фрагменты, складывающиеся в захватывающий портрет умирающего мира».
Машина завелась и понеслась. «Девушку в лабиринте» читали все. Не всегда из любви к литературе и часто не понимая, о чем книга. Это был механизм, гарантировавший успех.
Другой гениальной затеей Фантины было сделать меня недоступной для прессы. Вместо того чтобы сетовать на мой отказ появляться на людях, она превратила его в коммерческий рычаг. Единственная моя фотография, которой она соглашалась поделиться, – черно-белая и немного загадочная, на ней я похожа на киноактрису Веронику Лейк. Я давала интервью только по электронной почте журналистам, с которыми никогда не встречалась, не подписывала своих книг в книжных магазинах, университетах и библиотеках. Я резко отличалась от писателей, раскрывавших подробности своей личной жизни и бесконечно мелькавших на телеэкране: моя медийная аскеза делала меня неповторимой. Во всех статьях я фигурировала как «неуловимая» и «загадочная» Флора Конвей. Мне это очень шло.
Я написала второй роман, потом третий, за который была награждена литературной премией. Благодаря этому успеху парижское издательство Фантины де Вилат приобрело всемирную известность. Фантина издавала и других авторов. Некоторые пытались писать «под Флору Конвей», некоторые – как угодно, только не как Флора Конвей, но все так или иначе позиционировали себя относительно меня. Это меня тоже устраивало. В Париже весь Сен-Жермен-де-Пре обожал «Фантину» – издательство, публиковавшее «изысканную литературу», – и его владелицу, защитницу мелких книжных магазинов и своих авторов. Фантина, Фантина, Фантина…
Между нами наметилось серьезное непонимание: Фантина всерьез считает, что она меня «открыла». Иногда она даже рассуждает о «наших книгах», когда разговор заходит о МОИХ романах. Полагаю, так рано или поздно случается со всеми издателями. Но давайте по-честному: откуда у нее деньги на собственную квартиру в Сен-Жермен-де-Пре и на загородный дом в Кейп-Код, на аренду квартиры в Сохо?
Когда я носила Кэрри, жизнь впервые показалась мне интереснее писательства. После ее рождения это ощущение сохранилось и даже усилилось. Теперь меня все больше захватывала реальная жизнь, потому у меня появилась в ней более активная роль и меньше поводов прятаться от реальности.
Когда Кэрри исполнился год, Фантина призналась, что обеспокоена тем, как продвигается мое очередное сочинение. Я ответила, что не отказываюсь писать романы, просто собираюсь сделать перерыв.
– Неужели ты готова загубить свой талант из-за ребенка? – повысила она голос.
Я ответила, что уже приняла решение, что мои приоритеты изменились и что я намерена посвящать свою энергию в большей степени своей дочери, нежели новым книгам.
Этого Фантина терпеть не собиралась.
4.
– Чтобы выбраться из своей черной дыры, ты должна снова начать писать.
Фантина ставит свою чашку на стол и подкрепляет сказанное резким движением плеч.
– Ты беременна еще тремя-четырьмя книгами. Моя задача – помочь тебе произвести их на свет.
Она нечувствительна к моим страданиям, она уже давно перевернула страницу исчезновения Кэрри и даже не соизволит прикидываться.
– Как же мне их написать? Я – сплошная открытая рана. Я просыпаюсь по утрам с желанием раствориться в воздухе.
Я убегаю в гостиную, но она настигает меня и там.
– Это и есть твоя писательская почва. Многие художники теряли детей, и это не мешало им творить.
Фантина меня не понимает. Утрата ребенка – не то переживание, преодоление которого делает сильнее. Это страдание, раскалывающее вас, как топор полено. От него вы просто валяетесь на поле боя без малейшей надежды, что рана в конце концов затянется. Знаю, она не желает этого слышать, поэтому я стараюсь зарубить тему на корню.
– У тебя нет детей, следовательно, ты лишена права голоса.
– Я о том и толкую: меня интересует твой голос, а не мой. Под влиянием горя создавались шедевры самых разных жанров.
Стоя против света, перед стеклянной стеной, она принимается перечислять:
– Гюго написал «Завтра на рассвете» вскоре после смерти дочери, Дюрас написала «Боль», использовав свои черновики военного времени, «Зримая тьма» Стайрона появилась, когда он выходил из пятилетней депрессии, а уж…
– Прекрати!
– Писательство было твоей спасительной соломинкой, – гнет она свое. – Если бы не твои книги, ты бы по сей день обслуживала пьяниц в «Лабиринте» или где-нибудь еще… Ты бы осталась той же, кем была, когда пришла ко мне: девушкой без гроша в кармане, так бы и якшалась с панками и вообще…
– Не переписывай историю, это ты пришла ко мне, а не наоборот!
Мне известна ее манера: наносить удары, чтобы я встряхнулась. Было время, когда это давало результат, но сегодня она ничего не добьется.
– Послушай, Флора, ты там, где всегда хотела быть. Помнишь, как в четырнадцать лет ты читала в городской библиотеке Кардиффа Джордж Элиот и Кэтрин Мэнсфилд? Ты мечтала стать той, кем теперь стала: загадочной романисткой Флорой Конвей, чью новую книгу ждут читатели во всем мире.
Утомленная ее речами, я падаю на диван. Фантина роется на моих книжных полках. В конце концов она находит искомое: старый номер журнала «Нью-Йоркер» с каким-то из моих интервью.
– Ты сама здесь все время повторяешь: «Сочинительство позволяет держать на расстоянии беду. Если бы я не создала целый собственный мир, то наверняка умерла бы в чужом».