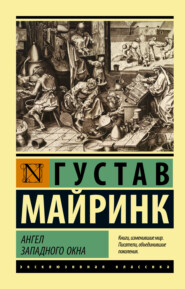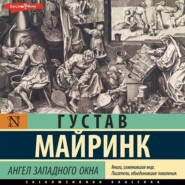По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вальпургиева ночь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дразнящий причудливый морок фантазий, венчавшихся престранным ощущением, будто он держит в руке альпеншток, заставил его наконец проснуться в неподобающе ранний час.
Каждый год 1 июня, ни раньше ни позже, господин императорский лейб-медик вояжировал в Карлсбад на воды, предпочитая дрожки железной дороге, поскольку считал ее еврейским промыслом.
Когда Карличек – так звали солового одра, коему доверялось тащить экипаж, – повинуясь настойчивым понуканиям кучера в красном камзоле, дотягивал до пражского предместья Голлешовице, что в пяти километрах от центра, всякий раз делалась первая остановка для ночлега, чтобы на следующий день продолжить трехнедельное путешествие и потихоньку-полегоньку, по лошадиному хотению все-таки добраться до Карлсбада, где Карличек мог вволю набивать брюхо овсом, пока не обретал вид розоватой колбасы на тонких ножках, в то время как господин лейб-медик укреплял здоровье пешими прогулками.
Появление на отрывном календаре над изголовьем кровати долгожданной даты 1 мая всегда служило сигналом к началу сборов, но на сей раз господин лейб-медик даже не взглянул на календарь, остановив время на отметке 30 апреля с жутковатым напоминанием: Вальпургиева ночь. Он направился к письменному столу, раскрыл огромный фолиант в переплете из свиной кожи, с латунными уголками, в котором с прадедовских времен Флюгбайли мужеска пола делали дневниковые записи, и начал просматривать свои юношеские откровения, пытаясь установить, не встречал ли он прежде, а если так, то где и когда, этого самого Зрцадло – будь он неладен. Предположение, что они уже виделись, не давало лейб-медику покоя.
Дневник он начал вести в двадцать пять лет, в день кончины отца, и каждое утро неукоснительно поверял бумаге свои мысли и впечатления, по примеру достопамятных предков снабжая каждую запись порядковым номером. Теперь он поставил цифры 16117.
Поскольку в молодые годы он не мог знать, что проживет весь век холостяком и не обзаведется семейством, все, что касалось любовных увлечений, он – также по образцу предшественников – обозначал мудреной тайнописью, понятной только самому автору, дабы никто и никогда не сунул нос в эту сокровенную сферу.
Таких «затемнений» в дневнике было совсем немного, раз в триста меньше, чем отчетов о съеденных в трактире «У Шнелля» гуляшах, что тщательно фиксировалось в хронике текущих событий.
Несмотря на то что в дневник добросовестно вносились записи даже о самых незначительных вещах, никакого упоминания о лунатике Зрцадло лейб-медику обнаружить не удалось, и в конце концов он разочарованно захлопнул фолиант.
Но еще во время чтения его царапнуло неприятное чувство: пробегая глазами некоторые записи, он впервые за свою земную жизнь ненароком узрел ее унылое, в сущности, беспросветное однообразие. И это он, готовый гордиться своей размеренной и наперед просчитанной жизнью, в чем с ним едва ли могли соперничать даже представители рафинированного градчанского общества. Сама кровь в его жилах – пусть и не голубая, а бюргерская – противилась всякой спешке и плебейской тяге к прогрессу. И вдруг на тебе! Под еще свежим впечатлением ночи в замке барона он почувствовал в себе некие поползновения, для которых и благородных слов не подберешь, – что-то вроде жажды приключений, недовольства рутиной или любопытства, толкающих к познанию необъяснимых вещей.
Он оглядел свою комнату, и она показалась ему постылой. Голые, выбеленные известкой стены раздражали его. Раньше такого не было! С чего бы это?
Он злился на самого себя.
Три комнаты, предоставленные ему по выходе на пенсию канцелярией его императорского величества, находились в южном крыле Града. С высоты своего подоконника, вооружившись длинной подзорной трубой, он мог обозревать нижний мир, Прагу и дали до самого горизонта – мягкие волнистые линии холмов и островки леса, а из другого окна открывался вид на серебристую ленту верховья Влтавы, покуда она не терялась в дымке.
Чтобы как-то отвлечься от будоражащих мыслей, он подошел к своему «дальнозору» и направил его в сторону города, что называется, навскидку.
Прибор обладал такой увеличительной силой, что в поле зрения оказывался лишь крошечный пятачок пространства, а предметы придвигались угрожающе близко, прямо-таки рукой достать.
Господин лейб-медик нагнулся и приложил глаз к окуляру со смутной, почти неосознанной надеждой увидеть на крыше трубочиста или какой иной счастливый знак, но тут же в ужасе отшатнулся.
На него глаза в глаза глянула Богемская Лиза, с коварной усмешкой на лице и воспаленными, без ресниц веками, она словно увидела его и встретила язвительной усмешкой!
Впечатление было столь ошеломляющим, что Пингвин содрогнулся и, забыв о трубе, уставился в слепившее солнечным светом пространство, не на шутку опасаясь, что старая шлюха вот-вот появится перед ним, как призрак в воздухе, а то и верхом на метле.
Когда же он наконец взял себя в руки, подивившись игре случая и обрадованный столь естественным объяснением, и прильнул к трубе, старуха уже исчезла, но в глаза лезли незнакомые, до странности напряженные лица, и лейб-медик почувствовал, что это напряжение передалось и ему.
По тому, как они толкались, по размашистой жестикуляции, по раздираемым криками ртам он понял, что собралась негодующая толпа, но о причине людского возмущения издалека судить было невозможно. Ничтожнейшее смещение трубы – и перед ним предстала совсем иная картина, поначалу довольно размытая: какой-то темный прямоугольник, который после поворота линзы превратился в окно под самой кровлей, его створки белели полосками газетной бумаги на трещинах стекол.
В проеме – фигура сидящей молодой женщины, тело прикрыто лохмотьями, на мертвенно-бледном лице словно въевшиеся тени вокруг глазных впадин. С тупым равнодушием животного она смотрела на обтянутый кожей скелетик младенца, который лежал перед ней и, должно быть, умер у нее на руках. Яркое солнце, залившее их обоих, с ужасающей четкостью высвечивало каждую деталь этой картины и создавало невыносимо жестокий контраст человеческого горя и сияния весеннего дня.
– Война. Одно слово – война, – вздохнул Пингвин, отодвигая трубу, чтобы печальное зрелище не повредило аппетиту перед вторым завтраком. – А это, видать, тыльная сторона какого-то театра, – произнес он себе под нос, когда развернулось новое зрелище: двое рабочих в окружении зевак – уличных мальчишек и старых теток в платочках – выносили из распахнутых дверей гигантский холст, на котором был изображен пышнобородый старец, возлежавший на розовом облаке и с неземной кротостью в глазах воздевший благословляющую десницу, в то время как его левая рука заботливо обнимала глобус.
Недовольный и с какой-то кашей в голове, Флюгбайль вернулся в большую комнату и молча выслушал экономку, доложившую, что Венцель ждет внизу. Лейб-медик надел цилиндр, перчатки, прихватил трость, отделанную слоновой костью, и спустился по каменной лестнице, от которой еще веяло зимним холодком, во двор замка, где кучер уже поднимал верх коляски, чтобы в нее мог взгромоздиться высоченный седок.
Экипаж уже грохотал вниз по крутой улице, когда Пингвину что-то взбрело в голову и он принялся барабанить пальцами по дребезжавшему окошку, покуда Карличек не соблаговолил упереться передними ходулями в мостовую, а Венцель не подскочил к дверце.
Откуда ни возьмись появилась ватага гимназистов. Они обступили коляску и, увидев в ней Пингвина, наглядно продемонстрировали свои зоологические познания беззвучным танцем полярных птиц, как бы трепыхая недоразвитыми крыльями и норовя зацепить друг друга длинными клювами.
Не удостоив взглядом охальников, господин лейб-медик шепнул пару слов кучеру, от чего тот в буквальном смысле остолбенел.
– Ваше превосходительство… – выдавил он наконец. – Как же можно?.. В Мертвецкий-то переулок? К этим… прости господи…
– …А Богемская-то Лиза живет вовсе не там, – с облегчением пролепетал он, когда Пингвин более подробно разъяснил ему свое намерение. – Она ж в Новом Свете проживает.
– Как? Внизу? – переспросил лейб-медик и, поморщившись, посмотрел в окно на лежавшую в долине Прагу.
– Не извольте сомневаться. Там, где Олений ров тянется.
При этом кучер указал большим пальцем на небеса и описал рукой петлю в воздухе, будто старая дама жила где-то в недосягаемых сферах, за облаками, между небом и землей.
Несколько минут спустя Карличек уже одолевал крутой бугор Шпорненгассе, спокойно и медлительно, как привыкший к высоте кавказский мул.
Императорский лейб-медик подумал о том, что лишь полчаса назад в подзорную трубу наблюдал Богемскую Лизу на одной из пражских улиц, и это навело его на мысль о возможности с глазу на глаз поговорить с актером Зрцадло, который жил у старухи. А эта встреча могла стать столь полезной и поучительной, что не страшно было отказаться от второго завтрака «У Шнелля».
Через некоторое время императорский лейб-медик вышел из дрожек и двинулся пешком, дабы избавить себя от назойливых взглядов обывателей. Улочка, именуемая Новым Светом, представляла собой кривой ряд домишек, стоявших порознь напротив полуциркульной стены, по верху которой шел своего рода фриз – рисунки мелом, и, хотя их вывела неумелая детская рука, можно было догадаться, что сия роспись самым дерзким образом выставляет напоказ то, чем родители занимаются втайне от детей. Кроме нескольких ребятишек, которые с радостным визгом крутили волчки на утопавшей в известковой пыли дороге, не было видно ни души. Со стороны Оленьего рва, заросшего цветущими деревьями и кустами, плыл густой аромат жасмина и сирени, а вдалеке, окруженный шпалерами фонтанных струй, в лучах полуденного солнца дремал летний дворец императрицы Анны, напоминая позеленевшей медью кровли огромного глянцевитого жука.
У лейб-медика вдруг сильно забилось сердце. Навевающий сонную негу весенний воздух, дурман цветочных ароматов, детский смех, город внизу, подернутый золотистой дымкой, взметнувшийся к небу контур собора, вокруг которого роились галдящие галки, – все это почему-то вновь пробудило смутное чувство вины перед самим собой. Неужели он всю жизнь обманывал свою душу?
Пингвин даже загляделся на потеху детей, на то, как ударами кнута они заставляли крутиться в вихрях белой пыли пестрые, похожие на кегли волчки. В детстве он не знал такой забавы, и теперь ему казалось, что он проспал долгую и счастливую пору человеческой жизни.
Домишки, в открытые двери которых он заглядывал, чтобы разузнать, как найти лицедея Зрцадло, встречали его мертвой тишиной.
В сенях одного из них был выгорожен закуток с застекленными оконцами, вероятно, в мирное время здесь продавали булочки, обсыпанные синими маковыми зернышками, или огуречный рассол, в котором, по местному обычаю, вымачивали сыромятный ремень, чтобы клиент, выложив геллер, мог обсосать его целых два раза.
Над дверями другого дома висела черно-желтая вывеска с обшарпанным изображением двуглавого орла и полустертой надписью, извещавшей, что у хозяина имеется лицензия на торговлю солью.
Но все вместе производило тягостное впечатление руин давно умершего бытия.
Даже лист бумаги с большими, некогда черными буквами: «Zde se mandluje», что должно было означать: «За десять крейцеров прачки могут здесь катать белье в течение часа», наполовину истлел и ясно давал понять, что хозяин сего предприятия расстался с надеждой на всякий доход.
Безжалостная фурия войны повсюду оставила следы своих разбойных налетов.
Лейб-медик решил наудачу заглянуть в последнюю лачугу, из трубы которой длинным червяком вился сероватый дымок, исчезая в безоблачном майском небе. После долгого безответного стука в дверь Флюгбайль вздрогнул, увидев перед собой Богемскую Лизу. На коленях – деревянная плошка с хлебной похлебкой, на лице – выражение чуть ли не радостного удивления. Она сразу узнала выросшую на пороге фигуру.
– Привет тебе, Пингвин! Ты ли это?!
Убогая комната, служившая одновременно кухней, столовой и спальней, о чем свидетельствовали груды тряпья, клочья сена и скомканные газеты в углу, заросла грязью и паутиной. Стол, стулья, комод, миски и чашки стояли и валялись так, будто участвовали в какой-то оргии; божеский вид имела лишь сама хозяйка, которая даже лицом посветлела, обрадованная неожиданным визитом.
К продранным красноватым обоям присохли тронутые тлением лавровые венки с выцветшими голубыми лентами, на которых можно было прочитать самые лестные комплименты: «Великой чародейке искусства» и так далее, а рядом висела украшенная бантами мандолина.
С естественной непринужденностью великосветской дамы Богемская Лиза продолжала спокойно сидеть, однако удостоила гостя жеманной улыбкой и протянула ему руку. Залившись краской, господин лейб-медик пожал ее, но целовать воздержался.
Хозяйка великодушно не заметила этого упущения по части галантности и, дохлебывая свое варево, начала беседу учтивыми фразами о прекрасной погоде и о том, сколь приятно ей принимать у себя в лице его превосходительства своего доброго старого друга.
И вдруг, отбросив церемонии, перешла на приятельский, можно сказать, фамильярный тон:
– А ты, Пингвин, все такой же симпатяга, sakramensky chlap[2 - Фартовый парень (чеш.).], – сказала она, сдобрив литературный немецкий толикой пражского жаргона. – Красавчик, хоть зашибись…
Похоже, на нее нахлынули воспоминания, и в ностальгической истоме она даже закрыла глаза. Императорский лейб-медик с напряжением ждал новых словесных перлов.
Каждый год 1 июня, ни раньше ни позже, господин императорский лейб-медик вояжировал в Карлсбад на воды, предпочитая дрожки железной дороге, поскольку считал ее еврейским промыслом.
Когда Карличек – так звали солового одра, коему доверялось тащить экипаж, – повинуясь настойчивым понуканиям кучера в красном камзоле, дотягивал до пражского предместья Голлешовице, что в пяти километрах от центра, всякий раз делалась первая остановка для ночлега, чтобы на следующий день продолжить трехнедельное путешествие и потихоньку-полегоньку, по лошадиному хотению все-таки добраться до Карлсбада, где Карличек мог вволю набивать брюхо овсом, пока не обретал вид розоватой колбасы на тонких ножках, в то время как господин лейб-медик укреплял здоровье пешими прогулками.
Появление на отрывном календаре над изголовьем кровати долгожданной даты 1 мая всегда служило сигналом к началу сборов, но на сей раз господин лейб-медик даже не взглянул на календарь, остановив время на отметке 30 апреля с жутковатым напоминанием: Вальпургиева ночь. Он направился к письменному столу, раскрыл огромный фолиант в переплете из свиной кожи, с латунными уголками, в котором с прадедовских времен Флюгбайли мужеска пола делали дневниковые записи, и начал просматривать свои юношеские откровения, пытаясь установить, не встречал ли он прежде, а если так, то где и когда, этого самого Зрцадло – будь он неладен. Предположение, что они уже виделись, не давало лейб-медику покоя.
Дневник он начал вести в двадцать пять лет, в день кончины отца, и каждое утро неукоснительно поверял бумаге свои мысли и впечатления, по примеру достопамятных предков снабжая каждую запись порядковым номером. Теперь он поставил цифры 16117.
Поскольку в молодые годы он не мог знать, что проживет весь век холостяком и не обзаведется семейством, все, что касалось любовных увлечений, он – также по образцу предшественников – обозначал мудреной тайнописью, понятной только самому автору, дабы никто и никогда не сунул нос в эту сокровенную сферу.
Таких «затемнений» в дневнике было совсем немного, раз в триста меньше, чем отчетов о съеденных в трактире «У Шнелля» гуляшах, что тщательно фиксировалось в хронике текущих событий.
Несмотря на то что в дневник добросовестно вносились записи даже о самых незначительных вещах, никакого упоминания о лунатике Зрцадло лейб-медику обнаружить не удалось, и в конце концов он разочарованно захлопнул фолиант.
Но еще во время чтения его царапнуло неприятное чувство: пробегая глазами некоторые записи, он впервые за свою земную жизнь ненароком узрел ее унылое, в сущности, беспросветное однообразие. И это он, готовый гордиться своей размеренной и наперед просчитанной жизнью, в чем с ним едва ли могли соперничать даже представители рафинированного градчанского общества. Сама кровь в его жилах – пусть и не голубая, а бюргерская – противилась всякой спешке и плебейской тяге к прогрессу. И вдруг на тебе! Под еще свежим впечатлением ночи в замке барона он почувствовал в себе некие поползновения, для которых и благородных слов не подберешь, – что-то вроде жажды приключений, недовольства рутиной или любопытства, толкающих к познанию необъяснимых вещей.
Он оглядел свою комнату, и она показалась ему постылой. Голые, выбеленные известкой стены раздражали его. Раньше такого не было! С чего бы это?
Он злился на самого себя.
Три комнаты, предоставленные ему по выходе на пенсию канцелярией его императорского величества, находились в южном крыле Града. С высоты своего подоконника, вооружившись длинной подзорной трубой, он мог обозревать нижний мир, Прагу и дали до самого горизонта – мягкие волнистые линии холмов и островки леса, а из другого окна открывался вид на серебристую ленту верховья Влтавы, покуда она не терялась в дымке.
Чтобы как-то отвлечься от будоражащих мыслей, он подошел к своему «дальнозору» и направил его в сторону города, что называется, навскидку.
Прибор обладал такой увеличительной силой, что в поле зрения оказывался лишь крошечный пятачок пространства, а предметы придвигались угрожающе близко, прямо-таки рукой достать.
Господин лейб-медик нагнулся и приложил глаз к окуляру со смутной, почти неосознанной надеждой увидеть на крыше трубочиста или какой иной счастливый знак, но тут же в ужасе отшатнулся.
На него глаза в глаза глянула Богемская Лиза, с коварной усмешкой на лице и воспаленными, без ресниц веками, она словно увидела его и встретила язвительной усмешкой!
Впечатление было столь ошеломляющим, что Пингвин содрогнулся и, забыв о трубе, уставился в слепившее солнечным светом пространство, не на шутку опасаясь, что старая шлюха вот-вот появится перед ним, как призрак в воздухе, а то и верхом на метле.
Когда же он наконец взял себя в руки, подивившись игре случая и обрадованный столь естественным объяснением, и прильнул к трубе, старуха уже исчезла, но в глаза лезли незнакомые, до странности напряженные лица, и лейб-медик почувствовал, что это напряжение передалось и ему.
По тому, как они толкались, по размашистой жестикуляции, по раздираемым криками ртам он понял, что собралась негодующая толпа, но о причине людского возмущения издалека судить было невозможно. Ничтожнейшее смещение трубы – и перед ним предстала совсем иная картина, поначалу довольно размытая: какой-то темный прямоугольник, который после поворота линзы превратился в окно под самой кровлей, его створки белели полосками газетной бумаги на трещинах стекол.
В проеме – фигура сидящей молодой женщины, тело прикрыто лохмотьями, на мертвенно-бледном лице словно въевшиеся тени вокруг глазных впадин. С тупым равнодушием животного она смотрела на обтянутый кожей скелетик младенца, который лежал перед ней и, должно быть, умер у нее на руках. Яркое солнце, залившее их обоих, с ужасающей четкостью высвечивало каждую деталь этой картины и создавало невыносимо жестокий контраст человеческого горя и сияния весеннего дня.
– Война. Одно слово – война, – вздохнул Пингвин, отодвигая трубу, чтобы печальное зрелище не повредило аппетиту перед вторым завтраком. – А это, видать, тыльная сторона какого-то театра, – произнес он себе под нос, когда развернулось новое зрелище: двое рабочих в окружении зевак – уличных мальчишек и старых теток в платочках – выносили из распахнутых дверей гигантский холст, на котором был изображен пышнобородый старец, возлежавший на розовом облаке и с неземной кротостью в глазах воздевший благословляющую десницу, в то время как его левая рука заботливо обнимала глобус.
Недовольный и с какой-то кашей в голове, Флюгбайль вернулся в большую комнату и молча выслушал экономку, доложившую, что Венцель ждет внизу. Лейб-медик надел цилиндр, перчатки, прихватил трость, отделанную слоновой костью, и спустился по каменной лестнице, от которой еще веяло зимним холодком, во двор замка, где кучер уже поднимал верх коляски, чтобы в нее мог взгромоздиться высоченный седок.
Экипаж уже грохотал вниз по крутой улице, когда Пингвину что-то взбрело в голову и он принялся барабанить пальцами по дребезжавшему окошку, покуда Карличек не соблаговолил упереться передними ходулями в мостовую, а Венцель не подскочил к дверце.
Откуда ни возьмись появилась ватага гимназистов. Они обступили коляску и, увидев в ней Пингвина, наглядно продемонстрировали свои зоологические познания беззвучным танцем полярных птиц, как бы трепыхая недоразвитыми крыльями и норовя зацепить друг друга длинными клювами.
Не удостоив взглядом охальников, господин лейб-медик шепнул пару слов кучеру, от чего тот в буквальном смысле остолбенел.
– Ваше превосходительство… – выдавил он наконец. – Как же можно?.. В Мертвецкий-то переулок? К этим… прости господи…
– …А Богемская-то Лиза живет вовсе не там, – с облегчением пролепетал он, когда Пингвин более подробно разъяснил ему свое намерение. – Она ж в Новом Свете проживает.
– Как? Внизу? – переспросил лейб-медик и, поморщившись, посмотрел в окно на лежавшую в долине Прагу.
– Не извольте сомневаться. Там, где Олений ров тянется.
При этом кучер указал большим пальцем на небеса и описал рукой петлю в воздухе, будто старая дама жила где-то в недосягаемых сферах, за облаками, между небом и землей.
Несколько минут спустя Карличек уже одолевал крутой бугор Шпорненгассе, спокойно и медлительно, как привыкший к высоте кавказский мул.
Императорский лейб-медик подумал о том, что лишь полчаса назад в подзорную трубу наблюдал Богемскую Лизу на одной из пражских улиц, и это навело его на мысль о возможности с глазу на глаз поговорить с актером Зрцадло, который жил у старухи. А эта встреча могла стать столь полезной и поучительной, что не страшно было отказаться от второго завтрака «У Шнелля».
Через некоторое время императорский лейб-медик вышел из дрожек и двинулся пешком, дабы избавить себя от назойливых взглядов обывателей. Улочка, именуемая Новым Светом, представляла собой кривой ряд домишек, стоявших порознь напротив полуциркульной стены, по верху которой шел своего рода фриз – рисунки мелом, и, хотя их вывела неумелая детская рука, можно было догадаться, что сия роспись самым дерзким образом выставляет напоказ то, чем родители занимаются втайне от детей. Кроме нескольких ребятишек, которые с радостным визгом крутили волчки на утопавшей в известковой пыли дороге, не было видно ни души. Со стороны Оленьего рва, заросшего цветущими деревьями и кустами, плыл густой аромат жасмина и сирени, а вдалеке, окруженный шпалерами фонтанных струй, в лучах полуденного солнца дремал летний дворец императрицы Анны, напоминая позеленевшей медью кровли огромного глянцевитого жука.
У лейб-медика вдруг сильно забилось сердце. Навевающий сонную негу весенний воздух, дурман цветочных ароматов, детский смех, город внизу, подернутый золотистой дымкой, взметнувшийся к небу контур собора, вокруг которого роились галдящие галки, – все это почему-то вновь пробудило смутное чувство вины перед самим собой. Неужели он всю жизнь обманывал свою душу?
Пингвин даже загляделся на потеху детей, на то, как ударами кнута они заставляли крутиться в вихрях белой пыли пестрые, похожие на кегли волчки. В детстве он не знал такой забавы, и теперь ему казалось, что он проспал долгую и счастливую пору человеческой жизни.
Домишки, в открытые двери которых он заглядывал, чтобы разузнать, как найти лицедея Зрцадло, встречали его мертвой тишиной.
В сенях одного из них был выгорожен закуток с застекленными оконцами, вероятно, в мирное время здесь продавали булочки, обсыпанные синими маковыми зернышками, или огуречный рассол, в котором, по местному обычаю, вымачивали сыромятный ремень, чтобы клиент, выложив геллер, мог обсосать его целых два раза.
Над дверями другого дома висела черно-желтая вывеска с обшарпанным изображением двуглавого орла и полустертой надписью, извещавшей, что у хозяина имеется лицензия на торговлю солью.
Но все вместе производило тягостное впечатление руин давно умершего бытия.
Даже лист бумаги с большими, некогда черными буквами: «Zde se mandluje», что должно было означать: «За десять крейцеров прачки могут здесь катать белье в течение часа», наполовину истлел и ясно давал понять, что хозяин сего предприятия расстался с надеждой на всякий доход.
Безжалостная фурия войны повсюду оставила следы своих разбойных налетов.
Лейб-медик решил наудачу заглянуть в последнюю лачугу, из трубы которой длинным червяком вился сероватый дымок, исчезая в безоблачном майском небе. После долгого безответного стука в дверь Флюгбайль вздрогнул, увидев перед собой Богемскую Лизу. На коленях – деревянная плошка с хлебной похлебкой, на лице – выражение чуть ли не радостного удивления. Она сразу узнала выросшую на пороге фигуру.
– Привет тебе, Пингвин! Ты ли это?!
Убогая комната, служившая одновременно кухней, столовой и спальней, о чем свидетельствовали груды тряпья, клочья сена и скомканные газеты в углу, заросла грязью и паутиной. Стол, стулья, комод, миски и чашки стояли и валялись так, будто участвовали в какой-то оргии; божеский вид имела лишь сама хозяйка, которая даже лицом посветлела, обрадованная неожиданным визитом.
К продранным красноватым обоям присохли тронутые тлением лавровые венки с выцветшими голубыми лентами, на которых можно было прочитать самые лестные комплименты: «Великой чародейке искусства» и так далее, а рядом висела украшенная бантами мандолина.
С естественной непринужденностью великосветской дамы Богемская Лиза продолжала спокойно сидеть, однако удостоила гостя жеманной улыбкой и протянула ему руку. Залившись краской, господин лейб-медик пожал ее, но целовать воздержался.
Хозяйка великодушно не заметила этого упущения по части галантности и, дохлебывая свое варево, начала беседу учтивыми фразами о прекрасной погоде и о том, сколь приятно ей принимать у себя в лице его превосходительства своего доброго старого друга.
И вдруг, отбросив церемонии, перешла на приятельский, можно сказать, фамильярный тон:
– А ты, Пингвин, все такой же симпатяга, sakramensky chlap[2 - Фартовый парень (чеш.).], – сказала она, сдобрив литературный немецкий толикой пражского жаргона. – Красавчик, хоть зашибись…
Похоже, на нее нахлынули воспоминания, и в ностальгической истоме она даже закрыла глаза. Императорский лейб-медик с напряжением ждал новых словесных перлов.