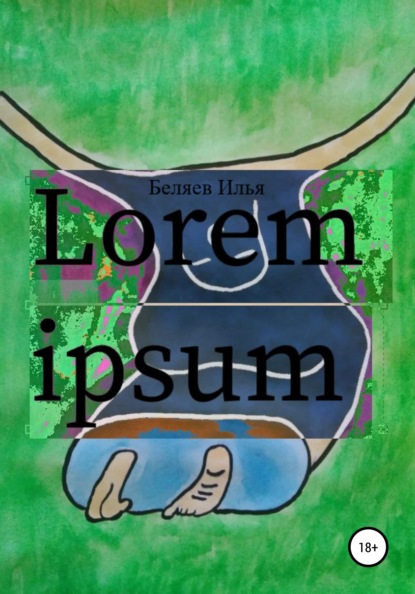По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Lorem Ipsum
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы себе не представляете сколько должно было сойтись случайных обстоятельств, незначительных событий, который привели к рождению этого персонажа! Я думал, что после этого мне можно будет уйти на покой! Я уже устал писать! Это невозможно! Как легко из–за одной паршивой девки я вылетел из анналов истории! Так меня и запомнят: неудачник, который писал посредственные сценарии, а самый лучший сюжет его спустила в унитаз одна паршивка!… – потом он кричал что–то еще, но это уже никого не интересовало. Ольку и ее спутника уж точно.
– Что я им всем такого сделала?
– А вот сейчас увидишь…
Следующая комната была уставлена мольбертами. В ней трудились художники, измазанные большими цветными пятнами. Они резкими движениями что–то писали, вскрикивая от экспрессии. Увидев Ольку, художники окружили ее, бросив все свои дела.
– Оленька, эх, Оленька. Как так получилось у тебя? – каждый бубнил себе под нос. – Много тысяч жизней пережив, у тебя получилось вот так…
– Пойдем, я тебе покажу кое–что… – ее спутник привел ее к одинокому мольберту, у которого не было художника. – Взгляни.
Олька увидела единственное, что можно было разглядеть четко: девушка, такая как многие, ничем не выделяющаяся из тех, кого Олька видела при жизни, стояла и смотрела на нее. Она видела ее четко, как себя. Впрочем, она и видела себя.
– Это ты. А это рабочее место должно быть твое. Но ты не справилась. Очень жаль, но не мне. Я обычный секретарь. Жаль тем, кто тебя выдумал. Тем, кто за тебя волновался: сценаристу, художнику. Даже бухгалтеру. Мне вот только по долгу службы не жалко – не из той я области, да и работаю слишком уж долго. Теперь ты увидела все.
Олька и ее спутник вернулись все той же дорогой, которой и пришли сюда. Вопросов у Ольки не уменьшилось, и чем ближе они приближались к большой двери, тем больше у Ольки становилось уверенности, что до конца все понятно станет там. Но войдя в нее, она увидела один маленький стол. Он ее не напугал, ведь бухгалтерия была такой же маленькой. Наверное, за той дверью, что ведет в следующую отсюда будет то, что даст ответы на все ее вопросы. Но вести дальше ее спутник не спешил: он сел за пустующий стол, пометил что–то в общем журнале и развернул его Ольке, чтобы она поставила подпись.
– А зачем моя подпись?
– Ни зачем, пометочка для меня, чтобы я знал, сколько прошло дальше.
– А что будет дальше? Там я получу ответы на вопросы?
– Нет. Вопросы тебя больше не будут мучить. У тебя просто не будет вопросов. Как и не будет тебя.
Олька решила для себя, что получит все ответы:
– Я туда войду, только скажи: кто написал тот портрет?
– Тот художник, чье место ты должна была занять.
– А куда он сам делся?
– Вошел в следующую дверь.
– А кто входит в нее?
– Тот, кто этой вселенной больше не нужен.
– А почему тут художник стал не нужен?
– Он себя изжил. Ты видела тот портрет, который он написал? Нет в нем ничего красивого. Он такой же, как тысячи. Здесь нужны только лучшие.
– Почему именно я должна была занять его место?
– Потому что ты лучшая из тех актеров, которых ты видела. Потому, что ты видишь красоту, ты всегда ее видела и была к ней чувствительнее, чем остальные. Ты бы могла писать не только портреты, ты с остальными художниками создавала бы то, что для других недоступно, то, что называют: «на кончиках пальцев».
– Почему я не могу вас всех разглядеть?
– Потому что тебе и не надо. Ты же из роли не вышла. Ты – брак.
– Как я смогла ошибиться, сделать не так?
– В том твоя и ценность была. Ты была не такой, как все остальные актеры, зубрившие роли. Ты умела вживаться до конца, в твоей жизни, какой бы она тебе не казалось, было больше хорошего, чем плохого. Ты замечала то, что было недоступно другим, ты мыслила иначе. Даже сейчас ты стоишь и споришь со мной, хотя, вышла бы ты из роли, ты бы со мной не спорила – знала бы с кем говоришь. Но ты не знаешь, а потому я наблюдаю всю необычность твоего характера, твоей натуры. Но контракт – есть контракт. Такие как ты редки, уникальны, но не одиноки. Но ты не ценила жизнь ту – земную. Так ее не ценят только те, у кого таланта не хватает ее отыграть до конца, выжать из своей роли все соки. Любую жизнь можно сделать яркой, как ты ее делала, наполняя свою жизнь волнениями и переживаниями, встречами рассветов на крыше пятиэтажки и авантюрами, понятными только тебе. Ты умела по–настоящему жить, но на пике, Оля, ты сгорела. Ты не поняла, что в твоей бурной жизни, должно быть место для драмы. Как только ты разочаровалась на мгновение, секундный порыв – и ты лежишь на асфальте. Разве он того стоил? Нужно было немного подождать, пока гнев стихнет, и тебя накрыло бы волной разных счастливых моментов, которыми и славится земная жизнь. Из–за которых ты переживала тысячи жизней из раза к разу. Которым только ты умела радоваться. Не стоило это все того. Я бы сказал тебе: «в следующий раз подумай: может быть, на тебя поставили на небесах», только вот следующего раза не будет. Пожалуйста, заходи. Человек указал на дверь.
Олька открыла ее и вошла внутрь.
Последний вопрос она все–таки успела крикнуть, переступив порог.
– А что здесь такое?
Перед тем, как дверь захлопнулась, она услышала ответ: «Ничего». Хотя, что для нее значит «ничего»? А что теперь значит она?
Артефакт
– Зачем, Уцы, я это сделал?
– Ты знаешь, что тебе нельзя задавать мне такие вопросы… – холодные фарфоровые губы Уцы не дернулись.
Уцы указал пальцем на Цы. Один из меднобрюхих дернулся, осклабивши пасть, в сторону Цы, чтобы заткнуть ему рот метким ударом промеж зубьев, но Уцы, что сидел во главе стола, взмахом руки остановил все движение в зале.
– Ты либо непомерно смел, либо непомерно глуп, но ты был лично выбран Коллегией Вацоков и, назови я тебя глупцом, я оскорблю всех здесь присутствующих.
Вацоки важно кивнули друг другу и вновь уставились на Уцы.
– Значит, ты непомерно смел. Смелость твоя на силе основана или на дерзости? Вижу, Мать Земля держит тебя ещё на своих плечах, знать, и силой ты не выдался. Дерзость…
Уцы встал с Кресла. Чего не делал уже добрых несколько десятков лет, отчего Коллегия разом ахнула, будто старухи из прихода, когда перед ними уронили причастие. Он вальяжно подошёл к Цы и ткнул пальцев в его живот. Тут же меднобрюхий, у которого давно чесались кулаки, подскочил и ударил Цы в то место, на которое указал Уцы. Цы упал на колени, но артефакт не выронил из рук.
– Ты знаешь, что Цы в праве задать только один вопрос Уцы за всю жизнь. Свою возможность ты уже истратил, но задал второй. Дерзость… Не знай я твоего отца, украсить бы твоим блестящим скальпом Второй подлокотник Кресла.
Коллегия возилась на стульях, переговариваясь друг с другом фразами, из которых можно было уловить лишь «вот отец его был… да–а–а… а он… не достоин».
– Отец был твой верен Креслу. Именно поэтому он дожил до самой старости. Именно поэтому Первый подлокотник так потрепан… Знаешь, почему тебя только легко стукнули, а не убили? Потому что твой отец так и не задал ни одного вопроса за всю жизнь. Я отвечу на твой вопрос.
Коллегия встала и удалилась из зала, «ибо запретно слушать ответ на вопрос, который не слетел с твоих собственных уст». В зале остались только Уцы, Цы и меднобрюхие.
– Видишь ты дрожь губ моих? – спросил Уцы. – Отвечай.
– Нет, Уцы.
– И они не видят, – Уцы указал пальцем на меднобрюхого, – а твоих – видят. Они боятся меня. Не видя моих губ и не читая их, они не понимают меня. То, что не понимает человек, боится того самым простым их страхов – животным.
Уцы подошёл к своему Креслу.
– Возьмись за его спинку.
Цы послушался.