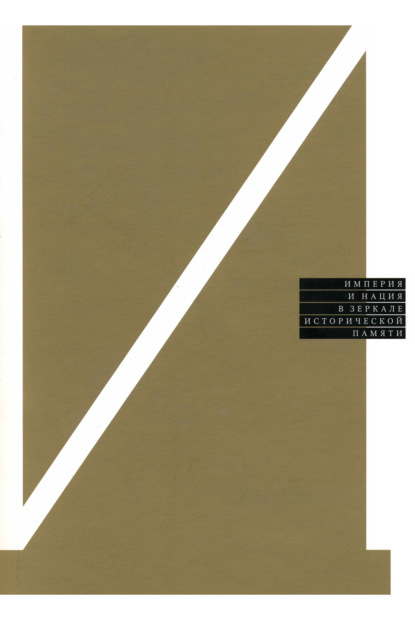По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Империя и нация в зеркале исторической памяти: Сборник статей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Империя и нация в зеркале исторической памяти: Сборник статей
Александр Семенов
Илья Герасимов
Марина Могильнер
Как обретают историческую генеалогию феномены современной политики и идеологии? Чья память доминирует на многоуровневом имперском и постимперском пространстве и как обеспечивается это доминирование? Что характерно для культуры памяти в посткоммунистических обществах? На эти и другие вопросы отвечают статьи профессиональных историков, собранные в книге «Империя и нация в зеркале исторической памяти».
Империя и нация в зеркале исторической памяти: Сборник статей
От составителей
Когда профессиональная историография дискредитирует себя в глазах общества – из-за систематических искажений, умолчаний или просто отчуждающе-схематичного стиля письма – люди обращаются непосредственно к исторической памяти в поисках сокровенной правды о прошлом. Не случайно два главных полюса общественного сознания времен перестройки были представлены двумя, по сути, одноименными центрами: националистически-консервативной «Памятью» и западнически-прогрессистским «Мемориалом». Именно радикальная политика памяти конца 1980-х годов лишила советский строй политической легитимности и привела к распаду СССР. Однако одновременно, во второй половине 1980-х годов, исследования исторической памяти оказались модным методологическим направлением европеистики. Сегодня история коллективной памяти (не путать с сугубо психологическими и нейрофизиологическими аспектами изучения индивидуальной памяти) является общепризнанной и вполне респектабельной научной дисциплиной. Однако, когда журнал Ab Imperio обратился к этой проблематике в рамках годовой программы 2004 года, оказалось, что ставшая почти «классической» история памяти полна нерешенных проблем и открытых вопросов.
Ab Imperio является первым (и, пожалуй, единственным) российским историческим журналом, интегрированным в международный научный процесс. Это проявляется и в присутствии журнала в ведущих академических индексах, формальной ассоциированности с ASEEES (Ассоциацией славянских, восточноевропейских и евроазиатских исследований), неукоснительном следовании принципу двойного анонимного рецензирования присылаемых материалов, да и в том, что три четверти авторов журнала живут и работают за пределами России. Основанный в 2000 году, этот двуязычный ежеквартальник (публикующий материалы на русском или английском) четко следует формату тематических годовых программ, которые анализируются в четырех тематических номерах. В 2004 году тема года была сформулирована как «Археология памяти империи и нации: конфликтующие версии имперского, национального и регионального прошлого». Редакция пригласила авторов приложить сложившийся канон истории коллективной памяти к российской ситуации полиэтничного, многоконфессионального и мультикультурного разнообразия. Оказалось, что вопрос «чья память?» является далеко не риторическим, что проявляется, в частности, в проблемах с написанием учебников, одинаково воспринимающихся в Москве и в Казани, на Кавказе и в Сибири. Чья версия событий прошлого берет верх, насколько историческая память подвержена манипуляциям, как действуют механизмы самоцензуры, вытеснения, амнезии? Эти вопросы оказались созвучными тем, что задают исследователи имперского пространства и его многообразия: насколько монолитным или сложносоставным является субъект власти и доминирования в империи, как сочетаются в едином имперском пространстве различные социальные иерархии (сословные, классовые, конфессиональные, этнические и т. д.). Принципиальная несводимость общественной памяти к одному национальному мифу отражает общую принципиальную несводимость имперского пространства к тем, преимущественно национальным, категориям, которыми это пространство описывают исследователи.
Главным итогом годовой исследовательской программы, посвященной исторической памяти империи и нации, стала наглядная демонстрация «многоголосия» исторического нарратива, принципиальная невозможность адекватного рассказа о прошлом с какой-либо одной точки зрения, в рамках одной непротиворечивой «истории». Этот взгляд на прошлое и способ рассказа о нем лег в основу «новой имперской истории» – направления, одним из лидеров которого является Ab Imperio. «Новая имперская история» посвящена изучения империи не как «вещи», формальной структуры власти или экономической эксплуатации, а как «имперской ситуации». Для нее характерно не просто крайнее разнообразие общества и разношерстность населения, но принципиальная несводимость этого разнообразия к какой-то единой системе. С точки зрения истории памяти проблема сводится не столько к противоречию «памяти» и «фактов», сколько к несовпадению «русской», «украинской», «еврейской», «татарской» и прочей памяти, памяти элит и непривилегированных слоев, горожан и деревенских жителей. Та единая национальная память, которую пытались реконструировать французские историки под руководством Пьера Нора, в «имперской ситуации» России распадается на конфликтные или, по меньшей мере, несовпадающие локальные и частные «памяти». Публикуемые в этом сборнике материалы знакомят читателей с каноном «истории памяти» в том виде, в каком он сложился к концу 1990-х годов (статьи Яель Зерубавель и Этьенна Франсуа). Показывают, какую роль общественная память играет в социально-политической мобилизации в переломные эпохи (Андреас Лангеноль, Стефан Требст) и в текущей политической ситуации (Тони Джадт, Рональд Григор Суни). Именно с учетом этих особенностей функционирования и восприятия общественной памяти мы предлагаем рассматривать сюжеты, связанные с интерпретацией российской/советской истории (в статьях Игоря Мартынюка, Сергея Маркедонова, Сергея Плохия, Владимира Бобровникова и Сергея Румянцева) и современной государственной политикой памяти в постсоветских странах (в статье Виктора Шнирельмана).
Яель Зерубавель
Динамика коллективной памяти
Коллективная память в последнее время оказалась в центре целого ряда междисциплинарных исследований. Настоящее исследование тоже принадлежит к быстро растущему числу работ, посвященных изучению процесса социального конструирования коллективной памяти и взаимоотношений между памятью и историей, исторической наукой. Меня интересует та роль, которую в современной общественной жизни играют различные нарративы и ритуалы, призванные донести до новых поколений память о тех или иных выдающихся событиях прошлого. Меня также интересует воздействие этих рассказов и ритуалов на политическую жизнь и то, каким образом общество иммигрантов, создавая принципиально новый образ своего народа, новое национальное самосознание, новую национальную культуру, переосмысливает свои исторические корни. Коллективная память об обретенных исторических корнях придает социуму новый импульс, становится средством выражения новых идей и ценностей. В этом процессе новая нация опирается как на историческую науку, так и на традицию. Избирательно используя тот материал, который они поставляют – то отвергая, то принимая их заключения, то подавляя, то развивая их положения, – новая нация заново создает свою память, формирует новую национальную традицию.
Мое исследование рассматривает исторические события, однако оно не историческое в строгом смысле слова. Все внимание здесь сосредоточено на вопросе о том, что помнят о каких-либо исторических событиях люди, принадлежащие к одному социуму, как они их интерпретируют, как создается общее для всех понимание этих эпизодов прошлого, как оно меняется со временем. Меня интересует тот уровень исторического знания, который в конечном счете приобретает самый глубокий смысл в контексте повседневной жизни. По замечанию выдающегося американского историка Карла Беккера, на жизнь общества, на ход событий самое большое влияние оказывают те исторические познания, которые заключены в головах обычных людей. Нельзя сказать, что, раз люди не хотят читать сочинения историков, историческая наука никак не влияет на ход событий. Знакомо ли большинство людей с историческими исследованиями или нет – так или иначе все они имеют какое-то представление о прошлом. И эта картина, существующая в их сознании – пусть даже она не имеет почти ничего общего с реальным прошлым, – помогает сформироваться их представлениям о политике и обществе.[1 - Becker C. L. What Are Historical Facts? // Detachment and the Writing of History: Essays and Letters of Carl L. Becker / Ed. by Phil L. Snyder. Ithaca, 1958. P. 61; курсив мой.]
Итак, я рассматриваю тот уровень исторического знания, который Морис Хальбвакс называет коллективной памятью[2 - Halbwachs M. La Mеmoire collective [1950] // Halbwachs M. The Collective Memory / Trans. by F.J. and V.Y. Ditter. N.Y., 1980. P. 50—87. См. также: Halbwachs M. Les cadres sociaux de la mеmoire [1925] // Halbwachs M. On Collective Memory / Engl. trans. and intr. by Lewis A. Coser. Chicago, 1992. P. 37–189.]. По замечанию М. Хальбвакса, каждая группа людей создает свою память о собственном прошлом – память, которая подчеркивает особенности этой группы, отличает ее от всех других. Воссозданные в общественном сознании образы прошлого дают данной группе возможность представить свою историю – происхождение и развитие, – что, в свою очередь, позволяет этому сообществу узнавать себя в череде столетий[3 - Halbwachs M. The Collective Memory. P. 86.]. Хотя носителями коллективной памяти выступают отдельные люди, она шире их индивидуальной автобиографической памяти, поскольку основывается на передаче знания от одного поколения к другому.[4 - В то время как автобиографическая память относится к событиям, которые человек непосредственно пережил, коллективная память включает в себя и такие события прошлого, которые не связаны с личным опытом отдельных людей, но известны им в пересказе других лиц. Однако, как подчеркивает М. Хальбвакс, эти две формы памяти связаны между собой, о чем свидетельствует практика устанавливать дату того или иного события личной жизни, ориентируясь на социально значимые вехи (такие, например, как войны). См.: Ibid. P. 44—49.]
Значительный вклад М. Хальбвакса в изучении данной проблемы состоит в том, что в своем основополагающем исследовании он дал определение коллективной памяти, проведя четкое различие между ней и другими формами памяти – автобиографической памятью личности и историческим сознанием. Труды М. Хальбвакса, в которых подчеркивалось значение социального контекста, «социальных рамок» (cadres sociaux) для понимания коллективной памяти, вдохновили растущее число работ, посвященных изучению социальных и политических аспектов поминания/коммеморации – сохранения в общественном сознании памяти о каких-то значимых событиях прошлого, «увековечивания памяти» о прошлом[5 - См., например: Schwartz B. The Social Context of Commemoration: A Study in Collective Memory // Social Forces. 1982. № 61. P. 374—402; Les Lieux de mеmoire / Sous la dir. de Pierre Nora. Paris, 1984. Vol. 1: La Rеpublique; Lowenthal D. The Past Is a Foreign Country. Cambridge, 1985; Schwartz B., Zerubavel Y., Barnett B. The Recovery of Masada: A Study in Collective Memory // Sociological Quarterly. 1986. Vol. 27. № 2. P. 147—164; Hutton P.H. Collective Memory and Collective Mentalities: The Halbwachs-Ari?s Connection // Historical Reflections / Rеflexions Historiques. 1988. Vol. 15. № 2. P. 311—322; Connerton P. How Societies Remember. Cambridge, 1989;Kammen M. Mystic Chords of Memory. N.Y., 1991; Commemorations: The Politics of National Identity / Ed. by John R. Gillis. Princeton, 1994.]. Однако, как мне кажется, стремление Хальбвакса подчеркнуть особые свойства коллективной памяти привело его к переоценке различий между памятью и историей, исторической наукой. Именно потому Хальбвакс и писал о них как о двух противоположных друг другу способах репрезентации прошлого. История, как результат скрупулезного изучения исторических источников, представляет собой «квинтэссенцию органической науки», она неподвластна давлению окружающей социополитической реальности. Коллективная память, со своей стороны, является неотъемлемой частью общественной жизни, а стало быть, постоянно трансформируется в ответ на меняющиеся потребности социума.[6 - Halbwachs M. The Collective Memory. P. 78—87.]
Это противопоставление отчасти объясняется взглядом Хальбвакса на коллективную память и историческую науку как на два разных этапа в развитии человеческого познания прошлого. Историческая наука как основной способ познания прошлого возникает, с точки зрения Хальбвакса, тогда, когда слабеет сила традиции и социальная память угасает[7 - Ibid. P. 78—83. Наблюдения Иосифа Хаима Иерушалми об угасании исторической памяти иудеев параллельно с развитием в XIX веке современного светского подхода к изучению истории еврейского народа подтверждают эту точку зрения. См. его книгу: Yerushalmi Y.H. Zakhor: Jewish History and Jewish Memory. Seattle, 1982.]. Научное изучение прошлого, таким образом, несет на себе печать современной эпохи, дискредитировавшей «память как форму связи с прошлым». В этом смысле можно сказать, что современный французский историк Пьер Нора идет по пути, проложенному М. Хальбваксом. П. Нора разделяет убежденность своего предшественника в спонтанной и динамичной природе коллективной памяти, находящейся «в постоянной эволюции, открытой для диалектики воспоминания и забвения, не осознающей свои постоянные изменения, легко поддающейся манипулированию и присвоению, порой угасающей на какое-то время, чтобы затем снова пробудиться к жизни»[8 - Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de Mеmoire // Representations. 1989. Vol. 26. P. 8.]. Однако историческая наука, как критический дискурс, возникла в противопоставлении памяти и стремится ее подавить. Таким образом, утверждает Нора, с угасанием живых традиций в современном обществе мы застаем лишь их реликты, «архивные формы» памяти, которые можно найти в особых, изолированных от обычного течения жизни «местах» (les lieux de mеmoire). Эти места представляют собой, «в сущности, не что иное, как останки, последние воплощения мемориального сознания, которое почти исчезло в наши дни, в эпоху, постоянно занятую поисками прошлого, поскольку память о нем оказалась утраченной».[9 - Ibid. P. 12.]
Как замечает Патрик Хаттон, не многие специалисты сегодня согласятся со взглядами Хальбвакса на историческую науку, высказанными французским социологом в его работе «Коллективная память»[10 - Hutton P. H. History as an Art of Memory. Hanover, NH, 1993. P. 73—90.]. Ни одно историческое исследование не может претендовать на исчерпывающую полноту – оно неизбежно ограничено взглядами автора, его выбором и организацией информации, законами жанра исторического повествования[11 - См.: Collingwood R. G. The Idea of History. Oxford, 1946. P. 236—249; Becker C.L. What Are Historical Facts? // What Is History? / Ed. by E.H. Carr. N.Y., 1971; White H. The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore, 1987.]. Конечно, историки могут стремиться соответствовать идеалу беспристрастного анализа событий прошлого, но они также принадлежат своему обществу и, будучи его членами, часто откликаются на господствующие в этом обществе представления о прошлом. Действительно, историки могут не только разделять те исходные посылки, на которых зиждется коллективная память, – своими работами они также могут способствовать формированию самих этих посылок, что хорошо видно на примере истории национальных движений.[12 - Funkenstein A. Tadmit ve-Toda’a Historit ha-Yahadut uvi-Sevivata ha-Tarbutit [Как представляли историю евреев с древности до современности]. Tel Aviv, 1991. P. 28.]
В то же время, вопреки своей динамичной природе, коллективная память не является суммой совершенно произвольных представлений о прошлом, нельзя также считать ее абсолютно независимой по отношению к исторической науке. Как отмечает Барри Шварц, подход Хальбвакса, «сосредоточенный исключительно на настоящем», подрывает само понятие непрерывности истории человечества, поскольку в нем слишком большой акцент ставится на способности коллективной памяти к адаптации. «Учитывая те ограничения, которые налагают на нас исторические источники, – считает Шварц, – прошлое нельзя полностью выдумать, создать заново как литературное сочинение, его можно только выборочно изучать»[13 - Schwartz B. Op. cit. P. 393. См. также: Schwartz B., Zerubavel Y., Barnett B. Op. cit. P. 149—151, 158—161; Schudson M. The Present in the Past versus the Past in the Present // Communication. 1989. Vol. 11. P. 105—113;Coser L.A. Introduction // Halbwachs M. La Mеmoire collective. Патрик Хаттон, рассматривая противоречия между теоретическими построениями Хальбвакса и его исследованием топографии Святой земли, приходит к выводу, что Хальбвакс был «историком памяти вопреки своим собственным взглядам». См.: Hutton P. H. Op. cit. P. 80—84.]. Подобно маятнику, коллективная память находится в бесконечном движении: от исторических источников – к современным общественно-политическим проблемам и задачам, от современности – обратно к свидетельствам о прошлом, стремясь объединить их между собой. Обращаясь к историческим источникам, коллективная память постоянно меняет свою трактовку событий, выборочно подчеркивая одни эпизоды, затушевывая другие, привнося какие-то новые штрихи. Таким образом, история и память не существуют независимо друг от друга, не развиваются в противоположных направлениях – они находятся в постоянной борьбе между собой, но в то же время они неизбежно зависят друг от друга[14 - См. также написанное Натали Земон Дэвис в соавторстве с Рэндольфом Старном введение к специальному номеру журнала Representations (1986. Vol. 26. P. 5), посвященному коллективной памяти и контрпамяти.]. Неоднозначность этих отношений и придает сохранению в обществе памяти о прошлом то творческое напряжение, благодаря которому коллективная память представляет собой столь интересный объект для изучения.
Коллективная память, как показывает настоящее исследование, вовсе не исчезла в наше время, ее нельзя рассматривать и как простой «пережиток прошлого». Вопреки обилию исторических изысканий, в современном обществе у людей по-прежнему создаются общие воспоминания о своей истории. И сегодня поэты и писатели, журналисты и учителя подчас играют гораздо более заметную – по сравнению с профессиональными историками – роль в формировании бытующих в общественном сознании образов прошлого[15 - Джеффри Хартман утверждает, что перенасыщенность современных массмедиа всякого рода «невыдуманными историями», различной продукцией, основывающейся на воспоминаниях и документах, ошеломляюще воздействует на наше чувство реальности и истории, приводя к тому, что Хартман называет «дереализацией». См.: Hartman G.H. Public Memory and Modern Experience // Yale Journal of Criticism. 1993. Vol. 6. P. 240.]. Широкий спектр формальных и неформальных средств, направленных на то, чтобы увековечить историю данного социума, помогает коллективной памяти сохранить свою жизненную силу. Праздничные торжества, фестивали, приуроченные к различным «знаменательным датам», памятники и мемориалы, песни, рассказы, театральные постановки, школьные учебники – все эти средства напомнить о славном прошлом вступают в соревнование с трактовками специалистов-историков.
Хотя М. Хальбвакс и подчеркивал пластичность и изменчивость коллективной памяти, в своих работах он прямо не касался вопроса о том, каким образом она трансформируется. В этом контексте понятие коммеморации – т. е. всех тех многочисленных способов, с помощью которых в обществе закрепляется, сохраняется и передается память о прошлом, – становится центральным для нашего понимания динамики изменения памяти[16 - Halbwachs M. The Collective Memory. P. 82. См. также утверждение П. Нора о том, что «места памяти» (lieux de memoire) сохраняются благодаря их способности к изменениям: Nora P. Op. cit. P. 19.]. Коллективная память обретает плоть благодаря множеству различных форм «коммеморации»: юбилейным торжествам, чтению рассказов, участию в мемориальной службе по погибшим, соблюдению традиционных религиозных обрядов в праздничные дни. Посредством всех этих ритуалов у данной группы людей формируются представления о тех или иных событиях прошлого, вырабатывается единство этих представлений, подбирается определенная словесная форма для их артикуляции[17 - См. рассуждения Э. Дюркгейма о ритуалах, связанных с сохранением памяти о каких-либо событиях: Durkheim Е. The Elementary Forms of the Religious Life [1915] / Engl. trans. by Joseph Ward Swain. N.Y., 1965. P. 414—433.]. Участие в подобных «коммеморативных ритуалах» позволяет людям не только оживить и подтвердить старые воспоминания о прошлом, но и изменять их. Для того чтобы выразить именно эту идею, в своем романе «Возлюбленная» американская писательница Тони Моррисон использует выражение «вспомнить заново» (to rememory): она показывает, как повторное символическое переживание прошлого меняет воспоминания о нем[18 - Morrison T. Beloved. N.Y., 1987.]. На уровне отдельного сообщества каждый акт «коммеморации» позволяет ввести в оборот новые трактовки прошлого, хотя повторение «коммеморативных ритуалов» способствует поддержанию в обществе ощущения непрерывности коллективной памяти.
В то время как историки-профессионалы и другие представители интеллектуальной элиты выстраивают свои суждения о прошлом в соответствии с правилами науки, для большинства людей представления о днях минувших формируются в первую очередь под воздействием множества различных форм «коммеморации». Более того, приобщение детей с самого раннего возраста к коллективной памяти происходит еще до того, как они знакомятся с исторической наукой, и потому коллективная память может иметь на них значительно большее влияние. Особенно важную роль в приобщении ребенка к национальным традициям играет школа. Ничто так не способствует закреплению в сознании образов и рассказов, воплощающих коллективную память данной социальной общности, как образование, полученное в раннем детстве. Итак, в детском саду и начальной школе из рассказов, стихотворений, песен и пьес ребенок узнает об основных исторических персонажах и событиях. Во всех этих жанрах факты часто перемешаны с вымыслом, история – с легендой, поскольку принято считать, что эта красочная смесь придает литературе большую притягательность в глазах маленьких детей[19 - См. также: Zerubavel Y. The Holiday Cycle and the Commemoration of the Past: Folklore, History, and Education // Proceedings of the Ninth World Congress of Jewish Studies. Jerusalem, 1986. Vol. 4. P. 111—118.]. Эти произведения, призванные увековечить память о прошлом, вносят свой вклад в формирование чувств и представлений, связанных с историей, которые могут сохраняться и в дальнейшей жизни, даже если впоследствии человек познакомится с исторической наукой.
Каждый акт «коммеморации» воспроизводит «коммеморативный нарратив» – рассказ о тех или иных исторических событиях, объясняющий причины, по которым общество в ритуализированной форме вспоминает об этом эпизоде прошлого, и заключающий в себе нравственный урок членам данного социума. Конечно, создавая это повествование, коллективная память опирается на исторические свидетельства. И все же источники используются здесь творчески и избирательно. Такой «коммеморативный нарратив», как и сочинения историков, отличается от хроники тем, что подвергается определенной литературной обработке (нарративизации) – превращается из простого перечня фактов в связный рассказ. Как показывает Хейден Уайт, отбор и организация большого числа фактов в повествовательную форму требует соблюдения определенных правил, предъявляемых в первую очередь поэтикой литературного жанра[20 - White H. Op. cit. P. 42. См. также: Mink L.O. Narrative Form as a Cognitive Instrument // The Writing of History: Literary Form and Historical Understanding / Ed. by Robert H. Canary and Henry Kozicki. Madison, 1978. P. 143; Lowenthal D. Op. cit. P. 219—224.]. Сходство исторического сочинения с художественным текстом, подмеченное Уайтом, особенно хорошо заметно в случае «коммеморативного нарратива», где границы между вымыслом и реальностью еще более размыты[21 - См. различие, которое проводит Х. Уайт между «дискурсом реальности» и «дискурсом воображаемого»: White H. Op. cit. P. 20. См. также высказанные им ранее идеи: Idem. Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. Baltimore, 1978. P. 51—80, 81–100; а также: Mink L. O. Op. cit. P. 144—145.]. Творческий потенциал «коммеморативного нарратива» – потенциал, ограниченный, впрочем, рамками, заданными историческими изысканиями, – равно как и манипулирование в этом нарративе историческими источниками путем сознательного затушевывания одних фактов и домысливания других сюжетов, и исследуется в настоящей работе.
Каждое действие, направленное на поддержание памяти о прошлом, каждый «акт коммеморации» воссоздает какой-то один отрезок этого прошлого, и потому такая память фрагментарна по своей природе. И все же все действия, взятые вместе, слагаются в общую повествовательную конструкцию[22 - Master commemorative narrative – дословно «коммеморативный мастернарратив». – Примеч. пер.], или схему повествования, которая упорядочивает и приводит в систему коллективную память. Под этим термином я понимаю общие представления об истории, основную «сюжетную линию», которая определяется всей культурой данного социума и формирует у его членов единое понимание их прошлого.[23 - Высказанное Жаном-Франсуа Лиотаром предположение о крушении метанарратива как источника легитимизации постмодернистского общества звучит весьма убедительно: Lyotard J. F. The Post-modernist Condition: A Report on Knowledge / Engl. trans. by Geoff Bennington and Brian Massunmi. Minneapolis, 1984. И все же я считаю, что глубокая человеческая потребность осмысливать события прошлого и настоящего, подыскивая им словесное выражение, продолжает утверждать себя на уровне как общества, так и отдельной личности. Таким образом, даже испытав сильнейшие потрясения, приводящие к разрыву памяти, люди могут создавать новые рассказы о своем прошлом, которые способствуют заполнению провалов в памяти. Даже в технологически высокоразвитом обществе существует потребность в создании общих повествовательных конструкций, общих схем повествования – хотя вполне возможно, что эти конструкции претерпевают значительные изменения, чтобы соответствовать меняющимся потребностям.]
Итак, для того, чтобы по-настоящему оценить смысл тех или иных действий, направленных на сохранение памяти о каком-то эпизоде, важно рассмотреть их в контексте общей повествовательной конструкции, объединяющей воспоминания об отдельных событиях в обобщенные представления об истории. Исследование коллективной памяти о конкретном событии, таким образом, требует изучения истории этих действий в их связи с другими значимыми событиями в прошлом данного социума. Как мы увидим в дальнейшем, уподобление или противопоставление одних исторических событий и периодов другим само по себе уже является неотъемлемой частью формирования коллективной памяти.
В центре общей повествовательной конструкции заключены представления данной группы лиц о себе самих как об особой, отличной от всех других групп общности, находящейся в процессе исторического развития. В этом смысле общая повествовательная конструкция, объединяющая всю совокупность образов прошлого, вносит свой вклад в формирование нации, изображая ее как единый социум, проходящий сквозь века из одной исторической эпохи в другую[24 - Говоря о природе национализма, Ханс Кон утверждает, что «национализм – это состояние ума, присущее большинству людей и претендующее на то, что оно свойственно всем членам данного общества» (Kohn H. The Idea of Nationalism. N.Y., 1944. P. 16). Бенедикт Андерсон и Хоми Баба развили идею о том, что нация представляет собой продукт общественного сознания, определив ее как «воображаемое политическое сообщество»: Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, 1983. P. 14—16, 31; Bhabha H.K. DissemiNation: Time, Narrative, and the Margins of the Modern Nation // Nation and Narration / Ed. by Homi K. Bhabha. London, 1990. P. 290—322.]. Движение из прошлого в будущее часто подразумевает линейную модель времени. Однако общая повествовательная конструкция порой отказывается от подобной модели, допуская пропуски, отступления и повторы, наложения одних исторических событий на другие. Годовой цикл праздников – светских и религиозных – как правило, нарушает течение времени, подчеркивая повторяющиеся события в коллективном опыте социума[25 - Вопреки распространенному представлению о том, что современность (modernity) связана с линейной трактовкой времени, Эвиатар Зерубавель показывает, каким образом циклическое понимание времени до сих пор пронизывает современную повседневную жизнь. См.: Zerubavel E. Hidden Rhythms: Schedules and Calendars in Social Life. Chicago, 1981; а также: Idem. The Seven Day Circle: The History and Meaning of the Week. N.Y., 1985.]. Действительно, противоречие между линейным и циклическим восприятием истории часто лежит в основании процесса формирования коллективной памяти[26 - См.: Terdiman R. Deconstructing Memory: On Representing the Past and Theorizing Culture in France since the Revolution // Diacritics. 1985. Vol. 15. P. 28—32. Хоми Баба рассматривает противоречие между «педагогическим» и «перформативным» (ритуальным) аспектами общей повествовательной конструкции, объединяющей совокупность представлений о прошлом той или иной нации. Если педагогический аспект подразумевает «непрерывно текущее, линейное время, аккумулирующее в себе прошлое», то перформативный аспект представляет время как «повторяющееся, возвращающееся назад» – другую стратегию, используемую в создании национального нарратива. См.: Bhabha H. K. Op. cit. P. 297.]. Как мы увидим в дальнейшем, нарративы, объясняющие причины, по которым отмечается память об отдельных событиях, часто предполагают их уникальный характер, в то время как помещение этих рассказов в контекст общей повествовательной конструкции, общего нарратива, позволяет увидеть повторяющиеся мотивы в истории данного общества.
Поскольку в коллективной памяти подчеркиваются отличительные свойства данной группы, определяющие ее лицо, в общей повествовательной конструкции особо выделяется такое событие, которое знаменует момент возникновения этой группы как независимого социума[27 - См. обсуждение вопроса о культурной значимости истоков: Eliade M. Myth and Reality. N.Y., 1963. P. 21—53, а также: Warner W.L. The Living and the Dead: A Study in the Symbolic Life of Americans. New Haven, 1959 [Yankee City Series. Vol. 5]. P. 156—225; Schwartz B. Op. cit. P. 374—402.]. Сохранение памяти о начале истории, несомненно, необходимо для того, чтобы показать особенности данного сообщества, установить его границы по отношению к другим группам. Акцент на «коренном отличии»[28 - Как полагает Эвиатар Зерубавель, формирование идеи «коренного отличия», «великого разрыва» приводит к возникновению «ментальных лакун» в общественном сознании – в противном случае мы воспринимали бы реальность как непрерывную. Более подробное обсуждение этих понятий см.: Zerubavel E. The Fine Line: Making Distinctions in Everyday Life. N.Y., 1991. P. 21—32. Значимость этих проблем в контексте новых (или возобновленных) национальных притязаний очевидна в Европе после падения коммунистических режимов.] между данной общностью и всеми остальными нужен для того, чтобы с ходу отмести любые сомнения в легитимности этой общности, в ее праве на существование. Сохранение памяти о возникновении сообщества обосновывает его притязания на независимость – часто путем демонстрации его глубоких корней, теряющихся во мраке веков. Национальные движения в Европе стимулировали значительный общественный интерес к крестьянскому фольклору, поскольку их участники верили в то, что фольклор служит неоспоримым свидетельством уникальности национального прошлого и народных традиций[29 - Wilson W. A. Folklore and Nationalism in Modern Finland. Bloomington, 1976; Herzfeld M. Ours Once More: Folklore, Ideology, and the Making of Modern Greece. N.Y., 1986; Handler R. Nationalism and the Politics of Culture in Quebec. Madison, 1988; Silverman C. Reconstructing Folklore: Media and Cultural Policy in Eastern Europe // Communication. 1989. Vol. 11. P. 141—160.]. Точно так же ближе к нашим дням можно найти примеры попыток воссоздания или изобретения древних традиций, призванных показать общие исторические корни нации, уходящие в далекое прошлое.[30 - Бернард Льюис приводит примеры стран Ближнего Востока и Африки, попытавшихся изменить свое национальное прошлое: Lewis B. History: Remembered, Recovered, Invented. Princeton, 1975.]
Как заметил Пьер Нора, в современном обществе, как правило, отмечается именно «рождение» нации (а не ее «начала», «истоки»), что позволяет передать ощущение разрыва с прошлым[31 - Nora P. Op. cit. P. 16—17.]. Действительно, рождение символизирует одновременно и момент отделения данного социума от другой группы, и начало его новой жизни как независимого коллектива со своим собственным будущим. Смещение акцентов в передаче памяти о «начале истории» может также служить и средством изменения самосознания сообщества. В качестве примера можно сослаться на перемены, произошедшие не так давно в представлениях афроамериканцев о своем прошлом. Современное чернокожее население Америки стремится подчеркнуть свое африканское происхождение, что отразилось, в частности, и в самоназвании данной группы. В то время как слово «негр» ассоциируется с рабским прошлым этих людей, желание подчеркнуть свои более древние африканские корни ведет к переосмыслению их групповой идентичности как «афроамериканцев».
Общий смысл развитию социума придает периодизация его истории в коллективной памяти, которая вносит в события прошлого определенный порядок. Подобно другим аспектам коллективной памяти, такая периодизация предполагает постоянный диалог между прошлым и настоящим, изменяясь по мере того, как данное сообщество переосмысливает свою историю с текущих идеологических позиций. Отобрав из числа многих других возможных некоторые критерии, коллективная память делит прошлое на основные эпохи, при этом сложные исторические процессы и явления сводятся к простым сюжетным линиям. Сила коллективной памяти заключается не в скрупулезном, систематичном или особо искушенном реконструировании прошлого, а в создании простых и ярких образов, при помощи которых удается выразить и укрепить определенную идеологическую позицию.
Склонность коллективной памяти к изображению прошлого в черно-белых тонах приводит к нагнетанию контраста между различными историческими периодами и способствует формированию однозначного отношения к тому или иному этапу в развитии данного общества. Таким образом, в коллективной памяти одни периоды представлены как важные шаги, сделанные этим обществом в своем развитии, в то время как другие изображаются как эпохи упадка. Как правило, эпохи первопроходцев, захвата чужих земель или борьбы за независимость получают позитивную оценку в истории нации. Напротив, те времена, когда данный народ входил в состав империй, характеризуются негативно, как эпохи, не позволившие полностью реализоваться его законному праву существовать как независимая политическая единица.
Приведение представлений о прошлом в определенную систему в ходе создания общей повествовательной конструкции также выявляет коммеморативную плотность тех или иных исторических периодов, что Леви-Стросс называл функцией «давления истории»[32 - Выражение К. Леви-Стросса. Леви-Стросс говорит о возникновении «горячих» и «холодных» хронологий как результате «давления истории». См.: Lеvi-Strauss C. The Savage Mind. Chicago, 1970. P. 259—260. См. также: Warner W.L. Op. cit. P. 129—135; Schwartz B. Op. cit. P. 375—377.]. Под «коммеморативной плотностью» мы имеем в виду то значение, которое общество приписывает различным отрезкам своего прошлого: в то время как одни периоды занимают привилегированное положение в общественном сознании, им посвящено множество памятных торжеств и ритуалов, другие привлекают к себе лишь незначительное внимание или оказываются полностью преданными забвению. Таким образом, «коммеморативная плотность» выше всего у тех эпох или событий, которые занимают ключевое положение в историческом сознании данной группы и сохранению памяти о которых посвящаются значительные усилия. Ниже всего «коммеморативная плотность» тех эпох, которым в рамках общей повествовательной конструкции почти не уделяется внимания. Периоды или события, которые подавляются и затушевываются в коллективной памяти, становятся объектом коллективной амнезии. Таким образом, конструирование общей повествовательной конструкции позволяет увидеть динамику воспоминания и забвения, лежащую в основе создания любого нарратива, объясняющего причины, по которым общество находит нужным сохранять память о каких-то событиях. В то время как в коллективной памяти все внимание уделено определенным сторонам прошлого, отброшенными неизбежно оказываются все другие его аспекты, считающиеся несущественными или потенциально опасными для хода повествования и передачи основного смысла прошлого с определенных идеологических позиций.
Бернард Льюис обращает наше внимание на феномен воссоздания забытого прошлого. Однако не менее важно подчеркнуть, что подобное воссоздание утраченного может привести к тому, что будут пропущены какие-то другие эпизоды. Воспоминание и забвение, таким образом, тесно взаимосвязаны в формировании коллективной памяти. Именно этот дуализм процесса обретения и сокрытия исторических корней я и собираюсь рассмотреть в настоящей работе.[33 - Зигмунд Фрейд рассматривает феномен коллективной амнезии в своей работе «Моисей и монотеизм». См.: Freud S. Moses and Monotheism [1939]. N.Y., 1967. Подобно памяти, амнезия не является неподвижным состоянием, но представляет собой постоянно меняющийся процесс. Таким образом, социум может восстановить свою память, оправиться от коллективной амнезии и воссоздать подавленное прошлое. См., например, обсуждение проблемы воссоздания утраченного прошлого Бернардом Льюисом: Lewis B. Op. cit. О диалектике воспоминания и забвения см. специальный номер журнала Communications (1989. Vol. 49), озаглавленный «La mеmoire et l’oublie».]
Повествовательная конструкция, выстраивая представления общества о прошлом в определенную систему, диктует свое собственное «летоисчисление» – исторические события сдвигаются, уплотняются, дополняются новыми деталями или, наоборот, опускаются, иным же из них придается преувеличенное значение. С помощью этих и других риторических приемов историческое время в рассказе трансформируется в коммеморативное время – время памяти[34 - Введением понятия «коммеморативное время» мы развиваем понятие нарративного времени, предложенное Ж. Женеттом. См.: Genette G. Narrative Discourse: An Essay in Method. Ithaca, 1980. P. 33—35.]. Так, обилие подробностей в упоминании об одном эпизоде чаще всего приводит к тому, что в сознании людей историческое время растягивается, и, наоборот, скупой и слишком обобщенный образ, сохраняющийся в памяти о каком-то событии, сокращает его длительность, сводит ее до минимума в рамках всего повествования. […]
Хотя исторические изменения обычно занимают некоторое время и являются следствием определенных процессов, а не единичных событий, коллективная память склонна выделять отдельные эпизоды, представляя их как символические маркеры перемен. Несомненно, выбор одного знакового события гораздо лучше подходит для целей ритуализированного воспоминания, чем постепенный процесс перехода из одного состояния в другое[35 - Эдвард Шилс заметил, что чаще всего «великие моменты» – это те события, которые, как считается, определили последующее развитие и, соответственно, придали ореол сакральности прошлому. См.: Shils E. Center and Periphery: Essays in Macrosociology. Chicago, 1975. P. 198. Пример того, как длительный исторический процесс затушевывается в общественном сознании, когда какое-то событие оказывается выбранным в качестве ключевого эпизода в различных ритуалах, связанных с сохранением памяти об этом отрезке прошлого, см.: Zerubavel E. Terra Cognita: The Mental Discovery of America. New Brunswick, 1992.]. В рамках общей повествовательной конструкции эти события предстают как поворотные моменты, изменившие ход исторического развития общества, – потому они и отмечаются с особым тщанием и торжественностью. В свою очередь, выбор определенных эпизодов прошлого в качестве таких поворотных моментов, подчеркивая драматизм перехода от одной эпохи к другой, высвечивает идеологические принципы, лежащие в основе общей повествовательной конструкции.
Высокая «коммеморативная плотность», приписываемая определенным событиям, служит не только тому, чтобы подчеркнуть их историческое значение. Она может также выделять их из длинного ряда эпизодов, придавать им особый статус символических текстов, служащих ключом к пониманию других событий истории данного социума. Таким образом, в коллективной памяти историческое событие может превратиться в политический миф[36 - Tudor H. Political Myth. N.Y., 1972. P. 137—140.], через призму которого, как сквозь увеличительное стекло, члены данного сообщества видят настоящее и пытаются представить себе будущее. Поскольку поворотные моменты часто обретают символический смысл как знаки перемен, они скорее других трансформируются в политические мифы. Как таковые, они не только отражают социально-политические потребности социума, способствовавшие возникновению этого мифа, но сами становятся силой, формирующей эти потребности.
Став знаками глубоких исторических сдвигов и заместив собою в сознании людей целые переходные периоды, «поворотные моменты» обладают особым символическим смыслом. В силу этого они оказываются и самыми спорными и, в сравнении с событиями, безусловно относимыми в общей повествовательной схеме к определенному историческому этапу, в гораздо меньшей степени поддаются однозначной трактовке. Неоднозначность вытекает из пограничного положения «поворотных моментов» между двумя эпохами: они одновременно обозначают и уход от прошлого, и вступление в новую жизнь – мотивы, свойственные всем обрядам перехода[37 - Van Gennep A. The Rites of Passage [1908]. Chicago, 1960. P. 11.]. Как пишет Виктор Тернер, «пограничные объекты и явления не принадлежат ни тому ни другому миру – они находятся между ними, не склоняясь ни к одной, ни к другой позиции, установленной законами, обычаями, условностями и обрядами каждого из этих двух миров. Потому в разные века у многих народов, ритуализирующих состояние перехода в культуре и обществе, неоднозначные, неопределенные свойства этих объектов и явлений находили и находят выражение в богатом арсенале символов».[38 - Turner V. W. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Harmondsworth, Middlesex, 1974. P. 81.]
Как и в случае других обрядов перехода, любые действия, связанные с сохранением памяти об этих поворотных моментах истории, пронизаны чувством приобщения к святыне, но в то же время в них сквозит глубокое внутреннее противоречие. Это символическое состояние «порубежья», бытия на грани двух эпох, с одной стороны, придает «поворотным моментам» дополнительную неоднозначность, позволяет по-разному их интерпретировать, а с другой – способствует их превращению в политический миф, используемый как орудие в борьбе различных сил. Многозначность смысла может быть не столь заметной в конкретном случае отмечания памяти об этом эпизоде: вполне возможно, что в этот раз удалось подчеркнуть один определенный смысл этого события и подавить все другие возможные интерпретации. Однако сравнительное исследование различных мер, направленных на сохранение памяти об одном и том же «поворотном моменте» истории, позволяет заметить как противоречия в трактовках, так и поразительную способность мифа примирять конфликты между резко расходящимися прочтениями прошлого.
Именно эта способность и помогает понять, почему отдельные события продолжают занимать центральное место в исторической памяти того или иного сообщества – вопреки внутренним противоречиям, заложенным в бытующие о них представления. Пограничное положение «поворотных моментов» дает простор различным интерпретациям, сглаживает конфликты, существующие между разными трактовками, тем самым позволяя этим событиям сохранять сакральное значение, удерживаться на своем месте в рамках общей повествовательной конструкции. Порой, однако, хрупкое сосуществование противоречащих друг другу интерпретаций нарушается, миф не может более сдерживать внутренний конфликт между ними. В такие моменты начинается открытая борьба за прошлое, соперничающие группировки вступают в столкновение из-за того, как следует его трактовать. […] В подобных ситуациях хрупкое равновесие между господствующими в обществе представлениями о том или ином историческом событии – представлениями, выраженными в определенных повествовательных конструкциях, и другими, альтернативными представлениями – может быть нарушено, что, в свою очередь, вызывает более глубокие сдвиги в коллективной памяти общества.
Альтернативную повествовательную модель, прямо противоречащую общей повествовательной конструкции и существующую вопреки подавляющему превосходству последней, мы определили как контрпамять. Как предполагает этот термин, «контрпамять» в силу самой своей природы – память оппозиционная, враждебная господствующей коллективной памяти, обладающая подрывным потенциалом. Если общая повествовательная конструкция пытается искоренить альтернативные трактовки, то «контрпамять», в свою очередь, отрицает истинность общепринятых представлений о прошлом и настаивает на том, что предлагаемое ею прочтение лежит гораздо ближе к исторической правде. «Контрпамять» бросает вызов коллективной памяти не только в мире символов – несомненно, что она прямо связана с политикой. Общая повествовательная конструкция представляет образ прошлого, созданный политической элитой – он служит интересам этой элиты и способствует решению ее политических задач. «Контрпамять» бросает вызов их гегемонии, предлагая отличный от господствующей общей повествовательной конструкции нарратив, отражающий взгляды лиц, вытесненных на обочину общества. Таким образом, память может стать полем борьбы различных политических сил: используя различные памятные коммеморативные торжества и другие действия, направленные на сохранение памяти о прошлом, соперничающие группировки разворачивают свои трактовки истории данного сообщества для того, чтобы обрести контроль над политической системой или обосновать свою сепаратистскую позицию.[39 - См., например: Leach E. Political Systems of Highland Burma. Boston, 1954. Брюс Капферер в своей работе показывает, как противоборствующие взгляды на прошлое стали причиной кровопролития в Шри-Ланке. См.: Kapferer B. Legends of People, Myths of State: Violence, Intolerance, and Political Culture in Sri Lanka and Australia. Washington, DC, 1988; Van Der Veer P. Ayodhya and Somnath: Eternal Shrines, Contested Histories // Social Research. 1992. Vol. 59. № I. P. 85–109.]
Пользуясь термином «контрпамять», я вполне солидаризируюсь с представлениями Мишеля Фуко об оппозиционной, подрывной природе памяти. Однако я не разделяю его убежденности в фрагментарной природе этого феномена[40 - См.: Foucault M. Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews / Trans. and ed. by Donald F. Bouchard. Ithaca, 1977. См. также, как рассматривается это понятие в работе Джорджа Липсица: Lipsitz G. Time Passages: Collective Memory and American Popular Culture. Minneapolis, 1989. P. 213.]. «Контрпамять» не обязательно ограничивается лишь созданием образа какого-то одного события – она может стать составной частью всей совокупности представлений о прошлом, вступающей в противоречие с господствующими взглядами. Даже в том случае, когда «контрпамять» бросает вызов сложившемуся представлению о конкретном историческом событии, она внушает особые опасения именно потому, что тем самым затрагиваются и образы многих других событий, так что в итоге под вопросом оказывается общая схема повествования, выражающая коллективную память о прошлом.
Действительно, подрывной потенциал «контрпамяти» хорошо осознается политическими режимами, запрещающими различным меньшинствам совершать те или иные ритуалы, направленные на сохранение своей коллективной памяти. В качестве примера можно привести известные усилия болгарских властей по подавлению турецкого, цыганского и мусульманского фольклора как «иностранного», чтобы тем самым способствовать созданию особого, отчетливо «болгарского» самосознания, предполагающего и соответствующий образ исторического прошлого страны[41 - См.: Silverman C. Op. cit. P. 141—160.]. Точно так же представления о прошлом африканеров сначала отражали противостояние между этим национальным меньшинством и британскими колонизаторами, позднее же их образы прошлого стали служить интересам политики апартеида в отношении чернокожего и цветного населения Южной Африки[42 - Thompson L. The Political Mythology of Apartheid. New Haven, 1985.]. Даже в демократических обществах противоречия между коллективной памятью и «контрпамятью» разных групп с легкостью могут спровоцировать ожесточенные конфликты по поводу того, как следует рассказывать о прошлом и какие представления о нем ближе к истине. Полемика в американском обществе в связи с ежегодными торжествами в День благодарения наглядно это подтверждает: в то время как «американская традиция» отмечать этот праздник восходит к историческому восприятию первых переселенцев, ревизионистский подход настаивает на том, чтобы «вспоминать» в этот день и аборигенов Америки – и вспоминать их не такими, какими их увидели выходцы из Старого Света, а такими, какими они запомнили себя и свою встречу с европейцами. Проблема не ограничивается лишь каноном празднования Дня благодарения. Новый подход предполагает коренной пересмотр всей общей повествовательной конструкции, в рамках которой находят выражение господствующие представления о прошлом американской нации, в том числе и о ее истоках. Требование включить «контрпамять» аборигенов Америки в ту схему, которая ранее утвердилась в качестве коллективной памяти «всех американцев», предполагает переосмысление американцами своего национального самосознания, своей коллективной идентичности, утверждает право вытесненной на обочину части американского общества на более достойное место в истории. Наличие подобных противоречий и конфликтов в конечном счете приводит к изменениям в коллективной памяти и придает динамизм, не позволяющий ей превратиться в набор «реликтов прошлого», с которым современному обществу приходится мириться. Всякое действие, направленное на сохранение памяти о прошлом, придает коллективной памяти новый импульс, служит толчком к новым переменам. Давление «контрпамяти» тоже может способствовать поддержанию жизненных сил коллективной памяти, поскольку брошенный «контрпамятью» вызов стимулирует ответные действия. Коллективная память может успешно подавить оппозиционную память или удерживать ее под контролем, но может случиться и так, что «контрпамять» получит толчок к развитию и, по мере нарастания своей популярности, утратит оппозиционный статус и сама превратится в коллективную память. Великая Французская революция, как и большевистская революция в России, может служить примером попытки силового уничтожения старых схем, по которым выстраивались воспоминания о прошлом страны, превращения «контрпамяти» в официальную историческую память, служащую поддержанию нового политического, социального и экономического порядка. […]
Этьенн Франсуа
«Места памяти» по-немецки: как писать их историю?
В тексте, опубликованном по-немецки чуть более трех лет назад, Пьер Нора, создатель и руководитель проекта «Места памяти», напомнил, что если на первом этапе речь шла о создании «символической топологии Франции», иными словами, о «подробном описании всех материальных и нематериальных мест, в которых воплотилась коллективная память», то постепенно рамки проекта существенно расширились. Исходной точкой проекта была гипотеза, согласно которой Франция представляет собой «реальность насквозь символическую», в конце же речь пошла уже о «новом подходе к написанию национальной истории». Пьер Нора задался целью создать «историю Франции второй степени» или, точнее, отреагировать на «радикальные перемены в традиционных формах национального чувства и в отношении французов к своему прошлому».[43 - Nora P. Das Abenteuer der “Lieux de mеmoire” // Nation und Emotion / Hrsg. von Еtienne Fran?ois, Jakob Vogel und Hannes Siegrist. Deutschland und Frankreich im Vergleich 19 und 20. Jahrhundert. G?ttingen, 1995. S. 83—92.]
Можно ли утверждать, что эта новая «история символического типа», впервые опробованная на примере Франции, применима только к этой стране? Следует ли видеть в ней результат «исключительного и почти невротического» (по выражению Жака Ле Гоффа) отношения французов к собственному прошлому, или же, напротив, эта новая парадигма может быть распространена и на другие страны, прежде всего на Германию?[44 - Хотя бы по той причине, что и в этой стране отношения с прошлым носят в высшей степени «невротический» характер?] Пьер Нора в упомянутой выше статье не дал четкого ответа на этот вопрос; конечно, он признал, что его метод, «особенно хорошо подходящий для французской ситуации, может, вероятно, принести пользу и применительно к другим национальным контекстам», однако, перечисляя чуть ниже те причины, по которым во Франции этот новый тип исторического исследования оказался в высшей степени востребованным, Нора отдает явное предпочтение факторам внутренним, сугубо французским (обстановка в «последеголлевской» Франции, исчерпанность революционной идеи) перед факторами более общего порядка, имеющими силу и по отношению к другим странам.
Итак, история – «французская страсть» (Филипп Жутар) и метод, использованный в «Местах памяти», служит новым подтверждением этого факта? Следует ли видеть в этом методе одно из выражений французского «особого пути», или же, напротив, метод этот может быть распространен и на гораздо более широкий круг объектов? Применим он исключительно к Франции или может быть действенным также и применительно к Германии?
Что касается меня, то сегодня я могу ответить с полной определенностью: разумеется, метод этот применим отнюдь не только к Франции. Уверенность моя, однако, относительно свежа и порождена ситуацией, сложившейся в самые последние годы. Задайся я подобным вопросом в 1986 году, когда вышел из печати первый том «Мест памяти», я, скорее всего, ответил бы на него совсем иначе. Дело в том, что в прежние годы между «формами национального чувства и отношением общества к своему прошлому» во Франции и Германии различий имелось куда больше, чем сходства.
Различия эти, кстати, никуда не делись и продолжают влиять на две основополагающие сферы: отношение ко времени и отношение к нации[45 - В данном тексте я продолжаю размышления, начатые в трех предыдущих статьях, к которым позволю себе отослать читателя: Francois Е. Nation retrouvеe, “nation ? contrecCur”: l’Allemagne des commеmorations // Le Dеbat. 1994. № 78. P. 62—70; Idem. Von der wiedererlangten Nation zur “Nation wider Willen”: Kann man eine Geschichte der deutschen Erinerungsorte schreiben? // Nation und Emotion. S. 93–107; Idem. Rapport а l’histoire // Au jardin des malentendus. Le commerce franco-allemand des idеes / Nouvelle еd. Augmentеe; ed. Jacques Leenhardt et Robert Picht. Arles, 1997. P. 17—24.]. Если во Франции под историей понимается многовековое прошлое, восходящее если не к галлам, то, по крайней мере, к Средним векам, причем отношение к этой истории чаще всего едино у всей нации и носит позитивный характер, то в Германии, напротив, историческая рефлексия чаще всего сводится к размышлениям о двенадцати годах правления национал-социалистов (и о причинах их прихода к власти), причем центральное место в этих размышлениях занимает критика и даже самокритика[46 - Так обстоит дело прежде всего с прошлым «национальным»; выводы звучали бы иначе – и были бы гораздо ближе к тому, что можно сказать о французской ситуации, – если бы в поле нашего зрения попало отношение к прошлому местному или региональному.]. Ибо в Германии проблемной оказывается сама история, разрывающаяся между тягой к нормальности и сознанием абсолютной исключительности нацизма. В самом деле, о каких «местах памяти» германской истории может идти речь, если, как справедливо заметил Юрген Хабермас, самым памятным из всех мест своей истории современным немцам приходится считать не что иное, как Освенцим?
Развал ГДР и объединение Германии, против ожидания, не переменили ситуацию коренным образом. Разумеется, сегодня под историей подразумевают не только историю нацизма, но и «вторую немецкую диктатуру», в которой видят уже не только жупел, но и загадку, которую необходимо разгадать, и, более того, прошлое, которое необходимо понять и принять[47 - Klessmann C. Zeitgeschichte in Deutschland nach dem Ende des OstWest-Konflikts. Essen, 1998.]. Но если объект внимания изменился, господствующая тональность осталась прежней: от историков по-прежнему требуют в первую очередь критики и самокритики. Отношение к истории ГДР зависит чаще всего от отношения к истории нацизма и от тех уз, которые связывали – или не связывали – историка с нацистским режимом. В результате, хотя объект внимания частично изменился, актуальность темы Vergangenheitsbew ? ltigung (преодоление прошлого) парадоксальным образом не только не уменьшилась, но даже возросла. В сегодняшней Германии серьезные обсуждения прошлого, затрагивающие все общество и вызывающие самый большой взрыв эмоций, по-прежнему касаются прежде всего и исключительно прошлого нацистского. Недавние примеры – дискуссия о поддержке гитлеровского режима историками, которые затем сыграли решающую роль в возрождении исторической науки в послевоенной Германии (дискуссия, разгоревшаяся на последнем конгрессе немецких историков в сентябре 1998 года), а также полемика, вызванная речью, которую произнес писатель Мартин Вальзер в октябре 1998 года, после вручения ему премии немецких издателей, и ответным выступлением председателя Центрального совета немецких евреев Игнация Бубиса. Конец этому бесконечному спору был положен только весной 1999 года, когда члены бундестага проголосовали за создание в Берлине, в непосредственной близости от Бранденбургских ворот, мемориала памяти жертвам Холокоста (Holocaust-Denkmal).[48 - Mahmal Mitte: Eine Kontroverse / Hrsg. von Michael Jeismann. Cologne, 1999; Das Holocaust-Mahnmal: Dokumentation einer Debatte / Hrsg. von Michael S. Cullen. Zurich, 1999.]
Второе отличие от французов заключается в отношении немцев к собственной нации. Если во Франции существование французской нации воспринимается как само собой разумеющееся, в Германии именно это существование оказывается проблематичным и публичное обсуждение прошлого имеет целью не только разгадать тайну немецкой национальной идентичности, но и освободиться от этой тайны, заклясть ее. Эта особенность германской памяти, очевидная в таких эпизодах, как громкие торжества 1980-х годов или создание нового Немецкого исторического музея в Западном Берлине, также до сих пор не утратила своего значения. Конечно, с 3 октября 1990 года сомнений в наличии немецкой нации быть не может; больше того, впервые в истории Германии между нацией и государством установилось полное соответствие. Однако во многих аспектах эта нация существует скорее на словах, чем на деле, и предстоит еще немало сделать для того, чтобы придать ей завершенность, особенно в человеческих мыслях и представлениях. Для множества немцев нация продолжает оставаться источником мучительных вопросов, она не столько объединяет их, сколько разъединяет и создает новые сложности в том, что касается организации мемориальных мероприятий (как, например, увековечить в Бухенвальде или Заксенхаузене память десятков тысяч жертв НКВД, умерших в заключении в период с 1945 по 1949 год и похороненных в общих безымянных могилах, – и при этом не навлечь на себя обвинений в оправдании нацизма?), преподавания истории в начальной и средней школе (министры образования отдельных немецких земель до сих пор не сумели добиться единодушия в отношении учебных программ и инструкций для преподавателей[49 - Это отсутствие единодушия связано не только со спорами, которые вызывает история Германии, но и со стремлением представителей разных земель отстоять независимость в сфере образования и культуры.]) или в области градостроительства (что, например, делать с Дворцом республики, открытым в центре Берлина в бытность его столицей ГДР, а после объединения Германии закрытым, согласно официальной версии, по причине избытка асбеста в стенах?). Выбирая способ увековечить прошлое, нация одновременно выбирает свое будущее, и отсутствие четких и однозначных решений перечисленных проблем достаточно ясно показывает, как трудно единой (вновь объединенной) Германии – этой, по выражению мюнхенского историка Кристиана Мейера, «нации поневоле» – воспринять себя как нацию и осознать себя таковой.
Сами термины, в которых идет обсуждение проблемы памяти на разных берегах Рейна, свидетельствуют о коренном различии двух стран и двух наций. Во Франции во главу угла ставятся три понятия: «память нации, национальная идентичность, национальное наследие». В Германии же дело обстоит совсем иначе: если понятие «идентичность» употребляется так же часто (и так же невнятно), как во Франции, представление о «памяти» остается достаточно зыбким и даже не имеет единого словесного выражения (в немецком языке французскому m е moire соответствуют целых два слова: сравнительно редкое Ged ? chtnis (память) и гораздо более употребительное, но чисто описательное Erinnerung (воспоминание); наконец, о «национальном наследии» речи вообще практически не идет, скорее всего, потому, что соответствующее немецкое слово (Erbe) было дискредитировано нацистами, у которых оно было в большой чести, а затем политиками ГДР.
Александр Семенов
Илья Герасимов
Марина Могильнер
Как обретают историческую генеалогию феномены современной политики и идеологии? Чья память доминирует на многоуровневом имперском и постимперском пространстве и как обеспечивается это доминирование? Что характерно для культуры памяти в посткоммунистических обществах? На эти и другие вопросы отвечают статьи профессиональных историков, собранные в книге «Империя и нация в зеркале исторической памяти».
Империя и нация в зеркале исторической памяти: Сборник статей
От составителей
Когда профессиональная историография дискредитирует себя в глазах общества – из-за систематических искажений, умолчаний или просто отчуждающе-схематичного стиля письма – люди обращаются непосредственно к исторической памяти в поисках сокровенной правды о прошлом. Не случайно два главных полюса общественного сознания времен перестройки были представлены двумя, по сути, одноименными центрами: националистически-консервативной «Памятью» и западнически-прогрессистским «Мемориалом». Именно радикальная политика памяти конца 1980-х годов лишила советский строй политической легитимности и привела к распаду СССР. Однако одновременно, во второй половине 1980-х годов, исследования исторической памяти оказались модным методологическим направлением европеистики. Сегодня история коллективной памяти (не путать с сугубо психологическими и нейрофизиологическими аспектами изучения индивидуальной памяти) является общепризнанной и вполне респектабельной научной дисциплиной. Однако, когда журнал Ab Imperio обратился к этой проблематике в рамках годовой программы 2004 года, оказалось, что ставшая почти «классической» история памяти полна нерешенных проблем и открытых вопросов.
Ab Imperio является первым (и, пожалуй, единственным) российским историческим журналом, интегрированным в международный научный процесс. Это проявляется и в присутствии журнала в ведущих академических индексах, формальной ассоциированности с ASEEES (Ассоциацией славянских, восточноевропейских и евроазиатских исследований), неукоснительном следовании принципу двойного анонимного рецензирования присылаемых материалов, да и в том, что три четверти авторов журнала живут и работают за пределами России. Основанный в 2000 году, этот двуязычный ежеквартальник (публикующий материалы на русском или английском) четко следует формату тематических годовых программ, которые анализируются в четырех тематических номерах. В 2004 году тема года была сформулирована как «Археология памяти империи и нации: конфликтующие версии имперского, национального и регионального прошлого». Редакция пригласила авторов приложить сложившийся канон истории коллективной памяти к российской ситуации полиэтничного, многоконфессионального и мультикультурного разнообразия. Оказалось, что вопрос «чья память?» является далеко не риторическим, что проявляется, в частности, в проблемах с написанием учебников, одинаково воспринимающихся в Москве и в Казани, на Кавказе и в Сибири. Чья версия событий прошлого берет верх, насколько историческая память подвержена манипуляциям, как действуют механизмы самоцензуры, вытеснения, амнезии? Эти вопросы оказались созвучными тем, что задают исследователи имперского пространства и его многообразия: насколько монолитным или сложносоставным является субъект власти и доминирования в империи, как сочетаются в едином имперском пространстве различные социальные иерархии (сословные, классовые, конфессиональные, этнические и т. д.). Принципиальная несводимость общественной памяти к одному национальному мифу отражает общую принципиальную несводимость имперского пространства к тем, преимущественно национальным, категориям, которыми это пространство описывают исследователи.
Главным итогом годовой исследовательской программы, посвященной исторической памяти империи и нации, стала наглядная демонстрация «многоголосия» исторического нарратива, принципиальная невозможность адекватного рассказа о прошлом с какой-либо одной точки зрения, в рамках одной непротиворечивой «истории». Этот взгляд на прошлое и способ рассказа о нем лег в основу «новой имперской истории» – направления, одним из лидеров которого является Ab Imperio. «Новая имперская история» посвящена изучения империи не как «вещи», формальной структуры власти или экономической эксплуатации, а как «имперской ситуации». Для нее характерно не просто крайнее разнообразие общества и разношерстность населения, но принципиальная несводимость этого разнообразия к какой-то единой системе. С точки зрения истории памяти проблема сводится не столько к противоречию «памяти» и «фактов», сколько к несовпадению «русской», «украинской», «еврейской», «татарской» и прочей памяти, памяти элит и непривилегированных слоев, горожан и деревенских жителей. Та единая национальная память, которую пытались реконструировать французские историки под руководством Пьера Нора, в «имперской ситуации» России распадается на конфликтные или, по меньшей мере, несовпадающие локальные и частные «памяти». Публикуемые в этом сборнике материалы знакомят читателей с каноном «истории памяти» в том виде, в каком он сложился к концу 1990-х годов (статьи Яель Зерубавель и Этьенна Франсуа). Показывают, какую роль общественная память играет в социально-политической мобилизации в переломные эпохи (Андреас Лангеноль, Стефан Требст) и в текущей политической ситуации (Тони Джадт, Рональд Григор Суни). Именно с учетом этих особенностей функционирования и восприятия общественной памяти мы предлагаем рассматривать сюжеты, связанные с интерпретацией российской/советской истории (в статьях Игоря Мартынюка, Сергея Маркедонова, Сергея Плохия, Владимира Бобровникова и Сергея Румянцева) и современной государственной политикой памяти в постсоветских странах (в статье Виктора Шнирельмана).
Яель Зерубавель
Динамика коллективной памяти
Коллективная память в последнее время оказалась в центре целого ряда междисциплинарных исследований. Настоящее исследование тоже принадлежит к быстро растущему числу работ, посвященных изучению процесса социального конструирования коллективной памяти и взаимоотношений между памятью и историей, исторической наукой. Меня интересует та роль, которую в современной общественной жизни играют различные нарративы и ритуалы, призванные донести до новых поколений память о тех или иных выдающихся событиях прошлого. Меня также интересует воздействие этих рассказов и ритуалов на политическую жизнь и то, каким образом общество иммигрантов, создавая принципиально новый образ своего народа, новое национальное самосознание, новую национальную культуру, переосмысливает свои исторические корни. Коллективная память об обретенных исторических корнях придает социуму новый импульс, становится средством выражения новых идей и ценностей. В этом процессе новая нация опирается как на историческую науку, так и на традицию. Избирательно используя тот материал, который они поставляют – то отвергая, то принимая их заключения, то подавляя, то развивая их положения, – новая нация заново создает свою память, формирует новую национальную традицию.
Мое исследование рассматривает исторические события, однако оно не историческое в строгом смысле слова. Все внимание здесь сосредоточено на вопросе о том, что помнят о каких-либо исторических событиях люди, принадлежащие к одному социуму, как они их интерпретируют, как создается общее для всех понимание этих эпизодов прошлого, как оно меняется со временем. Меня интересует тот уровень исторического знания, который в конечном счете приобретает самый глубокий смысл в контексте повседневной жизни. По замечанию выдающегося американского историка Карла Беккера, на жизнь общества, на ход событий самое большое влияние оказывают те исторические познания, которые заключены в головах обычных людей. Нельзя сказать, что, раз люди не хотят читать сочинения историков, историческая наука никак не влияет на ход событий. Знакомо ли большинство людей с историческими исследованиями или нет – так или иначе все они имеют какое-то представление о прошлом. И эта картина, существующая в их сознании – пусть даже она не имеет почти ничего общего с реальным прошлым, – помогает сформироваться их представлениям о политике и обществе.[1 - Becker C. L. What Are Historical Facts? // Detachment and the Writing of History: Essays and Letters of Carl L. Becker / Ed. by Phil L. Snyder. Ithaca, 1958. P. 61; курсив мой.]
Итак, я рассматриваю тот уровень исторического знания, который Морис Хальбвакс называет коллективной памятью[2 - Halbwachs M. La Mеmoire collective [1950] // Halbwachs M. The Collective Memory / Trans. by F.J. and V.Y. Ditter. N.Y., 1980. P. 50—87. См. также: Halbwachs M. Les cadres sociaux de la mеmoire [1925] // Halbwachs M. On Collective Memory / Engl. trans. and intr. by Lewis A. Coser. Chicago, 1992. P. 37–189.]. По замечанию М. Хальбвакса, каждая группа людей создает свою память о собственном прошлом – память, которая подчеркивает особенности этой группы, отличает ее от всех других. Воссозданные в общественном сознании образы прошлого дают данной группе возможность представить свою историю – происхождение и развитие, – что, в свою очередь, позволяет этому сообществу узнавать себя в череде столетий[3 - Halbwachs M. The Collective Memory. P. 86.]. Хотя носителями коллективной памяти выступают отдельные люди, она шире их индивидуальной автобиографической памяти, поскольку основывается на передаче знания от одного поколения к другому.[4 - В то время как автобиографическая память относится к событиям, которые человек непосредственно пережил, коллективная память включает в себя и такие события прошлого, которые не связаны с личным опытом отдельных людей, но известны им в пересказе других лиц. Однако, как подчеркивает М. Хальбвакс, эти две формы памяти связаны между собой, о чем свидетельствует практика устанавливать дату того или иного события личной жизни, ориентируясь на социально значимые вехи (такие, например, как войны). См.: Ibid. P. 44—49.]
Значительный вклад М. Хальбвакса в изучении данной проблемы состоит в том, что в своем основополагающем исследовании он дал определение коллективной памяти, проведя четкое различие между ней и другими формами памяти – автобиографической памятью личности и историческим сознанием. Труды М. Хальбвакса, в которых подчеркивалось значение социального контекста, «социальных рамок» (cadres sociaux) для понимания коллективной памяти, вдохновили растущее число работ, посвященных изучению социальных и политических аспектов поминания/коммеморации – сохранения в общественном сознании памяти о каких-то значимых событиях прошлого, «увековечивания памяти» о прошлом[5 - См., например: Schwartz B. The Social Context of Commemoration: A Study in Collective Memory // Social Forces. 1982. № 61. P. 374—402; Les Lieux de mеmoire / Sous la dir. de Pierre Nora. Paris, 1984. Vol. 1: La Rеpublique; Lowenthal D. The Past Is a Foreign Country. Cambridge, 1985; Schwartz B., Zerubavel Y., Barnett B. The Recovery of Masada: A Study in Collective Memory // Sociological Quarterly. 1986. Vol. 27. № 2. P. 147—164; Hutton P.H. Collective Memory and Collective Mentalities: The Halbwachs-Ari?s Connection // Historical Reflections / Rеflexions Historiques. 1988. Vol. 15. № 2. P. 311—322; Connerton P. How Societies Remember. Cambridge, 1989;Kammen M. Mystic Chords of Memory. N.Y., 1991; Commemorations: The Politics of National Identity / Ed. by John R. Gillis. Princeton, 1994.]. Однако, как мне кажется, стремление Хальбвакса подчеркнуть особые свойства коллективной памяти привело его к переоценке различий между памятью и историей, исторической наукой. Именно потому Хальбвакс и писал о них как о двух противоположных друг другу способах репрезентации прошлого. История, как результат скрупулезного изучения исторических источников, представляет собой «квинтэссенцию органической науки», она неподвластна давлению окружающей социополитической реальности. Коллективная память, со своей стороны, является неотъемлемой частью общественной жизни, а стало быть, постоянно трансформируется в ответ на меняющиеся потребности социума.[6 - Halbwachs M. The Collective Memory. P. 78—87.]
Это противопоставление отчасти объясняется взглядом Хальбвакса на коллективную память и историческую науку как на два разных этапа в развитии человеческого познания прошлого. Историческая наука как основной способ познания прошлого возникает, с точки зрения Хальбвакса, тогда, когда слабеет сила традиции и социальная память угасает[7 - Ibid. P. 78—83. Наблюдения Иосифа Хаима Иерушалми об угасании исторической памяти иудеев параллельно с развитием в XIX веке современного светского подхода к изучению истории еврейского народа подтверждают эту точку зрения. См. его книгу: Yerushalmi Y.H. Zakhor: Jewish History and Jewish Memory. Seattle, 1982.]. Научное изучение прошлого, таким образом, несет на себе печать современной эпохи, дискредитировавшей «память как форму связи с прошлым». В этом смысле можно сказать, что современный французский историк Пьер Нора идет по пути, проложенному М. Хальбваксом. П. Нора разделяет убежденность своего предшественника в спонтанной и динамичной природе коллективной памяти, находящейся «в постоянной эволюции, открытой для диалектики воспоминания и забвения, не осознающей свои постоянные изменения, легко поддающейся манипулированию и присвоению, порой угасающей на какое-то время, чтобы затем снова пробудиться к жизни»[8 - Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de Mеmoire // Representations. 1989. Vol. 26. P. 8.]. Однако историческая наука, как критический дискурс, возникла в противопоставлении памяти и стремится ее подавить. Таким образом, утверждает Нора, с угасанием живых традиций в современном обществе мы застаем лишь их реликты, «архивные формы» памяти, которые можно найти в особых, изолированных от обычного течения жизни «местах» (les lieux de mеmoire). Эти места представляют собой, «в сущности, не что иное, как останки, последние воплощения мемориального сознания, которое почти исчезло в наши дни, в эпоху, постоянно занятую поисками прошлого, поскольку память о нем оказалась утраченной».[9 - Ibid. P. 12.]
Как замечает Патрик Хаттон, не многие специалисты сегодня согласятся со взглядами Хальбвакса на историческую науку, высказанными французским социологом в его работе «Коллективная память»[10 - Hutton P. H. History as an Art of Memory. Hanover, NH, 1993. P. 73—90.]. Ни одно историческое исследование не может претендовать на исчерпывающую полноту – оно неизбежно ограничено взглядами автора, его выбором и организацией информации, законами жанра исторического повествования[11 - См.: Collingwood R. G. The Idea of History. Oxford, 1946. P. 236—249; Becker C.L. What Are Historical Facts? // What Is History? / Ed. by E.H. Carr. N.Y., 1971; White H. The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore, 1987.]. Конечно, историки могут стремиться соответствовать идеалу беспристрастного анализа событий прошлого, но они также принадлежат своему обществу и, будучи его членами, часто откликаются на господствующие в этом обществе представления о прошлом. Действительно, историки могут не только разделять те исходные посылки, на которых зиждется коллективная память, – своими работами они также могут способствовать формированию самих этих посылок, что хорошо видно на примере истории национальных движений.[12 - Funkenstein A. Tadmit ve-Toda’a Historit ha-Yahadut uvi-Sevivata ha-Tarbutit [Как представляли историю евреев с древности до современности]. Tel Aviv, 1991. P. 28.]
В то же время, вопреки своей динамичной природе, коллективная память не является суммой совершенно произвольных представлений о прошлом, нельзя также считать ее абсолютно независимой по отношению к исторической науке. Как отмечает Барри Шварц, подход Хальбвакса, «сосредоточенный исключительно на настоящем», подрывает само понятие непрерывности истории человечества, поскольку в нем слишком большой акцент ставится на способности коллективной памяти к адаптации. «Учитывая те ограничения, которые налагают на нас исторические источники, – считает Шварц, – прошлое нельзя полностью выдумать, создать заново как литературное сочинение, его можно только выборочно изучать»[13 - Schwartz B. Op. cit. P. 393. См. также: Schwartz B., Zerubavel Y., Barnett B. Op. cit. P. 149—151, 158—161; Schudson M. The Present in the Past versus the Past in the Present // Communication. 1989. Vol. 11. P. 105—113;Coser L.A. Introduction // Halbwachs M. La Mеmoire collective. Патрик Хаттон, рассматривая противоречия между теоретическими построениями Хальбвакса и его исследованием топографии Святой земли, приходит к выводу, что Хальбвакс был «историком памяти вопреки своим собственным взглядам». См.: Hutton P. H. Op. cit. P. 80—84.]. Подобно маятнику, коллективная память находится в бесконечном движении: от исторических источников – к современным общественно-политическим проблемам и задачам, от современности – обратно к свидетельствам о прошлом, стремясь объединить их между собой. Обращаясь к историческим источникам, коллективная память постоянно меняет свою трактовку событий, выборочно подчеркивая одни эпизоды, затушевывая другие, привнося какие-то новые штрихи. Таким образом, история и память не существуют независимо друг от друга, не развиваются в противоположных направлениях – они находятся в постоянной борьбе между собой, но в то же время они неизбежно зависят друг от друга[14 - См. также написанное Натали Земон Дэвис в соавторстве с Рэндольфом Старном введение к специальному номеру журнала Representations (1986. Vol. 26. P. 5), посвященному коллективной памяти и контрпамяти.]. Неоднозначность этих отношений и придает сохранению в обществе памяти о прошлом то творческое напряжение, благодаря которому коллективная память представляет собой столь интересный объект для изучения.
Коллективная память, как показывает настоящее исследование, вовсе не исчезла в наше время, ее нельзя рассматривать и как простой «пережиток прошлого». Вопреки обилию исторических изысканий, в современном обществе у людей по-прежнему создаются общие воспоминания о своей истории. И сегодня поэты и писатели, журналисты и учителя подчас играют гораздо более заметную – по сравнению с профессиональными историками – роль в формировании бытующих в общественном сознании образов прошлого[15 - Джеффри Хартман утверждает, что перенасыщенность современных массмедиа всякого рода «невыдуманными историями», различной продукцией, основывающейся на воспоминаниях и документах, ошеломляюще воздействует на наше чувство реальности и истории, приводя к тому, что Хартман называет «дереализацией». См.: Hartman G.H. Public Memory and Modern Experience // Yale Journal of Criticism. 1993. Vol. 6. P. 240.]. Широкий спектр формальных и неформальных средств, направленных на то, чтобы увековечить историю данного социума, помогает коллективной памяти сохранить свою жизненную силу. Праздничные торжества, фестивали, приуроченные к различным «знаменательным датам», памятники и мемориалы, песни, рассказы, театральные постановки, школьные учебники – все эти средства напомнить о славном прошлом вступают в соревнование с трактовками специалистов-историков.
Хотя М. Хальбвакс и подчеркивал пластичность и изменчивость коллективной памяти, в своих работах он прямо не касался вопроса о том, каким образом она трансформируется. В этом контексте понятие коммеморации – т. е. всех тех многочисленных способов, с помощью которых в обществе закрепляется, сохраняется и передается память о прошлом, – становится центральным для нашего понимания динамики изменения памяти[16 - Halbwachs M. The Collective Memory. P. 82. См. также утверждение П. Нора о том, что «места памяти» (lieux de memoire) сохраняются благодаря их способности к изменениям: Nora P. Op. cit. P. 19.]. Коллективная память обретает плоть благодаря множеству различных форм «коммеморации»: юбилейным торжествам, чтению рассказов, участию в мемориальной службе по погибшим, соблюдению традиционных религиозных обрядов в праздничные дни. Посредством всех этих ритуалов у данной группы людей формируются представления о тех или иных событиях прошлого, вырабатывается единство этих представлений, подбирается определенная словесная форма для их артикуляции[17 - См. рассуждения Э. Дюркгейма о ритуалах, связанных с сохранением памяти о каких-либо событиях: Durkheim Е. The Elementary Forms of the Religious Life [1915] / Engl. trans. by Joseph Ward Swain. N.Y., 1965. P. 414—433.]. Участие в подобных «коммеморативных ритуалах» позволяет людям не только оживить и подтвердить старые воспоминания о прошлом, но и изменять их. Для того чтобы выразить именно эту идею, в своем романе «Возлюбленная» американская писательница Тони Моррисон использует выражение «вспомнить заново» (to rememory): она показывает, как повторное символическое переживание прошлого меняет воспоминания о нем[18 - Morrison T. Beloved. N.Y., 1987.]. На уровне отдельного сообщества каждый акт «коммеморации» позволяет ввести в оборот новые трактовки прошлого, хотя повторение «коммеморативных ритуалов» способствует поддержанию в обществе ощущения непрерывности коллективной памяти.
В то время как историки-профессионалы и другие представители интеллектуальной элиты выстраивают свои суждения о прошлом в соответствии с правилами науки, для большинства людей представления о днях минувших формируются в первую очередь под воздействием множества различных форм «коммеморации». Более того, приобщение детей с самого раннего возраста к коллективной памяти происходит еще до того, как они знакомятся с исторической наукой, и потому коллективная память может иметь на них значительно большее влияние. Особенно важную роль в приобщении ребенка к национальным традициям играет школа. Ничто так не способствует закреплению в сознании образов и рассказов, воплощающих коллективную память данной социальной общности, как образование, полученное в раннем детстве. Итак, в детском саду и начальной школе из рассказов, стихотворений, песен и пьес ребенок узнает об основных исторических персонажах и событиях. Во всех этих жанрах факты часто перемешаны с вымыслом, история – с легендой, поскольку принято считать, что эта красочная смесь придает литературе большую притягательность в глазах маленьких детей[19 - См. также: Zerubavel Y. The Holiday Cycle and the Commemoration of the Past: Folklore, History, and Education // Proceedings of the Ninth World Congress of Jewish Studies. Jerusalem, 1986. Vol. 4. P. 111—118.]. Эти произведения, призванные увековечить память о прошлом, вносят свой вклад в формирование чувств и представлений, связанных с историей, которые могут сохраняться и в дальнейшей жизни, даже если впоследствии человек познакомится с исторической наукой.
Каждый акт «коммеморации» воспроизводит «коммеморативный нарратив» – рассказ о тех или иных исторических событиях, объясняющий причины, по которым общество в ритуализированной форме вспоминает об этом эпизоде прошлого, и заключающий в себе нравственный урок членам данного социума. Конечно, создавая это повествование, коллективная память опирается на исторические свидетельства. И все же источники используются здесь творчески и избирательно. Такой «коммеморативный нарратив», как и сочинения историков, отличается от хроники тем, что подвергается определенной литературной обработке (нарративизации) – превращается из простого перечня фактов в связный рассказ. Как показывает Хейден Уайт, отбор и организация большого числа фактов в повествовательную форму требует соблюдения определенных правил, предъявляемых в первую очередь поэтикой литературного жанра[20 - White H. Op. cit. P. 42. См. также: Mink L.O. Narrative Form as a Cognitive Instrument // The Writing of History: Literary Form and Historical Understanding / Ed. by Robert H. Canary and Henry Kozicki. Madison, 1978. P. 143; Lowenthal D. Op. cit. P. 219—224.]. Сходство исторического сочинения с художественным текстом, подмеченное Уайтом, особенно хорошо заметно в случае «коммеморативного нарратива», где границы между вымыслом и реальностью еще более размыты[21 - См. различие, которое проводит Х. Уайт между «дискурсом реальности» и «дискурсом воображаемого»: White H. Op. cit. P. 20. См. также высказанные им ранее идеи: Idem. Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. Baltimore, 1978. P. 51—80, 81–100; а также: Mink L. O. Op. cit. P. 144—145.]. Творческий потенциал «коммеморативного нарратива» – потенциал, ограниченный, впрочем, рамками, заданными историческими изысканиями, – равно как и манипулирование в этом нарративе историческими источниками путем сознательного затушевывания одних фактов и домысливания других сюжетов, и исследуется в настоящей работе.
Каждое действие, направленное на поддержание памяти о прошлом, каждый «акт коммеморации» воссоздает какой-то один отрезок этого прошлого, и потому такая память фрагментарна по своей природе. И все же все действия, взятые вместе, слагаются в общую повествовательную конструкцию[22 - Master commemorative narrative – дословно «коммеморативный мастернарратив». – Примеч. пер.], или схему повествования, которая упорядочивает и приводит в систему коллективную память. Под этим термином я понимаю общие представления об истории, основную «сюжетную линию», которая определяется всей культурой данного социума и формирует у его членов единое понимание их прошлого.[23 - Высказанное Жаном-Франсуа Лиотаром предположение о крушении метанарратива как источника легитимизации постмодернистского общества звучит весьма убедительно: Lyotard J. F. The Post-modernist Condition: A Report on Knowledge / Engl. trans. by Geoff Bennington and Brian Massunmi. Minneapolis, 1984. И все же я считаю, что глубокая человеческая потребность осмысливать события прошлого и настоящего, подыскивая им словесное выражение, продолжает утверждать себя на уровне как общества, так и отдельной личности. Таким образом, даже испытав сильнейшие потрясения, приводящие к разрыву памяти, люди могут создавать новые рассказы о своем прошлом, которые способствуют заполнению провалов в памяти. Даже в технологически высокоразвитом обществе существует потребность в создании общих повествовательных конструкций, общих схем повествования – хотя вполне возможно, что эти конструкции претерпевают значительные изменения, чтобы соответствовать меняющимся потребностям.]
Итак, для того, чтобы по-настоящему оценить смысл тех или иных действий, направленных на сохранение памяти о каком-то эпизоде, важно рассмотреть их в контексте общей повествовательной конструкции, объединяющей воспоминания об отдельных событиях в обобщенные представления об истории. Исследование коллективной памяти о конкретном событии, таким образом, требует изучения истории этих действий в их связи с другими значимыми событиями в прошлом данного социума. Как мы увидим в дальнейшем, уподобление или противопоставление одних исторических событий и периодов другим само по себе уже является неотъемлемой частью формирования коллективной памяти.
В центре общей повествовательной конструкции заключены представления данной группы лиц о себе самих как об особой, отличной от всех других групп общности, находящейся в процессе исторического развития. В этом смысле общая повествовательная конструкция, объединяющая всю совокупность образов прошлого, вносит свой вклад в формирование нации, изображая ее как единый социум, проходящий сквозь века из одной исторической эпохи в другую[24 - Говоря о природе национализма, Ханс Кон утверждает, что «национализм – это состояние ума, присущее большинству людей и претендующее на то, что оно свойственно всем членам данного общества» (Kohn H. The Idea of Nationalism. N.Y., 1944. P. 16). Бенедикт Андерсон и Хоми Баба развили идею о том, что нация представляет собой продукт общественного сознания, определив ее как «воображаемое политическое сообщество»: Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, 1983. P. 14—16, 31; Bhabha H.K. DissemiNation: Time, Narrative, and the Margins of the Modern Nation // Nation and Narration / Ed. by Homi K. Bhabha. London, 1990. P. 290—322.]. Движение из прошлого в будущее часто подразумевает линейную модель времени. Однако общая повествовательная конструкция порой отказывается от подобной модели, допуская пропуски, отступления и повторы, наложения одних исторических событий на другие. Годовой цикл праздников – светских и религиозных – как правило, нарушает течение времени, подчеркивая повторяющиеся события в коллективном опыте социума[25 - Вопреки распространенному представлению о том, что современность (modernity) связана с линейной трактовкой времени, Эвиатар Зерубавель показывает, каким образом циклическое понимание времени до сих пор пронизывает современную повседневную жизнь. См.: Zerubavel E. Hidden Rhythms: Schedules and Calendars in Social Life. Chicago, 1981; а также: Idem. The Seven Day Circle: The History and Meaning of the Week. N.Y., 1985.]. Действительно, противоречие между линейным и циклическим восприятием истории часто лежит в основании процесса формирования коллективной памяти[26 - См.: Terdiman R. Deconstructing Memory: On Representing the Past and Theorizing Culture in France since the Revolution // Diacritics. 1985. Vol. 15. P. 28—32. Хоми Баба рассматривает противоречие между «педагогическим» и «перформативным» (ритуальным) аспектами общей повествовательной конструкции, объединяющей совокупность представлений о прошлом той или иной нации. Если педагогический аспект подразумевает «непрерывно текущее, линейное время, аккумулирующее в себе прошлое», то перформативный аспект представляет время как «повторяющееся, возвращающееся назад» – другую стратегию, используемую в создании национального нарратива. См.: Bhabha H. K. Op. cit. P. 297.]. Как мы увидим в дальнейшем, нарративы, объясняющие причины, по которым отмечается память об отдельных событиях, часто предполагают их уникальный характер, в то время как помещение этих рассказов в контекст общей повествовательной конструкции, общего нарратива, позволяет увидеть повторяющиеся мотивы в истории данного общества.
Поскольку в коллективной памяти подчеркиваются отличительные свойства данной группы, определяющие ее лицо, в общей повествовательной конструкции особо выделяется такое событие, которое знаменует момент возникновения этой группы как независимого социума[27 - См. обсуждение вопроса о культурной значимости истоков: Eliade M. Myth and Reality. N.Y., 1963. P. 21—53, а также: Warner W.L. The Living and the Dead: A Study in the Symbolic Life of Americans. New Haven, 1959 [Yankee City Series. Vol. 5]. P. 156—225; Schwartz B. Op. cit. P. 374—402.]. Сохранение памяти о начале истории, несомненно, необходимо для того, чтобы показать особенности данного сообщества, установить его границы по отношению к другим группам. Акцент на «коренном отличии»[28 - Как полагает Эвиатар Зерубавель, формирование идеи «коренного отличия», «великого разрыва» приводит к возникновению «ментальных лакун» в общественном сознании – в противном случае мы воспринимали бы реальность как непрерывную. Более подробное обсуждение этих понятий см.: Zerubavel E. The Fine Line: Making Distinctions in Everyday Life. N.Y., 1991. P. 21—32. Значимость этих проблем в контексте новых (или возобновленных) национальных притязаний очевидна в Европе после падения коммунистических режимов.] между данной общностью и всеми остальными нужен для того, чтобы с ходу отмести любые сомнения в легитимности этой общности, в ее праве на существование. Сохранение памяти о возникновении сообщества обосновывает его притязания на независимость – часто путем демонстрации его глубоких корней, теряющихся во мраке веков. Национальные движения в Европе стимулировали значительный общественный интерес к крестьянскому фольклору, поскольку их участники верили в то, что фольклор служит неоспоримым свидетельством уникальности национального прошлого и народных традиций[29 - Wilson W. A. Folklore and Nationalism in Modern Finland. Bloomington, 1976; Herzfeld M. Ours Once More: Folklore, Ideology, and the Making of Modern Greece. N.Y., 1986; Handler R. Nationalism and the Politics of Culture in Quebec. Madison, 1988; Silverman C. Reconstructing Folklore: Media and Cultural Policy in Eastern Europe // Communication. 1989. Vol. 11. P. 141—160.]. Точно так же ближе к нашим дням можно найти примеры попыток воссоздания или изобретения древних традиций, призванных показать общие исторические корни нации, уходящие в далекое прошлое.[30 - Бернард Льюис приводит примеры стран Ближнего Востока и Африки, попытавшихся изменить свое национальное прошлое: Lewis B. History: Remembered, Recovered, Invented. Princeton, 1975.]
Как заметил Пьер Нора, в современном обществе, как правило, отмечается именно «рождение» нации (а не ее «начала», «истоки»), что позволяет передать ощущение разрыва с прошлым[31 - Nora P. Op. cit. P. 16—17.]. Действительно, рождение символизирует одновременно и момент отделения данного социума от другой группы, и начало его новой жизни как независимого коллектива со своим собственным будущим. Смещение акцентов в передаче памяти о «начале истории» может также служить и средством изменения самосознания сообщества. В качестве примера можно сослаться на перемены, произошедшие не так давно в представлениях афроамериканцев о своем прошлом. Современное чернокожее население Америки стремится подчеркнуть свое африканское происхождение, что отразилось, в частности, и в самоназвании данной группы. В то время как слово «негр» ассоциируется с рабским прошлым этих людей, желание подчеркнуть свои более древние африканские корни ведет к переосмыслению их групповой идентичности как «афроамериканцев».
Общий смысл развитию социума придает периодизация его истории в коллективной памяти, которая вносит в события прошлого определенный порядок. Подобно другим аспектам коллективной памяти, такая периодизация предполагает постоянный диалог между прошлым и настоящим, изменяясь по мере того, как данное сообщество переосмысливает свою историю с текущих идеологических позиций. Отобрав из числа многих других возможных некоторые критерии, коллективная память делит прошлое на основные эпохи, при этом сложные исторические процессы и явления сводятся к простым сюжетным линиям. Сила коллективной памяти заключается не в скрупулезном, систематичном или особо искушенном реконструировании прошлого, а в создании простых и ярких образов, при помощи которых удается выразить и укрепить определенную идеологическую позицию.
Склонность коллективной памяти к изображению прошлого в черно-белых тонах приводит к нагнетанию контраста между различными историческими периодами и способствует формированию однозначного отношения к тому или иному этапу в развитии данного общества. Таким образом, в коллективной памяти одни периоды представлены как важные шаги, сделанные этим обществом в своем развитии, в то время как другие изображаются как эпохи упадка. Как правило, эпохи первопроходцев, захвата чужих земель или борьбы за независимость получают позитивную оценку в истории нации. Напротив, те времена, когда данный народ входил в состав империй, характеризуются негативно, как эпохи, не позволившие полностью реализоваться его законному праву существовать как независимая политическая единица.
Приведение представлений о прошлом в определенную систему в ходе создания общей повествовательной конструкции также выявляет коммеморативную плотность тех или иных исторических периодов, что Леви-Стросс называл функцией «давления истории»[32 - Выражение К. Леви-Стросса. Леви-Стросс говорит о возникновении «горячих» и «холодных» хронологий как результате «давления истории». См.: Lеvi-Strauss C. The Savage Mind. Chicago, 1970. P. 259—260. См. также: Warner W.L. Op. cit. P. 129—135; Schwartz B. Op. cit. P. 375—377.]. Под «коммеморативной плотностью» мы имеем в виду то значение, которое общество приписывает различным отрезкам своего прошлого: в то время как одни периоды занимают привилегированное положение в общественном сознании, им посвящено множество памятных торжеств и ритуалов, другие привлекают к себе лишь незначительное внимание или оказываются полностью преданными забвению. Таким образом, «коммеморативная плотность» выше всего у тех эпох или событий, которые занимают ключевое положение в историческом сознании данной группы и сохранению памяти о которых посвящаются значительные усилия. Ниже всего «коммеморативная плотность» тех эпох, которым в рамках общей повествовательной конструкции почти не уделяется внимания. Периоды или события, которые подавляются и затушевываются в коллективной памяти, становятся объектом коллективной амнезии. Таким образом, конструирование общей повествовательной конструкции позволяет увидеть динамику воспоминания и забвения, лежащую в основе создания любого нарратива, объясняющего причины, по которым общество находит нужным сохранять память о каких-то событиях. В то время как в коллективной памяти все внимание уделено определенным сторонам прошлого, отброшенными неизбежно оказываются все другие его аспекты, считающиеся несущественными или потенциально опасными для хода повествования и передачи основного смысла прошлого с определенных идеологических позиций.
Бернард Льюис обращает наше внимание на феномен воссоздания забытого прошлого. Однако не менее важно подчеркнуть, что подобное воссоздание утраченного может привести к тому, что будут пропущены какие-то другие эпизоды. Воспоминание и забвение, таким образом, тесно взаимосвязаны в формировании коллективной памяти. Именно этот дуализм процесса обретения и сокрытия исторических корней я и собираюсь рассмотреть в настоящей работе.[33 - Зигмунд Фрейд рассматривает феномен коллективной амнезии в своей работе «Моисей и монотеизм». См.: Freud S. Moses and Monotheism [1939]. N.Y., 1967. Подобно памяти, амнезия не является неподвижным состоянием, но представляет собой постоянно меняющийся процесс. Таким образом, социум может восстановить свою память, оправиться от коллективной амнезии и воссоздать подавленное прошлое. См., например, обсуждение проблемы воссоздания утраченного прошлого Бернардом Льюисом: Lewis B. Op. cit. О диалектике воспоминания и забвения см. специальный номер журнала Communications (1989. Vol. 49), озаглавленный «La mеmoire et l’oublie».]
Повествовательная конструкция, выстраивая представления общества о прошлом в определенную систему, диктует свое собственное «летоисчисление» – исторические события сдвигаются, уплотняются, дополняются новыми деталями или, наоборот, опускаются, иным же из них придается преувеличенное значение. С помощью этих и других риторических приемов историческое время в рассказе трансформируется в коммеморативное время – время памяти[34 - Введением понятия «коммеморативное время» мы развиваем понятие нарративного времени, предложенное Ж. Женеттом. См.: Genette G. Narrative Discourse: An Essay in Method. Ithaca, 1980. P. 33—35.]. Так, обилие подробностей в упоминании об одном эпизоде чаще всего приводит к тому, что в сознании людей историческое время растягивается, и, наоборот, скупой и слишком обобщенный образ, сохраняющийся в памяти о каком-то событии, сокращает его длительность, сводит ее до минимума в рамках всего повествования. […]
Хотя исторические изменения обычно занимают некоторое время и являются следствием определенных процессов, а не единичных событий, коллективная память склонна выделять отдельные эпизоды, представляя их как символические маркеры перемен. Несомненно, выбор одного знакового события гораздо лучше подходит для целей ритуализированного воспоминания, чем постепенный процесс перехода из одного состояния в другое[35 - Эдвард Шилс заметил, что чаще всего «великие моменты» – это те события, которые, как считается, определили последующее развитие и, соответственно, придали ореол сакральности прошлому. См.: Shils E. Center and Periphery: Essays in Macrosociology. Chicago, 1975. P. 198. Пример того, как длительный исторический процесс затушевывается в общественном сознании, когда какое-то событие оказывается выбранным в качестве ключевого эпизода в различных ритуалах, связанных с сохранением памяти об этом отрезке прошлого, см.: Zerubavel E. Terra Cognita: The Mental Discovery of America. New Brunswick, 1992.]. В рамках общей повествовательной конструкции эти события предстают как поворотные моменты, изменившие ход исторического развития общества, – потому они и отмечаются с особым тщанием и торжественностью. В свою очередь, выбор определенных эпизодов прошлого в качестве таких поворотных моментов, подчеркивая драматизм перехода от одной эпохи к другой, высвечивает идеологические принципы, лежащие в основе общей повествовательной конструкции.
Высокая «коммеморативная плотность», приписываемая определенным событиям, служит не только тому, чтобы подчеркнуть их историческое значение. Она может также выделять их из длинного ряда эпизодов, придавать им особый статус символических текстов, служащих ключом к пониманию других событий истории данного социума. Таким образом, в коллективной памяти историческое событие может превратиться в политический миф[36 - Tudor H. Political Myth. N.Y., 1972. P. 137—140.], через призму которого, как сквозь увеличительное стекло, члены данного сообщества видят настоящее и пытаются представить себе будущее. Поскольку поворотные моменты часто обретают символический смысл как знаки перемен, они скорее других трансформируются в политические мифы. Как таковые, они не только отражают социально-политические потребности социума, способствовавшие возникновению этого мифа, но сами становятся силой, формирующей эти потребности.
Став знаками глубоких исторических сдвигов и заместив собою в сознании людей целые переходные периоды, «поворотные моменты» обладают особым символическим смыслом. В силу этого они оказываются и самыми спорными и, в сравнении с событиями, безусловно относимыми в общей повествовательной схеме к определенному историческому этапу, в гораздо меньшей степени поддаются однозначной трактовке. Неоднозначность вытекает из пограничного положения «поворотных моментов» между двумя эпохами: они одновременно обозначают и уход от прошлого, и вступление в новую жизнь – мотивы, свойственные всем обрядам перехода[37 - Van Gennep A. The Rites of Passage [1908]. Chicago, 1960. P. 11.]. Как пишет Виктор Тернер, «пограничные объекты и явления не принадлежат ни тому ни другому миру – они находятся между ними, не склоняясь ни к одной, ни к другой позиции, установленной законами, обычаями, условностями и обрядами каждого из этих двух миров. Потому в разные века у многих народов, ритуализирующих состояние перехода в культуре и обществе, неоднозначные, неопределенные свойства этих объектов и явлений находили и находят выражение в богатом арсенале символов».[38 - Turner V. W. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Harmondsworth, Middlesex, 1974. P. 81.]
Как и в случае других обрядов перехода, любые действия, связанные с сохранением памяти об этих поворотных моментах истории, пронизаны чувством приобщения к святыне, но в то же время в них сквозит глубокое внутреннее противоречие. Это символическое состояние «порубежья», бытия на грани двух эпох, с одной стороны, придает «поворотным моментам» дополнительную неоднозначность, позволяет по-разному их интерпретировать, а с другой – способствует их превращению в политический миф, используемый как орудие в борьбе различных сил. Многозначность смысла может быть не столь заметной в конкретном случае отмечания памяти об этом эпизоде: вполне возможно, что в этот раз удалось подчеркнуть один определенный смысл этого события и подавить все другие возможные интерпретации. Однако сравнительное исследование различных мер, направленных на сохранение памяти об одном и том же «поворотном моменте» истории, позволяет заметить как противоречия в трактовках, так и поразительную способность мифа примирять конфликты между резко расходящимися прочтениями прошлого.
Именно эта способность и помогает понять, почему отдельные события продолжают занимать центральное место в исторической памяти того или иного сообщества – вопреки внутренним противоречиям, заложенным в бытующие о них представления. Пограничное положение «поворотных моментов» дает простор различным интерпретациям, сглаживает конфликты, существующие между разными трактовками, тем самым позволяя этим событиям сохранять сакральное значение, удерживаться на своем месте в рамках общей повествовательной конструкции. Порой, однако, хрупкое сосуществование противоречащих друг другу интерпретаций нарушается, миф не может более сдерживать внутренний конфликт между ними. В такие моменты начинается открытая борьба за прошлое, соперничающие группировки вступают в столкновение из-за того, как следует его трактовать. […] В подобных ситуациях хрупкое равновесие между господствующими в обществе представлениями о том или ином историческом событии – представлениями, выраженными в определенных повествовательных конструкциях, и другими, альтернативными представлениями – может быть нарушено, что, в свою очередь, вызывает более глубокие сдвиги в коллективной памяти общества.
Альтернативную повествовательную модель, прямо противоречащую общей повествовательной конструкции и существующую вопреки подавляющему превосходству последней, мы определили как контрпамять. Как предполагает этот термин, «контрпамять» в силу самой своей природы – память оппозиционная, враждебная господствующей коллективной памяти, обладающая подрывным потенциалом. Если общая повествовательная конструкция пытается искоренить альтернативные трактовки, то «контрпамять», в свою очередь, отрицает истинность общепринятых представлений о прошлом и настаивает на том, что предлагаемое ею прочтение лежит гораздо ближе к исторической правде. «Контрпамять» бросает вызов коллективной памяти не только в мире символов – несомненно, что она прямо связана с политикой. Общая повествовательная конструкция представляет образ прошлого, созданный политической элитой – он служит интересам этой элиты и способствует решению ее политических задач. «Контрпамять» бросает вызов их гегемонии, предлагая отличный от господствующей общей повествовательной конструкции нарратив, отражающий взгляды лиц, вытесненных на обочину общества. Таким образом, память может стать полем борьбы различных политических сил: используя различные памятные коммеморативные торжества и другие действия, направленные на сохранение памяти о прошлом, соперничающие группировки разворачивают свои трактовки истории данного сообщества для того, чтобы обрести контроль над политической системой или обосновать свою сепаратистскую позицию.[39 - См., например: Leach E. Political Systems of Highland Burma. Boston, 1954. Брюс Капферер в своей работе показывает, как противоборствующие взгляды на прошлое стали причиной кровопролития в Шри-Ланке. См.: Kapferer B. Legends of People, Myths of State: Violence, Intolerance, and Political Culture in Sri Lanka and Australia. Washington, DC, 1988; Van Der Veer P. Ayodhya and Somnath: Eternal Shrines, Contested Histories // Social Research. 1992. Vol. 59. № I. P. 85–109.]
Пользуясь термином «контрпамять», я вполне солидаризируюсь с представлениями Мишеля Фуко об оппозиционной, подрывной природе памяти. Однако я не разделяю его убежденности в фрагментарной природе этого феномена[40 - См.: Foucault M. Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews / Trans. and ed. by Donald F. Bouchard. Ithaca, 1977. См. также, как рассматривается это понятие в работе Джорджа Липсица: Lipsitz G. Time Passages: Collective Memory and American Popular Culture. Minneapolis, 1989. P. 213.]. «Контрпамять» не обязательно ограничивается лишь созданием образа какого-то одного события – она может стать составной частью всей совокупности представлений о прошлом, вступающей в противоречие с господствующими взглядами. Даже в том случае, когда «контрпамять» бросает вызов сложившемуся представлению о конкретном историческом событии, она внушает особые опасения именно потому, что тем самым затрагиваются и образы многих других событий, так что в итоге под вопросом оказывается общая схема повествования, выражающая коллективную память о прошлом.
Действительно, подрывной потенциал «контрпамяти» хорошо осознается политическими режимами, запрещающими различным меньшинствам совершать те или иные ритуалы, направленные на сохранение своей коллективной памяти. В качестве примера можно привести известные усилия болгарских властей по подавлению турецкого, цыганского и мусульманского фольклора как «иностранного», чтобы тем самым способствовать созданию особого, отчетливо «болгарского» самосознания, предполагающего и соответствующий образ исторического прошлого страны[41 - См.: Silverman C. Op. cit. P. 141—160.]. Точно так же представления о прошлом африканеров сначала отражали противостояние между этим национальным меньшинством и британскими колонизаторами, позднее же их образы прошлого стали служить интересам политики апартеида в отношении чернокожего и цветного населения Южной Африки[42 - Thompson L. The Political Mythology of Apartheid. New Haven, 1985.]. Даже в демократических обществах противоречия между коллективной памятью и «контрпамятью» разных групп с легкостью могут спровоцировать ожесточенные конфликты по поводу того, как следует рассказывать о прошлом и какие представления о нем ближе к истине. Полемика в американском обществе в связи с ежегодными торжествами в День благодарения наглядно это подтверждает: в то время как «американская традиция» отмечать этот праздник восходит к историческому восприятию первых переселенцев, ревизионистский подход настаивает на том, чтобы «вспоминать» в этот день и аборигенов Америки – и вспоминать их не такими, какими их увидели выходцы из Старого Света, а такими, какими они запомнили себя и свою встречу с европейцами. Проблема не ограничивается лишь каноном празднования Дня благодарения. Новый подход предполагает коренной пересмотр всей общей повествовательной конструкции, в рамках которой находят выражение господствующие представления о прошлом американской нации, в том числе и о ее истоках. Требование включить «контрпамять» аборигенов Америки в ту схему, которая ранее утвердилась в качестве коллективной памяти «всех американцев», предполагает переосмысление американцами своего национального самосознания, своей коллективной идентичности, утверждает право вытесненной на обочину части американского общества на более достойное место в истории. Наличие подобных противоречий и конфликтов в конечном счете приводит к изменениям в коллективной памяти и придает динамизм, не позволяющий ей превратиться в набор «реликтов прошлого», с которым современному обществу приходится мириться. Всякое действие, направленное на сохранение памяти о прошлом, придает коллективной памяти новый импульс, служит толчком к новым переменам. Давление «контрпамяти» тоже может способствовать поддержанию жизненных сил коллективной памяти, поскольку брошенный «контрпамятью» вызов стимулирует ответные действия. Коллективная память может успешно подавить оппозиционную память или удерживать ее под контролем, но может случиться и так, что «контрпамять» получит толчок к развитию и, по мере нарастания своей популярности, утратит оппозиционный статус и сама превратится в коллективную память. Великая Французская революция, как и большевистская революция в России, может служить примером попытки силового уничтожения старых схем, по которым выстраивались воспоминания о прошлом страны, превращения «контрпамяти» в официальную историческую память, служащую поддержанию нового политического, социального и экономического порядка. […]
Этьенн Франсуа
«Места памяти» по-немецки: как писать их историю?
В тексте, опубликованном по-немецки чуть более трех лет назад, Пьер Нора, создатель и руководитель проекта «Места памяти», напомнил, что если на первом этапе речь шла о создании «символической топологии Франции», иными словами, о «подробном описании всех материальных и нематериальных мест, в которых воплотилась коллективная память», то постепенно рамки проекта существенно расширились. Исходной точкой проекта была гипотеза, согласно которой Франция представляет собой «реальность насквозь символическую», в конце же речь пошла уже о «новом подходе к написанию национальной истории». Пьер Нора задался целью создать «историю Франции второй степени» или, точнее, отреагировать на «радикальные перемены в традиционных формах национального чувства и в отношении французов к своему прошлому».[43 - Nora P. Das Abenteuer der “Lieux de mеmoire” // Nation und Emotion / Hrsg. von Еtienne Fran?ois, Jakob Vogel und Hannes Siegrist. Deutschland und Frankreich im Vergleich 19 und 20. Jahrhundert. G?ttingen, 1995. S. 83—92.]
Можно ли утверждать, что эта новая «история символического типа», впервые опробованная на примере Франции, применима только к этой стране? Следует ли видеть в ней результат «исключительного и почти невротического» (по выражению Жака Ле Гоффа) отношения французов к собственному прошлому, или же, напротив, эта новая парадигма может быть распространена и на другие страны, прежде всего на Германию?[44 - Хотя бы по той причине, что и в этой стране отношения с прошлым носят в высшей степени «невротический» характер?] Пьер Нора в упомянутой выше статье не дал четкого ответа на этот вопрос; конечно, он признал, что его метод, «особенно хорошо подходящий для французской ситуации, может, вероятно, принести пользу и применительно к другим национальным контекстам», однако, перечисляя чуть ниже те причины, по которым во Франции этот новый тип исторического исследования оказался в высшей степени востребованным, Нора отдает явное предпочтение факторам внутренним, сугубо французским (обстановка в «последеголлевской» Франции, исчерпанность революционной идеи) перед факторами более общего порядка, имеющими силу и по отношению к другим странам.
Итак, история – «французская страсть» (Филипп Жутар) и метод, использованный в «Местах памяти», служит новым подтверждением этого факта? Следует ли видеть в этом методе одно из выражений французского «особого пути», или же, напротив, метод этот может быть распространен и на гораздо более широкий круг объектов? Применим он исключительно к Франции или может быть действенным также и применительно к Германии?
Что касается меня, то сегодня я могу ответить с полной определенностью: разумеется, метод этот применим отнюдь не только к Франции. Уверенность моя, однако, относительно свежа и порождена ситуацией, сложившейся в самые последние годы. Задайся я подобным вопросом в 1986 году, когда вышел из печати первый том «Мест памяти», я, скорее всего, ответил бы на него совсем иначе. Дело в том, что в прежние годы между «формами национального чувства и отношением общества к своему прошлому» во Франции и Германии различий имелось куда больше, чем сходства.
Различия эти, кстати, никуда не делись и продолжают влиять на две основополагающие сферы: отношение ко времени и отношение к нации[45 - В данном тексте я продолжаю размышления, начатые в трех предыдущих статьях, к которым позволю себе отослать читателя: Francois Е. Nation retrouvеe, “nation ? contrecCur”: l’Allemagne des commеmorations // Le Dеbat. 1994. № 78. P. 62—70; Idem. Von der wiedererlangten Nation zur “Nation wider Willen”: Kann man eine Geschichte der deutschen Erinerungsorte schreiben? // Nation und Emotion. S. 93–107; Idem. Rapport а l’histoire // Au jardin des malentendus. Le commerce franco-allemand des idеes / Nouvelle еd. Augmentеe; ed. Jacques Leenhardt et Robert Picht. Arles, 1997. P. 17—24.]. Если во Франции под историей понимается многовековое прошлое, восходящее если не к галлам, то, по крайней мере, к Средним векам, причем отношение к этой истории чаще всего едино у всей нации и носит позитивный характер, то в Германии, напротив, историческая рефлексия чаще всего сводится к размышлениям о двенадцати годах правления национал-социалистов (и о причинах их прихода к власти), причем центральное место в этих размышлениях занимает критика и даже самокритика[46 - Так обстоит дело прежде всего с прошлым «национальным»; выводы звучали бы иначе – и были бы гораздо ближе к тому, что можно сказать о французской ситуации, – если бы в поле нашего зрения попало отношение к прошлому местному или региональному.]. Ибо в Германии проблемной оказывается сама история, разрывающаяся между тягой к нормальности и сознанием абсолютной исключительности нацизма. В самом деле, о каких «местах памяти» германской истории может идти речь, если, как справедливо заметил Юрген Хабермас, самым памятным из всех мест своей истории современным немцам приходится считать не что иное, как Освенцим?
Развал ГДР и объединение Германии, против ожидания, не переменили ситуацию коренным образом. Разумеется, сегодня под историей подразумевают не только историю нацизма, но и «вторую немецкую диктатуру», в которой видят уже не только жупел, но и загадку, которую необходимо разгадать, и, более того, прошлое, которое необходимо понять и принять[47 - Klessmann C. Zeitgeschichte in Deutschland nach dem Ende des OstWest-Konflikts. Essen, 1998.]. Но если объект внимания изменился, господствующая тональность осталась прежней: от историков по-прежнему требуют в первую очередь критики и самокритики. Отношение к истории ГДР зависит чаще всего от отношения к истории нацизма и от тех уз, которые связывали – или не связывали – историка с нацистским режимом. В результате, хотя объект внимания частично изменился, актуальность темы Vergangenheitsbew ? ltigung (преодоление прошлого) парадоксальным образом не только не уменьшилась, но даже возросла. В сегодняшней Германии серьезные обсуждения прошлого, затрагивающие все общество и вызывающие самый большой взрыв эмоций, по-прежнему касаются прежде всего и исключительно прошлого нацистского. Недавние примеры – дискуссия о поддержке гитлеровского режима историками, которые затем сыграли решающую роль в возрождении исторической науки в послевоенной Германии (дискуссия, разгоревшаяся на последнем конгрессе немецких историков в сентябре 1998 года), а также полемика, вызванная речью, которую произнес писатель Мартин Вальзер в октябре 1998 года, после вручения ему премии немецких издателей, и ответным выступлением председателя Центрального совета немецких евреев Игнация Бубиса. Конец этому бесконечному спору был положен только весной 1999 года, когда члены бундестага проголосовали за создание в Берлине, в непосредственной близости от Бранденбургских ворот, мемориала памяти жертвам Холокоста (Holocaust-Denkmal).[48 - Mahmal Mitte: Eine Kontroverse / Hrsg. von Michael Jeismann. Cologne, 1999; Das Holocaust-Mahnmal: Dokumentation einer Debatte / Hrsg. von Michael S. Cullen. Zurich, 1999.]
Второе отличие от французов заключается в отношении немцев к собственной нации. Если во Франции существование французской нации воспринимается как само собой разумеющееся, в Германии именно это существование оказывается проблематичным и публичное обсуждение прошлого имеет целью не только разгадать тайну немецкой национальной идентичности, но и освободиться от этой тайны, заклясть ее. Эта особенность германской памяти, очевидная в таких эпизодах, как громкие торжества 1980-х годов или создание нового Немецкого исторического музея в Западном Берлине, также до сих пор не утратила своего значения. Конечно, с 3 октября 1990 года сомнений в наличии немецкой нации быть не может; больше того, впервые в истории Германии между нацией и государством установилось полное соответствие. Однако во многих аспектах эта нация существует скорее на словах, чем на деле, и предстоит еще немало сделать для того, чтобы придать ей завершенность, особенно в человеческих мыслях и представлениях. Для множества немцев нация продолжает оставаться источником мучительных вопросов, она не столько объединяет их, сколько разъединяет и создает новые сложности в том, что касается организации мемориальных мероприятий (как, например, увековечить в Бухенвальде или Заксенхаузене память десятков тысяч жертв НКВД, умерших в заключении в период с 1945 по 1949 год и похороненных в общих безымянных могилах, – и при этом не навлечь на себя обвинений в оправдании нацизма?), преподавания истории в начальной и средней школе (министры образования отдельных немецких земель до сих пор не сумели добиться единодушия в отношении учебных программ и инструкций для преподавателей[49 - Это отсутствие единодушия связано не только со спорами, которые вызывает история Германии, но и со стремлением представителей разных земель отстоять независимость в сфере образования и культуры.]) или в области градостроительства (что, например, делать с Дворцом республики, открытым в центре Берлина в бытность его столицей ГДР, а после объединения Германии закрытым, согласно официальной версии, по причине избытка асбеста в стенах?). Выбирая способ увековечить прошлое, нация одновременно выбирает свое будущее, и отсутствие четких и однозначных решений перечисленных проблем достаточно ясно показывает, как трудно единой (вновь объединенной) Германии – этой, по выражению мюнхенского историка Кристиана Мейера, «нации поневоле» – воспринять себя как нацию и осознать себя таковой.
Сами термины, в которых идет обсуждение проблемы памяти на разных берегах Рейна, свидетельствуют о коренном различии двух стран и двух наций. Во Франции во главу угла ставятся три понятия: «память нации, национальная идентичность, национальное наследие». В Германии же дело обстоит совсем иначе: если понятие «идентичность» употребляется так же часто (и так же невнятно), как во Франции, представление о «памяти» остается достаточно зыбким и даже не имеет единого словесного выражения (в немецком языке французскому m е moire соответствуют целых два слова: сравнительно редкое Ged ? chtnis (память) и гораздо более употребительное, но чисто описательное Erinnerung (воспоминание); наконец, о «национальном наследии» речи вообще практически не идет, скорее всего, потому, что соответствующее немецкое слово (Erbe) было дискредитировано нацистами, у которых оно было в большой чести, а затем политиками ГДР.