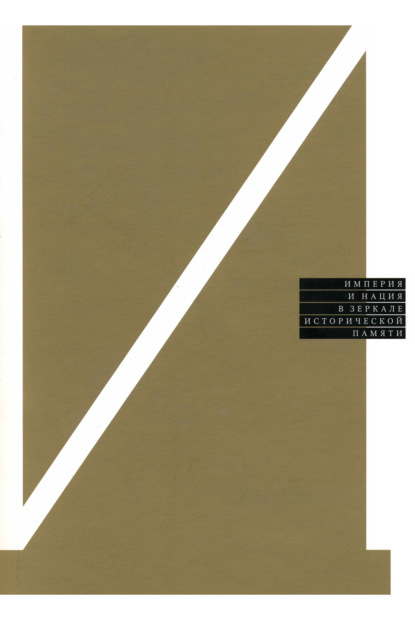По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Империя и нация в зеркале исторической памяти: Сборник статей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так, авторам удалось показать всю глубину и неразрывное единство истории страны (800 лет по самым скромным оценкам), а также связанную с этим давнюю традицию государственной централизации. При этом речь идет не только о политических структурах как таковых, но и о хорошо известном стремлении всех лиц, стоявших во главе французского государства, какова бы ни была их идеология, добиваться для себя всей полноты верховной власти. Например, говоря о Реймсском соборе – традиционном месте коронации французских монархов – Жак Ле Гофф замечает: собор представляет собой настоящий шедевр «классической» готики, а «во французской истории уже само определение „классический“ часто указывает на установление идеологического и политического контроля» (статья, посвященная Реймсу).[80 - Le Goff J. Reims, City of Coronation. P. 211.]
Тяга к классификации, регулированию всего и вся – от торговли и языка до театра и продуктов питания – это как раз то, что связывает во Франции сферу публичной политики и общественной жизни с характерными стилями воспитания и поведения человека в пространстве культуры. Так, не случайно в известном справочнике-путеводителе для туристов издательства Michelin, посвященном культурному наследию Франции («зеленая книжечка»), все достопримечательности Франции делятся на три категории: «интересные», «заслуживающие остановки во время экскурсии», «заслуживающие отдельной поездки». Путеводитель Michelin из этой же серии, посвященный сфере обслуживания («красная книжечка»), придерживается такого же точно деления применительно к ресторанам. Оба издания заимствовали этот характерный способ классификации из «классической» французской риторики и философии, откуда его также восприняли теория драматургии и политическая теория. Как замечает Паскаль Ори, «во Франции „кодификация“ сама по себе уже является „местом памяти“».
Другое такое «место памяти» – религия. Католицизм настолько давно и прочно утвердился во Франции, что сам Пьер Нора без колебаний рассматривает его, вместе с монархией и крестьянством, как самую сущность французского духа. Все разделы «Мест памяти», посвященные религии, очень информативны, написаны с большой силой и глубиной проникновения. Клод Ланглуа заходит еще дальше, чем Пьер Нора, заявляя: «В том, что касается монументальных памятников, вывод очевиден: Франция – либо страна католическая, либо светская. Середины не дано». Возможно, с этим согласился бы Андре Вошез, написавший прекрасную статью о соборах – настолько беззаветно он предан своему предмету. В наш меркантильный век Вошез выступает защитником глубокого символического смысла и трансцендентного характера великих соборов Франции. Однако, чтобы не нарушать общий тон всего издания, Вошез ограничивается лишь цитатой из Марселя Пруста: «Соборы не только прекраснейшее украшение нашего искусства – это единственное, что еще сохраняет связь с той целью, ради которой они были созданы»[81 - Langlois C. Catholics and Seculars // Realms of Memory. Vol. I. P. 116; Марсель Пруст цит. по: Vauchez A. The Cathedral // Realms of Memory. Vol. II. P. 63.]. Эта мысль сегодня еще более справедлива, чем в 1907 году, когда ее высказал М. Пруст.
Однако Франция – страна не только католическая или светская. На протяжении многих столетий она также была населена протестантами и иудеями, так же как сегодня она является и исламской страной. Евреи и протестанты представлены в «Местах памяти» статьями Пьера Бирнбаума и Филиппа Жутара. По сравнению с разделами о католицизме оба этих исследования отличаются большей глубиной и новизной подхода – возможно, потому, что их авторам приходится идти против сложившихся в историографии и общественном сознании стереотипов. Филипп Жутар раскрывает значение коллективной исторической памяти в жизни французских протестантов, которое очень велико – настолько, что предания старины обычно гораздо лучше сохраняются в протестантских деревенских общинах, чем в расположенных по соседству католических селах, даже в том случае, если сами католики принимали гораздо более активное участие или были гораздо сильнее затронуты теми событиями, о которых повествуется в этих преданиях. Его же статья о том, как долго воспоминания о насилии и терроре преследуют их жертвы, как бы напоминает главному редактору издания: чрезмерное подчеркивание строго католической природы французского духа может привести к тому, что слишком многое останется за рамками проекта. Так, в огромном исследовании Пьера Нора нет раздела, посвященного избиению французских протестантов в День святого Варфоломея в 1572 году – одной из «памятных дат» французской истории, пусть даже она никогда не отмечалась в этой стране.
В издании Нора католицизм находится в самом «центре» исторической памяти Франции, в то время как различные ереси и другие исповедания вытеснены на периферию французской культуры. Такое же манихейское противопоставление добра и зла воспроизводится и в целом ряде других тем, связанных с географией или социальной жизнью страны. Так, с незапамятных времен Франция всегда была расколота на Север и Юг – граница между ними была проведена экономистами-географами в XIX веке по условной линии от Сен-Мало до Женевы. Это была граница между современностью и отсталостью, между страной, говорящей по-французски, и областями, кое-как объясняющимися на местных диалектах, между культурой королевского двора и сельскими привычками, между правыми и левыми, между молодостью и старостью (не случайно средний возраст членов Законодательного собрания, с которого и началась Французская революция, в 1792 году составлял всего двадцать шесть лет), но прежде всего – между Парижем и провинцией.
«Провинция» – это не то же самое, что сельская местность, campagne. Во французском языке последнее понятие на протяжении столетий обладало положительными коннотациями, в то время как с момента появления придворной культуры слова «провинциал», «провинциальный» заключали в себе оскорбительный оттенок. Подсознательно картины Франции предполагают в числе других образ сельской местности, населенной крестьянами – крепкими хозяевами, прочно вросшими в свою землю, которую они обрабатывают из поколения в поколение. Даже в наши дни Арман Фремон – автор раздела, посвященного «Земле», – не может вполне освободиться от столь характерного для французов отношения к этой теме: «Земля была освоена без нарушения природного ритма ее жизни, без масштабных преобразований ландшафта, как это часто бывает в других странах», пейзаж Франции отличается «беспрецедентной гармоничностью» и т. п. Статья пронизана ощущением утраты, столь очевидной сегодня, когда деревенская Франция исчезает на глазах.[82 - Fr е mont A. The Land // Realms of Memory. Vol. II. P. 25, 34. В 1976 году под редакцией Жоржа Дюби и Армана Валлона вышло авторитетное научное четырехтомное издание, посвященное истории французской деревни и сельского хозяйства с древнейших времен до наших дней, в котором были представлены статьи большого авторского коллектива («Конец крестьянской Франции» – так элегически был назван последний том этого издания). Во Франции эта работа стала бестселлером.]
Никто, однако, не оплакивает «провинцию». Типичный «провинциал», каким он предстает в любом романе, приезжает в Париж из маленького городка. Страдая от одиночества, он отчаянно стремится покорить столицу – если только он не предпочел остаться дома, в тупом самодовольстве принимая жалкое существование в своем ограниченном мирке за настоящую жизнь. От Мольера и до Барреса этот трагикомический сюжет красной нитью проходит через всю французскую словесность. Конечно же, он отражает распространенный предрассудок, в равной мере разделяемый и парижанами, и провинциалами: все, что имеет значение, происходит в Париже (вот почему в годы «буржуазной монархии», с 1830-го по 1848-й, 92% парижских студентов приезжали учиться в столицу из провинции). Таким образом, столица высасывала из всей остальной (провинциальной) Франции жизненные соки. Как только эта фундаментальная противоположность Парижа и провинции будет осознана, гораздо понятнее станут почти все события и процессы в истории Франции – будь то политическая экономия Версаля при Людовике XIV, причины популярности режима маршала Петена (чья идеология, воспевавшая радости сельской жизни вдали от Парижа, апеллировала к атавизмам общественного сознания) или же современные предпочтения французской профессуры в выборе места жительства.
Презрительный оттенок, присущий словам «провинциал» и «провинциальный», ярко контрастирует с традиционной симпатией, с которой французы относятся не только к крестьянам и земле, но и к самой Франции, понимаемой как географическое пространство. Конечно, говоря о «традиционной» симпатии, мы имеем в виду сравнительно недавнее явление – это чувство возникло в XIX веке, а если быть еще точнее, то в годы Третьей республики, с 1880-го по 1900-й, когда в общественном сознании твердо запечатлелся зрительный образ Франции как страны на географической карте. Труды выдающихся историков и географов – «История Франции» Эрнеста Лависса и «Картина географии Франции» Поля Видаля де ла Блаша (оба этих сочинения рассматриваются в «Местах памяти») – предоставили в распоряжение нескольких поколений учителей надежное средство, с помощью которого в сознание французских школьников внедрялось понятие гражданственности и воспитывалась любовь к родине.[83 - «Dans ce livre, tu apprendras l’histoire de la France. Tu dois aimer la France, parce que la nature l’a faite belle, et parce que son histoire l’a faite grande [Из этой книги ты узнаешь историю Франции. Ты должен любить Францию, потому что природа наделила ее красотой, а история сделала ее великой страной]». Эта цитата заимствована с фронтисписа «Истории Франции» Эрнеста Лависса (вторая часть курса, издание 1912 года), воспроизведенного в изд.: Realms of Memory. Vol. II. P. 168.]
«Путешествие двух детей по Франции» (Tour de la France par deux enfants), впервые опубликованное в 1877 году и на многие десятилетия ставшее обязательным чтением в школе, а также велосипедный маршрут Tour de France, открытый в 1903 году, в тот самый год, когда в свет вышла «Картина географии Франции» Видаля де ла Блаша, почти буквально воспроизводили традиционный маршрут, по которому за много веков до этого странствовали по Франции подмастерья (compagnons). Благодаря этой непрерывности пространства и времени – как реального, так и воображаемого – французская нация в 1914 году отличалась уникальным, непревзойденным чувством причастности к прошлому своей страны, к ее границам, многообразию ее ландшафтов, к ее географии – какой она была запечатлена на картах в разные столетия своей истории. Именно угасание этого чувства и исчезновение той реальности, которую оно отражало, и оказались в центре внимания Пьера Нора и его коллег, с горечью и сожалением описывающих эту утрату.
Педагогические усилия первых десятилетий Третьей республики (провозглашенной в 1870 году после того, как Наполеон III попал в плен к пруссакам), естественно, пользовались гораздо большим сочувствием в провинции, нежели в столице. Как показало исследование 1978 года, самыми популярными названиями городских улиц во Франции были: «улица Республики», «улица Виктора Гюго», «улица Леона Гамбетты», «улица Жана Жореса» и «улица Луи Пастера». Итак, в этом списке мы находим двух политиков Третьей республики, замечательного представителя «республиканской» науки и поэта, чьи похороны в 1885 году не только стали одним из кульминационных моментов того, как во Франции публично отмечалась память о выдающихся деятелях истории и культуры страны, но и превратились в торжество идеалов Французской республики. Однако эти названия улиц и проспектов гораздо чаще встречаются в провинциальных городах, чем в Париже, где, напротив, гораздо чаще можно встретить имена, или никак не связанные с политикой вообще, или восходящие ко временам Старого Порядка. Гражданские добродетели умеренного толка, проповедовавшиеся республиканским режимом в конце XIX века, находили живой отклик в первую очередь среди жителей небольших провинциальных городков.
Когда в 1918 году пришло время чтить память множества потерь, которые понесла страна в Первой мировой войне, республиканский культ павших героев (Антуан Прост характеризует его как светскую религию межвоенной Франции) особенно рельефно проявился опять же в провинции – и не только потому, что потеря человеческой жизни острее всего чувствовалась в деревне. Третья республика и все, что она собой олицетворяла, гораздо больше значила для населения небольших городов и сел, нежели для космополитичных жителей огромной французской столицы, – поэтому и утрату этого наследия регионы переживали гораздо глубже и сильнее.[84 - Prost A. Monuments to the Dead // Realms of Memory. Vol. II. P. 328.]
В XX веке память о перенесенных в годы войны испытаниях становится ключом к пониманию противоречивого культурного наследия Франции – возможно, что Пьеру Нора и его коллегам следовало бы уделить ей больше места в рамках своего проекта. Как пишет Рене Ремон, «с 1914 по 1962 год, на протяжении почти полувека, война все время присутствовала в памяти французского народа, в национальном самосознании»[85 - См.: R е mond R. Mеmoire des guerres // Lieux de mеmoire et iden-titеs nationals. P. 266.]. Первая мировая война могла не вызывать моральных сомнений, но к ранам, которые она нанесла, еще долго было больно прикасаться: кроме пяти миллионов убитых и раненых она оставила после себя сотни тысяч вдов и сирот, не говоря уже о страшных разрушениях на всем северо-западе Франции. В течение многих десятилетий о событиях Первой мировой войны, как о душах чистилища, постоянно помнили, но их никогда не отмечали. Только сравнительно недавно поля сражений на Западном фронте стали местом паломничества экскурсантов: при пересечении границы департамента Соммы приезжего встречает дорожный указатель, приветствующий его на этой земле. Этот же указатель напоминает ему о том, что трагическое прошлое этого края (как и расположенные здесь мемориальные кладбища) является частью местного наследия и заслуживает внимания туриста. Еще не так давно подобный знак невозможно было себе представить.[86 - В небольшом городке Перон (Pеronne), расположенном в самом центре тех мест, где шли бои на Сомме, создан «Историал», посвященный истории и памяти о Первой мировой войне. В отличие от большинства таких музеев его экспозиция не просто посвящена увековечению памяти – она по-настоящему претендует на исторический анализ. Здесь приводятся различные, часто противоречивые трактовки этих событий, показанных с точки зрения Германии, Великобритании и Франции; освещены такие стороны жизни на войне, о которых ничего не сообщается в традиционных рассказах о воинской доблести и бедствиях войны.]
Вторая мировая война, не говоря уже о «грязных войнах» Франции в Индокитае и Алжире, вызывает гораздо более сложные и неоднозначные ассоциации и воспоминания. Если сегодня для историков и журналистов режим Виши превратился в «место памяти», то большинство французов все еще предпочитает не вызывать из могилы призрак, который они постарались туда надежно закопать в 1945 году. Как сказал Даниэль Морне, представлявший обвинение на процессе над маршалом Петеном: «Эти четыре года должны быть вычеркнуты из нашей истории». Иными словами, прошлое Франции в XX столетии не удается представить как простое продолжение древних традиций, которые с любовью и восхищением запечатлены в многотомном издании под редакцией Пьера Нора.
Дело здесь не только в том, что эти события еще недостаточно удалились от нас. Несмотря на то что и земля Франции, и ее крестьяне, и даже католическая церковь (но не французская монархия) пережили 1918 и даже 1940 год, кое-что другое до наших дней не сохранилось. В первой половине своего существования, с 1871 года и до Первой мировой войны, Третья республика не знала трудностей в присвоении наследия предшествующих эпох, уверенно использовала реликвии прошлого для решения своих текущих задач. Однако после 1918 года Франции это никогда вполне не удавалось – несмотря на все героические усилия Шарля де Голля. История Франции в XX веке – это история стоического страдания, упадка, неуверенности, поражения, позора и сомнений, за которыми, как мы уже говорили, последовали беспрецедентные перемены. Эти перемены не могут ничего изменить в памяти о недавнем прошлом, хотя они – и здесь Пьер Нора совершенно прав – угрожают уничтожить все более древнее наследие, оставив французам только мучительные воспоминания и неопределенность сегодняшнего дня.
Не в первый раз Франция имеет возможность оглянуться назад, на свое бурное и неоднозначное прошлое. После 1871 года основатели Третьей республики должны были заново выработать основы гражданского единства, воссоздать французское общество после череды трех революций, двух монархий, империи, недолго просуществовавшего республиканского режима и поражения в большой войне: все эти события пришлись на время жизни одного поколения! У них это получилось, поскольку им удалось связать вместе прошлое и настоящее страны в одно целостное повествование, которое они со всей убежденностью внушили трем поколениям французских граждан.
Их потомки не смогли повторить это достижение – свидетельством тому может служить печальный опыт Франсуа Миттерана, занимавшего пост президента Французской республики в 1980-х – первой половине 1990-х годов. Ни один глава государства во Франции, начиная с Людовика XIV, не уделял столько внимания сохранению памяти о славном прошлом страны и не прилагал столько усилий к тому, чтобы самому слиться с этим величием. За годы его правления было воздвигнуто множество памятников, открыто десятки музеев, проведено сотни памятных торжеств, погребений и перезахоронений, не говоря уже о стремлении Миттерана увековечить свое собственное имя в камне и бронзе – стремлении, достигшем исполинских размеров в виде триумфальной арки у La Dеfense в западной части Парижа или «Очень Большой Библиотеки» на левом берегу Сены! Однако чем, помимо своей поразительной способности удерживаться у власти, запомнился Франсуа Миттеран своим соотечественникам перед смертью? Тем, что так и не смог до конца признать ту незначительную политическую роль, которую он играл в режиме Виши, – неожиданно яркий пример того, как поведение одного человека отражает провал в памяти, которым страдает вся нация.
Французы, как и их покойный президент, не знают, как им относиться к своей недавней истории. В этом плане они не слишком отличаются от своих восточных соседей, как, впрочем, и от других народов. Однако раньше во Франции прошлое казалось простым и понятным. Именно контраст между тем, каким прошлое виделось раньше и каким оно воспринимается сейчас, и вызывает тревогу, которая отчетливо проступает на страницах выдающегося труда Пьера Нора. Этот же контраст, как мне кажется, объясняет проводимое Пьером Нора противопоставление истории и памяти, на которое я уже обращал внимание выше. Раньше память и история дополняли друг друга: интерпретации историков, несмотря на их критический подход, в главном не противоречили памяти французского общества. Конечно, это было обусловлено тем, что сама историческая память общества формировалась под влиянием официально признанных представлений о прошлом, за которыми, в свою очередь, стояли сочинения историков, замечательно согласных между собой в своих оценках. Говоря об официальных представлениях, я прежде всего имею в виду книги, написанные для школьников: память о прошлом во Франции воспитывали с малолетства – эта тема раскрывается в «Местах памяти» в разделах, посвященных французским учебникам истории XIX века.
В наши дни, с точки зрения Пьера Нора, история и память утратили связь и с нацией, и между собой. Так ли это на самом деле? Когда сегодня, путешествуя по автомобильным дорогам Франции, мы встречаем на своем пути те самые указатели, с которых я начал эту статью, что реально происходит? Какой смысл сообщать человеку о том, что он видит перед собой Реймсский собор, или поле сражения под Верденом, или деревню под названием Домреми, если он не знает, что стоит за этими названиями, ведь об этом как раз ничего не написано на щите у дороги? Умение читать эти знаки зависит от тех познаний, которые путешественник приобрел ранее – в школе. Нам не нужно объяснять, что «значат» эти места – они обретают смысл в знакомых нам с детства рассказах. И они подтверждают эти рассказы своим существованием. Вот почему рассказ должен предшествовать встрече – иначе какой в ней смысл?
Итак, lieux de m е moire – «места памяти» – неотделимы от истории. Во Франции вы не найдете указателя, который подсказал бы автомобилисту, что он проезжает «Виши» (конечно, я не имею здесь в виду простой дорожный знак на въезде и выезде из черты города). Дело не в том, что «Виши» не поддается однозначной трактовке, – ведь образ рожденной в Домреми Жанны д’Арк тоже использовался различными силами (сейчас, например, она стала любимой героиней Национального фронта Ле Пена). Знака нет потому, что на сегодняшний день французы не могут ничего рассказать о «Виши» так, чтобы общий смысл этого рассказа был понятен и разделялся большинством сограждан. Без такого рассказа, без своей истории, «Виши» не имеет места в памяти Франции.
В конце концов, не столь важно, что «старая добрая Франция» навсегда канула в прошлое и что, используя выражение Армана Фремона, государство «переиздает поэму французской деревенской жизни», создавая экологические музеи и музеи под открытым небом, в то время как многое утрачено безвозвратно. В этом нет ничего нового – всегда существовали забвение и память, создание новых традиций и отмирание старых, по крайней мере, так было начиная с эпохи романтизма первых десятилетий XIX века[87 - См.: Fr е mont A. The Land. P. 28. Уже в 1930-х годах возникло гнетущее ощущение, что крестьянская Франция уходит в прошлое. Перепись 1929 года впервые показала, что меньше половины населения Франции проживает в «сельской местности». На различных выставках и ярмарках демонстрировались «действующие макеты» ферм и деревень, а также процесс ремесленного труда. Предпринималось много усилий для того, чтобы запомнить и сохранить идеализированную сельскую жизнь прошлого. См.: Peer S. France on Display: Peasants, Provincials, and Folklore in the 1937 Paris World’s Fair. N.Y., 1998; Herbert J.D. Paris 1937: Worlds on Exhibition. Ithaca, 1998.]. Проблема не в том, что в наше время все формы, которые принимает историческая память общества, представляют собой подделку, китч, пародию на прошлое. Версаль Людовика XIV, возникший под воздействием осознанного стремления вызвать в памяти и одновременно превзойти двор монархов династии Валуа, был и подделкой, и пародией, и предвосхищением всех тех «мест памяти», которые потом приходили ему на смену. Все это заключено в природе любого наследия и любой попытки сохранить память о прошлом.
Новизна нынешней ситуации состоит в том, что современное общество перестало уделять внимание истории. Каждый памятник, каждый музей, каждое беглое упоминание о прошлом, призванные вызвать в нас подобающие случаю чувства уважения, печали, сожаления или гордости, паразитируют на тех исторических познаниях, которые, предположительно, должны были бы быть в нас заложены. Речь идет не просто об общих воспоминаниях, но об общих воспоминаниях об истории страны – той истории, какую мы все когда-то изучали. Франция, подобно другим современным странам, живет за счет педагогического капитала, вложенного в ее сограждан в предыдущие десятилетия. Как с горечью замечают Жак и Мона Озуф в статье, посвященной классическому учебнику Огюстины Фуйе «Путешествие двух детей по Франции»: «Путешествие знаменует собой тот момент в истории Франции, когда все силы нации были отданы школе. В наши дни мы совершенно утратили веру в воспитание – вот почему в наших глазах так потускнел некогда яркий образ мадам Фуйе».[88 - Ozouf J., Ozouf M. Le Tour de la France par deux enfants: The Little Red Book of the Republic // Realms of Memory. Vol. II. P. 148.]
По крайней мере, в настоящий момент сюжеты, которые рассматривают Пьер Нора и его коллеги, остаются материалом к изучению «мест памяти». Однако, если судить по почти полному исчезновению нарративной истории из школьной программы многих стран, включая и Соединенные Штаты, скоро может наступить время, когда для большинства граждан прошлое их страны будет представлять собой нечто вроде lieux d ’ oubli – «мест забвения» или, скорее, мест незнания, поскольку и забывать станет нечего. Совершенно бессмысленно учить ребенка, как мы это делаем сейчас, критически относиться к полученным знаниям о прошлом, если перед этим он так и не получил никаких знаний[89 - Как пишет Патрик Хаттон, «ни одна культура не способна поддерживать себя без анализа институциональных форм и характерных стилей общения, господствовавших в том прошлом, которое эта культура отвергла». См.: Hutton P.H. History as an Art of Memory. Hanover, NH, 1993. P. xxiv.]. В конце концов, Пьер Нора совершенно прав, утверждая, что история принадлежит всем и никому – именно потому она и претендует на истину. Как и любое подобное притязание, ее право всегда будет оспариваться. Однако, отказавшись от этих притязаний, мы попадем в беду.
III
С моей точки зрения, многотомное издание Пьера Нора и его коллег можно понять только в контексте того времени и той страны, где и когда оно появилось на свет. Оно возникло в смутное время – как для исторической науки во Франции, так и для самого французского общества. В течение многих лет во французской историографии господствовали два течения – социально-культурная история школы «Анналов» и марксистская и неомарксистская историография Великой французской революции. В 1970-х годах эти два направления утратили свои ведущие позиции. Школа «Анналов» распалась потому, что популярные в 1960-х годах модели анализа исторического процесса, ставящие во главу угла глубокие, почти неизменные геоисторические структуры, потеряли свою притягательность в новом культурном климате следующего десятилетия. Что же касается историографии Великой французской революции, то Франсуа Фюре и его последователи радикальным образом пересмотрели все подходы в этой области – и это произошло в то самое время, когда французская интеллектуальная элита в целом отвернулась от марксизма.
Сама же Франция в этот момент менялась быстрее, чем когда бы то ни было за последние несколько столетий. Многое из того, что некогда было частью общих воспоминаний, вызывало общие ассоциации, многие местные и профессиональные традиции – все это исчезало на глазах с конца 1950-х до середины 1970-х годов. Пьер Нора, подобно многим своим современникам, осознал, что настал самый подходящий момент, чтобы попытаться запечатлеть это ощущение вечности Франции – как раз тогда, когда то, что казалось вечным, навсегда уходило из жизни людей. Именно поэтому вся книга посвящена Франции. Она не только о Франции – она прежде всего о том смысле, который французы вкладывают в это понятие, о французском понимании того, что значит быть французом, жить во Франции, помнить, что такое Франция. Те аспекты истории страны, которые не вписывались в эти представления – например, Наполеон Бонапарт или то, как во Франции обращались с этническими и религиозными меньшинствами, – либо были полностью пропущены, либо вытеснены на задний план исследования.
В этом смысле монументальный труд Пьера Нора и его коллег сам по себе уже может считаться образцом современной мифологии. Этим я не хочу сказать, что «Места памяти» лгут своим читателям или представляют общественную опасность. Просто это издание нельзя назвать настоящим историческим исследованием – несмотря на то что многие из его авторов принадлежат к числу ведущих современных историков Франции, а отдельные статьи представляют собой блестящий пример исторического анализа.
Как можно использовать этот труд применительно к советскому опыту? Первое, что я хотел бы отметить: работа Пьера Нора очень мало что может дать для понимания проблем имперского и национального самосознания в многонациональном контексте. Во-вторых, важно учитывать то обстоятельство, что Франция на протяжении многих столетий была свободной страной с непрерывной традицией независимого исторического исследования, общественной жизни и публичных дискуссий. Таким образом, в своем издании Пьер Нора изначально исходит из того факта, что во французском обществе «история» давно считается признанным методом познания и осмысления человеческого опыта. Иными словами, когда Нора представляет память – во всей ее противоречивости – в качестве альтернативного истории способа обрести понимание своего места в мире, он может пойти на такой шаг, поскольку история во Франции вызывает общее доверие и пользуется большим авторитетом. В странах бывшего советского блока, будь то Россия или ее бывшие сателлиты, ситуация принципиально иная. Здесь проблема заключается не в том, чтобы выйти за пределы традиционной историографии, а в том, как создать или восстановить традицию подлинно научного подхода к истории. Уже одно это обстоятельство кардинально меняет весь контекст исследования.
Наконец, я хотел бы отметить, что подход Пьера Нора – это подход замечательно уверенной в себе космополитичной парижской интеллигенции, настолько хорошо знающей все вехи истории Франции, все основы французской культуры, что она может позволить себе jeu d ’ esprit – игру ума, – предложив обществу память в качестве «ненаучной» альтернативы исторической науке. Ведь на самом деле это все не следует принимать вполне всерьез. Обратите внимание на то, что до сих пор не появилось ни одной удачной попытки повторить успех Пьера Нора в Великобритании, Италии, Испании или где-нибудь еще. Это очень парижский по духу проект, и вряд ли есть какой-то смысл в том, чтобы пытаться перенести его на другую почву.
Рональд Григор Суни
Диалог о Геноциде: усилия армянских и турецких ученых по осмыслению депортаций и резни армян во время Первой мировой войны
В начале 1998 года меня пригласили прочитать лекцию и провести семинар в Университете Коч (Ko? University) в Стамбуле. Обратившийся ко мне человек – мой бывший аспирант, а впоследствии профессор этого университета – предложил, чтобы я рассказал об армянах. Хотя его предложение показалось мне странным и даже опасным, я не мог пренебречь столь заманчивой возможностью. Я стал советоваться с друзьями: некоторые из них полагали, что это – напрасный риск. Один турецкий коллега меня поощрил: «Не беспокойтесь! Если что-нибудь случится, мы сможем вытащить вас оттуда!» Подобные заверения вряд ли могли кого-то успокоить, но, поскольку я так долго доказывал необходимость диалога между турками, армянами и другими заинтересованными сторонами по вопросу о Геноциде, я решил лететь в Стамбул.
Университет Коч – относительно молодое учебное заведение, специализирующееся в области изучения бизнеса и экономики. По-спартански аскетичные корпуса этого университета, созданного на средства одного из самых богатых семейств в Турции, наводняют толпы молодых людей, которых легко принять за учащихся любого американского колледжа. Студенты прекрасно говорят по-английски, среди преподавателей есть как турки, так и иностранцы, в том числе молодые американцы, которых особенно много на историческом факультете и факультете политологии. Университет гордится своей прозападной ориентацией и живет в постоянном противоречии: с одной стороны, он привержен светскому, государственническому, модернизаторскому подходу – традиции, заложенной Мустафой Кемалем; с другой – некоторые иностранные преподаватели весьма критически относятся к этой традиции.
Я прилетел в Стамбул из Вашингтона через Амстердам во второй половине дня 20 мая 1998 года. Меня встретили на университетской машине, и я прибыл в Коч всего за 15 минут до начала лекции. В большой аудитории, окрашенной в сине-голубые тона, меня ожидало человек 150, в большинстве своем студентов, а также несколько преподавателей и посторонних лиц – гостей университета.
Все еще приходя в себя после долгого перелета, я начал выступление с того, что поблагодарил университет за предоставленную мне возможность обсудить страшную трагедию, которая до сих пор разъединяет армян и турок. Первые слова моего выступления, казалось, парализовали аудиторию. Пригласивший меня человек позднее заметил, что он был потрясен столь резким заявлением в начале лекции, явно контрастировавшим с турецкими трактовками этих событий:
Историки интерпретировали массовые депортации и убийства сотен тысяч армян в Восточной Анатолии в 1915 году как конфликт между двумя взаимоисключающими националистическими движениями, националистическими идеологиями, как конфликт двух народов из-за одного клочка земли. Несколько развив это положение, авторы, отрицающие сам Геноцид, трактуют эти события как гражданскую войну между турками и армянами. Я же утверждаю нечто совсем другое: это была не гражданская война – гражданской войны на самом деле никогда не было, она существует лишь в воображении профессиональных фальсификаторов истории. Это был Геноцид, свершившийся, когда государственная власть приняла решение о выселении армян с их исторической родины. Выселение было затеяно ради достижения некоторых стратегических целей, а именно – устранения предполагаемой армянской угрозы в ходе войны с Россией, наказания армян за подрывную, повстанческую – с точки зрения турецкого руководства – деятельность и, наконец, реализации собственных амбиций по созданию на всем пространстве от Анатолии до Кавказа и Средней Азии пантюркской империи.
Я говорил около часа. За это время несколько человек покинули аудиторию. Один турецкий преподаватель, которого я встретил перед самой лекцией, во время моего выступления выглядел совсем мрачным. Однако аудитория слушала меня с огромным вниманием и, когда я закончил, аплодировала, как мне показалось, с большим воодушевлением. В течение следующего часа я отвечал на вопросы – и они стали для меня самой непредсказуемой частью выступления. Они не были враждебными. Слушатели, по всей видимости, приняли мой тезис о том, что в 1915 году имел место Геноцид, что он был инициирован и осуществлялся правительством младотурок и что эти события произошли не в результате столкновения двух националистических движений, а потому, что государственная власть стремилась в измененной форме сохранить старую турецко-исламскую империю, распространить ее на восток, включив в ее состав другие тюркские народы и устранив физически тех, кого это государство считало наиболее чужеродными, наиболее опасными и наименее лояльными по отношению к османам, – а именно армян.
Самый первый вопрос был задан одним из студентов: «Что же теперь мы можем с этим поделать? Как мы сейчас можем преодолеть вражду между турками и армянами?» Этот вопрос вызвал оживленное обсуждение и новые вопросы аудитории: следует ли Турции принести официальные извинения за Геноцид армян? Когда это нужно сделать? Что выиграет Турция от принесенных извинений? Я ответил, что в настоящее время перед ней стоит слишком много проблем – война с курдами, проблема Кипра, вступление в Европейский союз, исламизм, проблема бедности. Поэтому Турция должна покончить с этим давно наболевшим вопросом и официально признать факт совершения Геноцида – события более чем 80-летней давности. Это разрядило бы атмосферу в отношениях между армянами и турками и способствовало бы вступлению Турции на правах полноправного члена в сообщество современных наций.
На вопрос об отношении армян к туркам я ответил, что большинство из них ненавидят турок и за совершенное ими зло, и за постоянное отрицание Геноцида; что непризнание этого преступления всегда вызывало патологическую реакцию со стороны обоих народов (одним из проявлений этой реакции в прошлом был терроризм) и что единственный способ преодолеть боль, которую вызывают подавленные воспоминания, – взглянуть в лицо фактам и признать, что произошло на самом деле. Я сказал моим слушателям, что в Америке многие армяне не поверили бы, что в Турции мне разрешили прочитать такую лекцию и что они еще больше удивились бы тому приему, который оказали мне сегодня студенты. Я выразил свое восхищение университетом за предоставленную возможность выступить – пусть даже речь шла всего лишь об одной лекции одного приглашенного специалиста. И, чтобы сделать следующий шаг на пути к взаимопониманию, я предложил организовать широкое обсуждение этих событий с участием турецких, армянских и других исследователей.
Один из студентов спросил меня об армянском терроризме, на что я заметил, что такого рода деятельность давно прекратилась и большинство участников террористических актов уничтожили друг друга. Отвечая тогда на этот вопрос, я еще не понимал, что студент на самом деле спрашивал меня о современном армянском терроризме – о явлении, которого на самом деле не существует, но которое постоянно упоминается в турецкой печати. В Турции армян обвиняли в том, что они тайно помогали курдскому восстанию – даже якобы возглавляли его!
Другой студент поинтересовался, связаны ли между собою обсуждение армянского вопроса и курдская проблема. Очевидно, он и многие другие усматривали определенную связь между тем, как турки обошлись с армянами 83 года назад, и политикой турецкого государства по отношению к курдам в настоящее время. Я отказался говорить о курдах, сославшись на то, что провел в Турции всего полтора часа и за это время уже успел стать врагом турецкого государства! Отвечая на вопросы, в какой-то момент я упомянул, что мой дед по матери был родом из Йозгата – города в Центральной Анатолии, а моя бабка по матери происходила из Диарбекира – города, который армяне называли Дикранагерт и который сейчас населяют в основном курды. Мои дед и бабушка покинули Турцию после резни 1894—1896 и 1909 годов, а все их родственники, кто остался в стране, были убиты во время Геноцида. Тишина, наступившая в зале после этих слов, убедила меня в том, что вряд ли кто-то из слушателей усомнился в правдивости моего рассказа о событиях 1915 года.
Я покинул аудиторию вдохновленный. Через два дня ко мне в гостиницу пришла журналистка, чтобы взять интервью о Геноциде. Более часа мы говорили с ней о том, что именно и почему произошло в 1915 году. Она пообещала мне, что интервью будет опубликовано примерно через неделю в воскресном приложении к популярной газете Milliyet. Я любовался красотами Стамбула, восхищался Босфором и наслаждался хорошо знакомым вкусом турецкой кухни, но при этом я отлично понимал, что выпавшая на мою долю возможность выступить с подобной лекцией была уникальной, даже странной. Она никак не соответствовала процессам, происходившим тогда в Турции. Спустя несколько дней после моего посещения Университета Коч Франция официально признала факт Геноцида армян. Турецкое правительство реагировало на это набившими оскомину фразами о гражданской войне и убийствах с обеих сторон. В сущности, официальная Турция продолжала настаивать на том, что Геноцида не было и что в любом случае армяне сами в нем виноваты! Полный абсурд!
Из Стамбула я вылетел в Тбилиси. Грузия – страна, перед которой стоят свои проблемы. Она страдает от межэтнических конфликтов и слабости государственной власти. В Тбилиси также многих удивило, что в Турции мне позволили говорить о массовых убийствах армян. Здесь, вдали от Стамбула, размышляя о том, что произошло, я понял, что в Турции неофициально уже шла дискуссия о Геноциде. Эту проблему еще нельзя было обсуждать в полный голос, публично, но и студенты, и интеллигенция уже знали о том, что официальная версия событий – плохо сработанная ложь. Было очевидно, что в Турции имелись люди, которые – подобно студентам из Университета Коч или журналистке, бравшей у меня интервью, – были готовы пойти на риск и услышать правду. Некоторые – таких, правда, было еще очень мало – решались вслух говорить правду о событиях 1915 года. Мне вспомнились две женщины, которые подошли ко мне после лекции и сказали, что они – турецкие армянки. Вспомнился молодой человек, сомневавшийся в том, что турки легко пойдут на признание Геноцида, – поскольку они не чувствуют себя достаточно уверенно, их национальное самосознание слишком ранимо. Турки, подумал я, должны сами для себя решить, кто они – нация современная или традиционалистская, светская или исламская, принадлежат ли они Западу или Востоку, – прежде чем смогут дать ответ на трудные вопросы о том, что сотворили их предки в начале XX века. По крайней мере, некоторые турки начали переосмысливать то, что не было принято обсуждать, начали задавать вопросы прошлому своего народа, чтобы сделать его будущее более приемлемым для всех.
После моего возвращения в Соединенные Штаты газета «Миллийет» опубликовала интервью, которое я дал 14 июня 1998 года. Вслед за этим армяно-американский журнал Armenian Forum, недавно созданный двумя моими бывшими учениками, напечатал мою большую статью под названием «Империя и нация: армяне, турки и конец Османской империи», в основу которой легла прочитанная мною в Стамбуле лекция. К моему удивлению, моя поездка в Турцию, интервью в турецкой газете и эта статья вызвали крайне враждебную реакцию – критиковали меня, мои взгляды на Геноцид, мое предложение собрать вместе турецких и армянских ученых для обсуждения событий 1915 года. Ирония заключалась в том, что наиболее резко высказывались армянские журналисты и исследователи, а не их турецкие коллеги. В сущности, в моей статье содержались три положения, вызвавшие наибольшие нападки: 1) Геноцид 1915 года нельзя рассматривать как простое продолжение массовых убийств армян турецкими властями, которые случались и ранее, – это была принципиально иная, гораздо более радикальная попытка решения «армянского вопроса»; 2) Геноцид не планировался заранее, задолго до Первой мировой войны – скорее, это было внезапное решение, принятое в разгар войны; 3) Геноцид был вызван не столько ненавистью турок к армянам как к расе или нации, сколько амбициозными планами воссоздания на новом фундаменте Османской империи, которые предполагали пантуранскую экспансию на Востоке.
Armenian Forum предоставил трем историкам – двум туркам по происхождению и одному армянину – возможность выступить с замечаниями по моей статье. В «Ответе моим критикам», опубликованном в том же журнале, я обратился прежде всего к двум турецким историкам, согласившимся принять участие в этой беспрецедентной дискуссии. Я поблагодарил профессора исторического факультета Университета Браун (Brown University) Энгина Дениза Акарли за призыв к исследователям выйти за пределы националистических парадигм, в рамках которых сформировались наши представления о прошлом. Акарли смело заявил, что Геноцид 1915 года нельзя рассматривать как гражданскую войну (как это утверждали некоторые турецкие историки), что массовые убийства, которые тогда произошли, по праву следует называть Геноцидом. В этом наши позиции оказались достаточно близкими. Однако между нами обнаружились и принципиальные различия во взглядах. Термин «гражданская война» действительно вводит в заблуждение – но не потому, что в последний период существования Османской империи общество не было расколото по религиозному, классовому или этническому признаку. Традиционное понимание природы гражданской войны предполагает, что две части общества, возможно сплотившиеся вокруг противоборствующих политических сил, сражаются друг с другом на равных. Они до некоторой степени сопоставимы по своему социальному масштабу, по результативности своих действий. В данном же случае с одной стороны мы видим государство, а с другой – небольшую часть общества; одна сторона была хорошо вооружена и организована, другая – почти безоружна и разбросана по стране. Очевидно, что такие термины, как «неповиновение», «сопротивление» или «восстание», гораздо больше подходят для описания событий, в которых участвовали армяне, поскольку эти понятия, по крайней мере, позволяют показать, что силы противоборствующих сторон были далеко не равными.
Акарли предложил альтернативное объяснение Геноцида 1915 года, связав массовые убийства с той идеологией, которая сложилась у вождей младотурок. Их взгляды на проблему сформировались под влиянием опыта событий на Балканах, где христиане жестоко расправлялись с мусульманами. Развивая мысль, высказанную Хасаном Кайяли из Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California, San Diego), Акарли утверждал, что правительство Османской империи преувеличивало угрозу своей власти, исходящую со стороны двух основных христианских общин. Именно поэтому политика правительства, направленная на сохранение государства, переросла в планы полного уничтожения армян на территории империи. В конце своей статьи Акарли признался, что не может понять, почему правительство Османской империи поступило так, как оно поступило. Действительно, воображение историка пасует перед подобными иррациональными актами варварской жестокости. Однако, стремясь найти объяснение, Акарли не пытался ни замолчать, ни оправдать то зло, которое турецкие националисты причинили армянам, что делает ему честь как ученому.
Историк из Стамбула Селим Дерингил высказался о моей статье гораздо критичнее. По его словам, «от нее можно было ждать гораздо большего»: статья изобилует неточностями, в ней много проблем с методологией, ее автор слишком явно выступает на стороне армян. За это последнее замечание я поблагодарил Дерингила, поскольку армяне слишком часто упрекали меня в том, что я отношусь к ним предвзято, будучи на самом деле армянским антинационалистом (последнее, действительно, ближе всего соответствует моим взглядам!). Так и не дав собственного объяснения тому, что он готов назвать «страшным преступлением… совершенным против армянского народа в Восточной Анатолии и в других областях страны» (но при этом старательно избегая слова «Геноцид»), Дерингил настаивал, что я сильно преувеличил значение пантуркизма или пантуранизма. На самом деле я говорил вовсе не о первенстве пантуркизма – или национализма, или османизма. Я доказывал, что в поздней Османской империи существовала «густая смесь» из различных идеологий, в рамках которой и действовали младотурки. Поэтому следует учитывать все существовавшие тогда проекты сохранения и упрочения империи. Из всей «смеси» турецкие лидеры в конце концов избрали радикальное решение – политику массового уничтожения армян. Я по-прежнему убежден, что пантуранские фантазии сыграли здесь свою роль – по крайней мере, они определяли сознание некоторых ведущих политических игроков.
Особые возражения с моей стороны вызвало утверждение Дерингила о том, что я предвзято подошел к позиции турецкой стороны и рассматриваю турецкий национализм как «искусный, коварный восточный заговор, направленный на то, чтобы навязать миру пантуранскую империю». Такое прочтение моей статьи, безусловно, неправильно. В моем понимании любое национальное движение, любая национальная идеология представляют собой нарратив – повествование о бытии коллективной идентичности в историческом времени, обычно с соответствующими ссылками на славное прошлое этой общности людей и с притязаниями на некоторую часть мировой недвижимости, а именно – на территорию своей «родины». Я рассматривал различные способы, с помощью которых армяне и турки обосновывали свои претензии на Анатолию, отнюдь не считая при этом, что обладание этими землями в прошлом или демографический перевес того или иного этноса в настоящем дают какие-то большие права на спорную территорию, что это более сильные аргументы по сравнению с завоеванием, покорением соперников или их устранением посредством депортации. Прошлый исторический опыт по-разному прочитывается и истолковывается в рамках различных дискурсивных конструкций, направленных на оправдание или обоснование тех или иных политических притязаний. В данном случае и армяне, и турки по-разному интерпретируют общую историю.
Известный армянский исследователь Геноцида Ваагн Н. Дадрян воспринял мою статью крайне враждебно. Его замечания значительно превысили по своему объему первоначальный текст моей статьи. Во-первых, он оспорил мое утверждение о том, что хамидские убийства 1890-х годов отличалась от Геноцида 1915 года. Он также отверг мою точку зрения на Геноцид как на спонтанное событие, произошедшее в момент политической радикализации, последовавшей за катастрофическим поражением османской армии при Сарыкамыше зимой 1914/15 года. Дадрян совершенно справедливо заметил, что я не согласен с часто повторяющимся в его работах тезисом о том, что планы Геноцида стали разрабатываться еще до Первой мировой войны. В качестве доказательства Дадрян ссылается на донесения австро-венгерского вице-маршала Помянковского, который якобы слышал «спонтанные высказывания многих умных турок», что православное население Османской империи следует или обратить в ислам, или уничтожить. Дадрян ссылается также на сообщение полковника германской армии Штранге, согласно которому младотурки проводили депортации и уничтожение армян «в соответствии с давно задуманным планом», а также на более поздние донесения Макса Эрвина фон Шубнер-Рихтера и посла Йоханна Маркграфа Паллавичини о том, что турки намеревались использовать войну для уничтожения христиан.
Здесь мы подходим к одному из самых сложных вопросов, связанных с Геноцидом. Когда именно турецким руководством было принято решение о проведении политики массового уничтожения? Существовали ли такие планы до начала Первой мировой войны, когда младотурки и основная армянская политическая партия в Турции – Дашнакцутюн – еще были политическими союзниками? Или же эти планы возникли с началом войны, когда турецкая армия потерпела поражение на Кавказском фронте, а ключевые политические игроки в Стамбуле пришли к убеждению, что армяне предали их в этой войне? Мой ответ на эти вопросы состоит в следующем: действительно, совершенно очевидно, что турецкая элита задолго до войны была настроена против армян. Точно так же очевидно, что отдельные экстремисты давно вынашивали планы радикального «решения» армянского вопроса. Нельзя отрицать и то, что война предоставила блестящую возможность для проведения в жизнь самых жестоких планов в отношении армян и что жертвам были предъявлены ложные обвинения в подготовке восстания. Но все это, по моему мнению, нельзя отождествлять с заранее подготовленным и разработанным планом по уничтожению армян. Если бы не разразилась Первая мировая война, то не было бы и Геноцида – и не только потому, что война позволила скрыть эти события. Война крайне обострила у турок чувство грозящей им страшной опасности. Без этого у них было бы гораздо меньше стимулов к радикальному решению вопроса и больше политических возможностей для других вариантов. Накануне объявления Османской империей войны России турецкое правительство вело переговоры с ведущей армянской политической партией – Дашнакцутюн – о том, чтобы эта партия поддержала усилия правительства, направленные на подрыв Российской империи изнутри, используя для этого армян, живущих в России. Дашнаки прозорливо отказались. Тем не менее в этой истории важно то, что перед младотурками было открыто множество различных политических возможностей решения проблемы, которым они предпочли Геноцид. Когда Геноцид армян все же свершился, то это произошло вследствие ненависти и страха, давно и прочно поселившихся в сознании турок, как элиты общества, так и простого народа. Эти настроения усилились с началом войны и поражениями на фронте, их подпитывали и грандиозные, фантастические замыслы руководства партии младотурок по перестройке империи и устранению предполагаемой угрозы со стороны армян. Однако даже в пространной статье Дадряна не прозвучал вопрос: в какой же все-таки момент и кем было принято решение провести массовые депортации и убийства армян?
За отсутствием точных доказательств, я склонен полагать, что такое решение было принято в какой-то момент в самом начале 1915 года на фоне зимних поражений на фронте. Обстановка благоприятствовала подобным действиям, поскольку парламент был закрыт, в воздухе витало ощущение опасности, грозящей государству, и армян можно было легко представить как предателей, помогающих наступлению русских войск. Как убедительно показал Дадрян, инициатива, поощрение и координация массовых убийств исходили преимущественно из самой политической партии младотурок, а не прямо от государства или созданных ими спецслужб типа Особой организации (Teshkil?ti Mahsusa).