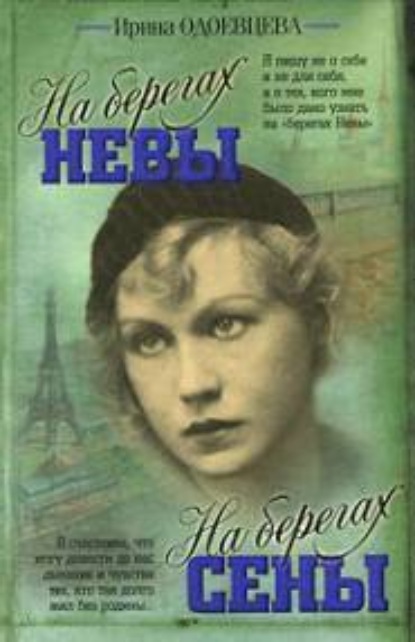По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На берегах Невы. На берегах Сены
Жанр
Серия
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В Студии рассказывают, что он похож на ангела. Волосы как золотое сиянье. Ресницы – опахала. Глаза – в мире нет подобных глаз. В него все влюблены. Нельзя не влюбиться в него. Вот увидите сами. Он – гений. Это чувствуют даже прохожие на улице и уступают ему дорогу. В Москве, задолго до войны, все были без ума от него. Но он, устав от славы, уехал, скрылся за границей. Во время войны он в Швейцарии, в Дорнахе, строил Гетеанум. С доктором Штейнером.
Потом он вернулся в Россию. Он здесь. И я сейчас увижу его.
Из кухни доносятся голоса. Слов не разобрать. Шаги…
Гумилев, особенно чопорный и будто весь накрахмаленный, с церемонным поклоном пропускает перед собой… Но разве это Андрей Белый? Не может быть!
Маленький. Худой. Седые, легкие, как пух, волосы до плеч. Черная атласная шапочка не вполне закрывает лысину. Морщинистое, бледное лицо. И большие, светло-голубые, сияющие, безумные глаза.
– Борис Николаевич, – голос Гумилева звучит особенно торжественно, – позвольте вам представить двух молодых поэтов: Николая Оцупа и Всеволода Рождественского.
Оцуп и Рождественский, не сходя с мест, молча кланяются. Но Андрей Белый уже перелетел прихожую и трясет руку Оцупа, восторженно заглядывая ему в глаза.
– Так это вы Оцуп? Я слыхал. Я читал. Оцуп! Как же! Как же… – И, не докончив фразы, бросается к Рождественскому.
– Вы, как я и думал, совсем Рождественский. С головы до ног – Рождественский. Весь как на елке!
Рождественский что-то смущенно бормочет. Гумилев, хотя церемония представления явно разворачивается не по заранее им установленному плану, указывает на меня широким жестом:
– А это – моя ученица.
Без фамилии. Без имени.
Сияющие, безумные глаза останавливаются на мне.
– Вы – ученица? Как это прекрасно! Всегда, всю жизнь оставайтесь ученицей! Учитесь! Мы все должны учиться. Мы все ученики.
Он хватает мою руку, высоко поднимает ее и, встряхнув, сразу выпускает из своей. Потом быстро отступает на шаг и оглядывается. Будто сомневается, нет ли здесь еще кого-то, кого он не заметил, не одарил сиянием своих глаз и своего восхищения.
И вот он уже снова рядом с Гумилевым. Движения его легки, отрывчаты и неожиданны. Их много, их слишком много.
Он весь движение – руки простерты для полета, острые колени согнуты, готовы пуститься вприсядку. И вдруг он неожиданно весь застывает в какой-то напряженной, исступленной неподвижности.
Гумилев пододвигает ему кресло.
– А теперь, с вашего позволения, Борис Николаевич, начнется чтение стихов.
Белый кивает несколько раз.
– Стихи? Да, да. Непременно стихи. Стихи это хорошо!
Он садится, вытягивает шею, поворачивает голову в нашу сторону. Вся его поза подчеркивает, что он весь слух и внимание.
Первым, как было условлено, читает Оцуп. Спокойно. Внятно. Уверенно:
О, жизнь моя. Под говорливым кленом
И солнцем проливным и легким небосклоном,
Быть может, ты сейчас последний раз вздыхаешь…
Быть может, ты сейчас, как облако, растаешь…
Белый, встрепенувшись, начинает многословно и истово хвалить:
– Я был уверен… Я ждал… И все же я удивлен – лучше, еще лучше, чем я думал…
Но я не слушаю. Я, зажмурившись, повторяю про себя свои стихи. Только бы не забыть, не сбиться, не оскандалиться.
Дирижерский жест Гумилева в мою сторону.
– Теперь вы!
Я встаю – мы все всегда читали стихи стоя – и сейчас же начинаю:
Всегда, всему я здесь была чужая.
Уж вечность без меня жила земля…
Прочитав первое стихотворение, я делаю паузу и перевожу дух.
Но эта полминутная тишина выводит Белого из молчания и оцепенения.
Он весь приходит в движение. Его глаза сверкают. Голос звенит:
– Инструментовка… Аллитерация… Вслушайтесь, вслушайтесь! «Всегда всему я». Ведь это а-у-я. А-у-я! – И вдруг, подняв к потолку руку, уже поет: – А-у-я! Аллилуйя! – Он поворачивает к Гумилеву бледное восторженно-вдохновенное лицо, скосив на меня глаза. – Как она могла? Сразу же без подготовки. В первой же строчке – Аллилуйя! Осанна Вышнему! Осанна Учителю!
Я слушаю. Казалось бы, я должна испытывать радость от этих похвал. Но нет. Мне по-прежнему неловко. Мне от этих «аллилуй» и «осанн» стыдно – за себя, за него, за Гумилева. Не надо. Не надо…
Ведь я чувствую, я знаю, он говорит это так, нарочно, зря. Ему совсем не понравились мои стихи. Он вряд ли их даже слышал. Только первую строчку и слышал.
Он заливает меня сиянием своих глаз, но вряд ли видит меня. Я для него просто не существую. Как, впрочем, и остальные. Я для него только предлог, чтобы воскликнуть: Аллилуйя! Осанна Андрею Белому!
Торжественно-официальный голос Гумилева: «Еще!»
И я читаю «Птицу». И, дочитав, покорно жду.
Но видно, Белый истратил на меня слишком много красноречия. Он молчит. И Гумилев, убедившись, что Белый о «Птице» ничего не желает сказать, делает знак Рождественскому.
Рождественский закидывает голову и сладостно и мелодично начинает выводить нараспев свое прелестное – всех, даже Луначарского, восхищавшее стихотворение:
Что о-ни с то-бою сде-ла-ли,
Бедная мо-я Мос-ква!
Окончив, Рождественский от волнения вытирает лоб платком.
Новый взрыв восторга Белого. И я опять понимаю, что он не слушал, что он хвалит не стихи Рождественского, а жонглирует словами.
– Замечательно находчиво! Это они – они. О-ни! О – эллипсис. О – дыра. Дыра – отсутствие содержания. Дыра, через которую ветер вечности уносит духовные ценности. О – ноль! Ноль – моль. Моль съедает драгоценные меха – царственный горностай, соболь, бобер. – И вдруг, понизив голос до шепота: – У меня у самого котиковая молью траченная шапка там на кухне осталась. И сердце тоже, тоже траченное молью.
Рождественский выжидательно смотрит на Гумилева. Ему по программе полагается прочесть еще свое, тоже всех очаровывающее:
Это Лондон, леди. Узнаете?
Потом он вернулся в Россию. Он здесь. И я сейчас увижу его.
Из кухни доносятся голоса. Слов не разобрать. Шаги…
Гумилев, особенно чопорный и будто весь накрахмаленный, с церемонным поклоном пропускает перед собой… Но разве это Андрей Белый? Не может быть!
Маленький. Худой. Седые, легкие, как пух, волосы до плеч. Черная атласная шапочка не вполне закрывает лысину. Морщинистое, бледное лицо. И большие, светло-голубые, сияющие, безумные глаза.
– Борис Николаевич, – голос Гумилева звучит особенно торжественно, – позвольте вам представить двух молодых поэтов: Николая Оцупа и Всеволода Рождественского.
Оцуп и Рождественский, не сходя с мест, молча кланяются. Но Андрей Белый уже перелетел прихожую и трясет руку Оцупа, восторженно заглядывая ему в глаза.
– Так это вы Оцуп? Я слыхал. Я читал. Оцуп! Как же! Как же… – И, не докончив фразы, бросается к Рождественскому.
– Вы, как я и думал, совсем Рождественский. С головы до ног – Рождественский. Весь как на елке!
Рождественский что-то смущенно бормочет. Гумилев, хотя церемония представления явно разворачивается не по заранее им установленному плану, указывает на меня широким жестом:
– А это – моя ученица.
Без фамилии. Без имени.
Сияющие, безумные глаза останавливаются на мне.
– Вы – ученица? Как это прекрасно! Всегда, всю жизнь оставайтесь ученицей! Учитесь! Мы все должны учиться. Мы все ученики.
Он хватает мою руку, высоко поднимает ее и, встряхнув, сразу выпускает из своей. Потом быстро отступает на шаг и оглядывается. Будто сомневается, нет ли здесь еще кого-то, кого он не заметил, не одарил сиянием своих глаз и своего восхищения.
И вот он уже снова рядом с Гумилевым. Движения его легки, отрывчаты и неожиданны. Их много, их слишком много.
Он весь движение – руки простерты для полета, острые колени согнуты, готовы пуститься вприсядку. И вдруг он неожиданно весь застывает в какой-то напряженной, исступленной неподвижности.
Гумилев пододвигает ему кресло.
– А теперь, с вашего позволения, Борис Николаевич, начнется чтение стихов.
Белый кивает несколько раз.
– Стихи? Да, да. Непременно стихи. Стихи это хорошо!
Он садится, вытягивает шею, поворачивает голову в нашу сторону. Вся его поза подчеркивает, что он весь слух и внимание.
Первым, как было условлено, читает Оцуп. Спокойно. Внятно. Уверенно:
О, жизнь моя. Под говорливым кленом
И солнцем проливным и легким небосклоном,
Быть может, ты сейчас последний раз вздыхаешь…
Быть может, ты сейчас, как облако, растаешь…
Белый, встрепенувшись, начинает многословно и истово хвалить:
– Я был уверен… Я ждал… И все же я удивлен – лучше, еще лучше, чем я думал…
Но я не слушаю. Я, зажмурившись, повторяю про себя свои стихи. Только бы не забыть, не сбиться, не оскандалиться.
Дирижерский жест Гумилева в мою сторону.
– Теперь вы!
Я встаю – мы все всегда читали стихи стоя – и сейчас же начинаю:
Всегда, всему я здесь была чужая.
Уж вечность без меня жила земля…
Прочитав первое стихотворение, я делаю паузу и перевожу дух.
Но эта полминутная тишина выводит Белого из молчания и оцепенения.
Он весь приходит в движение. Его глаза сверкают. Голос звенит:
– Инструментовка… Аллитерация… Вслушайтесь, вслушайтесь! «Всегда всему я». Ведь это а-у-я. А-у-я! – И вдруг, подняв к потолку руку, уже поет: – А-у-я! Аллилуйя! – Он поворачивает к Гумилеву бледное восторженно-вдохновенное лицо, скосив на меня глаза. – Как она могла? Сразу же без подготовки. В первой же строчке – Аллилуйя! Осанна Вышнему! Осанна Учителю!
Я слушаю. Казалось бы, я должна испытывать радость от этих похвал. Но нет. Мне по-прежнему неловко. Мне от этих «аллилуй» и «осанн» стыдно – за себя, за него, за Гумилева. Не надо. Не надо…
Ведь я чувствую, я знаю, он говорит это так, нарочно, зря. Ему совсем не понравились мои стихи. Он вряд ли их даже слышал. Только первую строчку и слышал.
Он заливает меня сиянием своих глаз, но вряд ли видит меня. Я для него просто не существую. Как, впрочем, и остальные. Я для него только предлог, чтобы воскликнуть: Аллилуйя! Осанна Андрею Белому!
Торжественно-официальный голос Гумилева: «Еще!»
И я читаю «Птицу». И, дочитав, покорно жду.
Но видно, Белый истратил на меня слишком много красноречия. Он молчит. И Гумилев, убедившись, что Белый о «Птице» ничего не желает сказать, делает знак Рождественскому.
Рождественский закидывает голову и сладостно и мелодично начинает выводить нараспев свое прелестное – всех, даже Луначарского, восхищавшее стихотворение:
Что о-ни с то-бою сде-ла-ли,
Бедная мо-я Мос-ква!
Окончив, Рождественский от волнения вытирает лоб платком.
Новый взрыв восторга Белого. И я опять понимаю, что он не слушал, что он хвалит не стихи Рождественского, а жонглирует словами.
– Замечательно находчиво! Это они – они. О-ни! О – эллипсис. О – дыра. Дыра – отсутствие содержания. Дыра, через которую ветер вечности уносит духовные ценности. О – ноль! Ноль – моль. Моль съедает драгоценные меха – царственный горностай, соболь, бобер. – И вдруг, понизив голос до шепота: – У меня у самого котиковая молью траченная шапка там на кухне осталась. И сердце тоже, тоже траченное молью.
Рождественский выжидательно смотрит на Гумилева. Ему по программе полагается прочесть еще свое, тоже всех очаровывающее:
Это Лондон, леди. Узнаете?