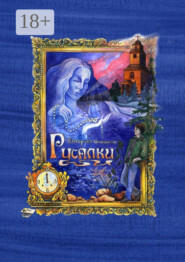По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Еловый блокнот
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Еловые лапы ведут в сердоликовый бор.
Я слышу древний говор или можжевеловый разговор.
Пью из копытца, плутает медвежья тропа,
Там – Лысая гора, здесь – Вотоваара,[4 - Воттоваара – скальный массив Западно-Карельской возвышенности на территории Суккозерского сельского поселения в юго-восточной части Муезерского района.] а я – слова.
Я – вепсский муравейник, рыжий – похожий на лису.
Не то же самое оказаться в калевальском лесу,
Или в карельском, шепчущем, вековом —
Надоело притворяться озером да бараньим лбом.
Переступаешь предел – карсикко, повсюду еловый хмель.
Гудит воронье над фермой и над ресницей – шмель,
Гудит кровь, забродившая киселем, молоком,
ячменной мукой,
И перо молчит. Господи! Притворись моею рукой.
Вчера ночью ходила с ведрами за фиолетовой водой.
Озеро кличут карстовым шимозерским, щучьею бедой.
Мой венех[5 - Венех – лодка по-карельски.] расписан люпином, еще не высох – не тронь!
Тот, Кто Над Грозами, дай мне прикинуться
тихой сосновой избой.
Стань для меня порогом. Дошей за меня зарю,
Твой резной календарь вечен, а мой подошел к февралю.
Это ли селение моё по крови? Здесь слово розово,
как утром – зарод.
Косая изгородь из жердей, а за ней мой дом – мой род.
Омуты
А ты умеешь нырять так же в омуты?
Когда небо вспорото, и камыш волнуется?
Ты умеешь так же щуриться,
Когда пальцы ветра гладят шею кедра?
Вряд ли, гордый, своенравный воин,
Ведь ты меня достоин
и знаешь это.
В это лето. Когда комета режет черный палец Укко.[6 - Укко – верховный бог-громовержец в карело-финской мифологии.]
Ни звука. Тишина. Болота.
Я слышу что-то: звуки, мантры, ноты.
И завтра будет Чистая Суббота —
Нырни-ка в омут!
Нил Столбенский
Снова радуги воют, звенят, обливается потом баня.
Я за Грузию пью, протяни-ка мне рог бараний!
Рог бараний, скрученный также, как сердце нынче.
Можно я поживу на отшибе, как дым, по-птичьи,
По-паучьи, по-заячьи, по-щучьи, по-над светом.
Я отныне пою воронике: «Ну где же, где ты?»
Я – примета, огонь, перелив, запоздалый поезд.
Ты вернешься в ночи, я брожу, собираю хворост.
Ты вернешься и снова исчезнешь: таков обычай,
Посему я живу на отшибе, как в старой притче.
Олонец. Деревянный сруб, все как встарь – по-клетски,
И дежурит в часовне один только Нил Столбенский.
Валентину Александровичу
Он был храмом, часовенкой северной,
С вросшей в землю наполовину дверью,
Ведь никто не мог пройти.
Есть такое суеверье:
Обычному смертному нелегко найти
Тропку заветную, вьющуюся меж орешника.
Вода в нём была вешняя, квас крепкий,
Сваренный из мудрости – в поставец наливаемый.
Обнимали мы нечто великое, могучее, первобытное,
Страстное, необратимое,
но озерцо покрыто тиною, камышом да люпином.
Лепнины не было – лишь суть, пронизанная Богом.
Он шёл своей дорогой: пыльной, одноногой.
Немного нас провёл след в след.
Сед этот снег и светел, как лучина
В светце. На святцы выбирают имя.
И на оконцах иней. И на щеках он тоже.
Морозит кожу.
Но мы поём и вспоминаем лишь одну из всех дорожек,
Ведущую сквозь ели – не в село, а в Знание и Память.
Часовенка стоит, и он стоит, прищурившись,
И свет не тает.
Он машет нам.
Он – храм.
Твоя лыжня
Лыжи не смазаны. По каким снегам стремглав
За алтарным лосем петлять через сосны и мхи?
Леменкяйнена хриплый напев да стальной рукав —
У таких мужей речи сладки, лихи!
Не угнаться мне за понурой луной. Стрелять в упор.
Сбивать голубую пыль с обнаженных лап.
Жизнь! На какую долю секунды великий вор
Променяет тебя на золото? Если слаб
Другие электронные книги автора Катерина Ольшина
Русалки




 0
0