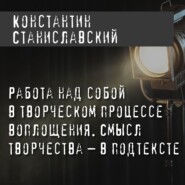По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Моя жизнь в искусстве
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Впервые я стоял на подмостках рядом с подлинными артистами большого таланта.
Важный момент в моей жизни! Но я робел, конфузился, злился на себя, из застенчивости говорил, что понимаю, когда на самом деле не схватывал того, что мне объясняли. Моей главной заботой было не рассердить, не задержать, запомнить, скопировать, что мне показывали. Все это как раз обратно тому, что было нужно для подлинного творчества. Но я не умел иначе; не учить же было меня. Нельзя делать из репетиций уроки драматического искусства, тем более что еще так недавно я ушел из Театрального училища, от той же Гликерии Николаевны Федотовой, с которой теперь я встретился в качестве готового артиста.
Из-за любительской неопытности, «мои колки», как говорят актеры, не держали.
Загоришься – и сейчас же опять потухнешь. От этого и речь, и действия на сцене то становились энергичнее, – и тогда голос звучал, слова произносились ясно и долетали до зрителя; то опять все блекло, – и тогда я вянул, начинал шептать, слова комкались, и из зрительного зала мне кричали во время репетиции: «Громче!» Конечно, я мог заставить себя говорить громко, действовать энергично, но когда насилуешь себя, усиливая громкость ради громкости, бодрость ради бодрости, без внутреннего смысла и побуждения, – становится еще стыднее на сцене. Такое состояние не может создать творческого настроения. А рядом со мной – я видел – подлинные артисты всегда были чем-то изнутри заряжены; что-то их держало неизменно на определенном градусе повышенной энергии и не позволяло ей падать.
Они не могут не говорить громко на сцене, они не могут не быть бодрыми. Пусть у них скребет на сердце или болит голова, горло, – они все-таки будут действовать энергично и говорить громко. Совсем не то у нас – тогдашних любителей. Нам нужно было, чтобы кто-то извне нас разгорячил, ободрил, развеселил. Не мы держали публику в руках, – напротив, мы сами ждали, что она возьмет нас в руки, ободрит, приласкает, и тогда, быть может, нам самим захочется играть.
«В чем же дело?» – спрашивал я у Федотовой.
«Не знаете, батюшка, с какого конца начинать. А учиться не хочется, – кольнула меня Федотова, смягчая колкость своим певучим голосом и ласкающей интонацией. – Нет тренировки, выдержки, дисциплины. А без этого артисту невозможно».
«А как же вырабатывать в себе дисциплину?» – допытывался я.
«Поиграйте почаще с нами, батюшка, – мы вас и вымуштруем. Мы ведь не всегда такие, как сегодня. Мы бываем и строгие. Ох, батюшка, достается, ах, как от нас достается! А нынешние артисты все больше сложа руки сидят и ждут вдохновения от Аполлона. Напрасно, батюшка! У него своих дел достаточно».
И действительно, когда начался спектакль, поднялся занавес, и тренированные актеры заговорили в тоне, они потянули нас за собой, точно на аркане. С ними не задремлешь, не опустишь тона. Мне даже казалось, что и я играл с вдохновением.
Но – увы! – это только казалось. Роль была далеко не сделана.
Тренировка и дисциплина подлинных артистов сказались еще ярче при повторении «Счастливца» в другом городе – Рязани,[66 - В Рязани пьеса Вл. И. Немировича-Данченко «Счастливец» с участием К. С. Станиславского была показана 22 марта 1892 года.] почти в том же составе, т. е. с артистами Малого театра и со мной. Вот как было дело.
Я был за границей и вернулся в Москву. На перроне среди встречающих я увидел моего товарища, Федотова,[67 - Федотов Александр Александрович (1863–1909) в Обществе искусства и литературы выступал под псевдонимом Филиппов. С 1893 года – артист Малого театра на характерных ролях. Преподавал в Музыкально-театральном училище Филармонического общества.] сына артистки Федотовой, одного из участников спектакля. Он приехал по поручению всего состава играющих в пьесе «Счастливец» с огромной просьбой выручить их из беды. Надо было тотчас же ехать с ними в Рязань и там играть мою роль вместо заболевшего артиста Малого театра А. И. Южина.
Отказать было нельзя, и я поехал, несмотря на утомление после долгого заграничного путешествия, не повидавшись даже с родными, которые ждали меня дома.
Нас везли в Рязань во втором классе. Мне дали книжку, чтобы повторить роль, которую я наполовину забыл, так как никогда ее хорошо не знал и играл всего раз.
От вагонного шума, ходьбы, болтовни, суеты голова становилась еще тяжелее, и читаемое воспринималось плохо. Я не мог вспомнить текста, волновался, минутами доходил до отчаяния, так как больше всего боялся на сцене незнания слов роли.
«Ну, – думаю, – приедем на место, бог даст, там найдется свободная комната, где можно будет уединиться, чтобы хоть раз с большим вниманием прочитать роль».
Но оказалось иначе. Спектакль шел не в театре, а в каком-то полковом клубе.
Маленькая любительская сценка, а рядом – единственная комната, разгороженная ширмами. В ней все: мужские и дамские уборные, и актерское фойе, где был для нас накрыт чай с самоваром. Сюда же втиснули и военный оркестр, чтобы освободить побольше места в зрительном зале. Когда весь оркестр затрубил во все трубы, забил в барабаны, а мы, тут же, одевались и гримировались, я не взвидел света.
Каждая нота марша точно била меня по больному месту головы. Пришлось оставить повторение роли и положиться на суфлера, который, к счастью, был превосходен.
Когда я вышел на сцену, мне показалось, что кто-то свистнул… Опять… еще… сильней… Не могу понять, в чем дело! Остановился, посмотрел в публику и вижу, что некоторые зрители наклонились в мою сторону и со злобой мне свистят.
«За что? Что же я сделал?» Оказывается, мне свистели за то, что приехал я, а не обещанный Южин. Я так сконфузился, что ушел за кулисы.
«Сподобился! Окрестили! Дожил до свиста!» Не могу сказать, чтобы это было приятно. Но, по правде, и особенно плохого я в этом не нашел! Я был даже рад, так как это дало мне право на плохую игру. Ее можно было истолковать обидой, оскорблением или просто нежеланием играть как следует. Это право меня ободрило, и я снова вышел на сцену; на этот раз меня встретили аплодисментами, но понятно, что я из самолюбия отнесся к ним презрительно, т. е. не обратил на них внимания, стоял точно окаменелый, как будто аплодисменты относились не ко мне. Само собой понятно, что хорошо играть неготовую роль я не мог. К тому же я впервые шел по суфлеру. Какой ужас быть на сцене без наговоренного текста! Кошмар!
Наконец спектакль кончился. Не успели мы разгримироваться, как нас повезли на станцию, чтобы ехать обратно в Москву. Но мы опоздали к поезду, и нам пришлось ночевать в Рязани. Пока искали комнаты для ночлега, поклонники Федотовой и Садовской экспромтом устроили ужин. Боже! Какую жалкую фигуру я представлял из себя тогда – бледный от головной боли, с согнутой спиной, с ослабевшими ногами, которые отказывались служить. Среди ужина я заснул, а в это время Федотова, которая по возрасту годилась мне в матери, была свежа, молода, весела, кокетлива, подтянута, разговорчива. Ее можно было принять за мою сестру. Садовская – тоже немолодая женщина – не уступала подруге.
«Но я же прямо из-за границы», – оправдывал я себя.
«Ты из-за границы, а мама больна, у нее тридцать восемь градусов температуры», – объяснил мне ее сын.
«Вот она – тренировка и дисциплина!» – подумал я.
Благодаря частым выступлениям в любительских спектаклях я стал довольно известным среди московских дилетантов. Меня охотно приглашали как в отдельные спектакли, так и в кружки, где я перезнакомился почти со всеми артистами-любителями того времени, поработал у многих режиссеров. При этом я имел возможность выбирать и играть те пьесы и роли, которые мне хотелось, что позволило мне испробовать себя в разных ролях, особенно в драматических, о которых всегда мечтает молодежь. Когда в человеке много юных сил и он не знает, куда их девать, приходится «рвать страсть в клочки». Но… как я уже не раз говорил, подобно тому, как опасно с непоставленным голосом петь сильные партии, например, вагнеровского репертуара, так точно опасно и вредно для молодого человека без надлежащей техники и подготовки браться за непосильные ему роли. Когда приходится делать непосильное, естественно, прибегаешь ко всяким уловкам, т. е. уклоняешься от главного, основного пути. Именно это еще раз и в сильнейшей степени повторилось со мной во время моих любительских мытарств – в период все еще длившегося «междуцарствия».
Я играл в разных случайных спектаклях, в быстро возникающих и кончающихся любительских кружках, в грязных, холодных, маленьких любительских помещениях, в ужасной обстановке. Постоянная отмена репетиций, манкировки, флирт вместо работы, болтовня, наскоро слепленные спектакли, на которые публика ходила, только чтобы потанцевать после спектакля.[68 - В архиве К. С. Станиславского имеется описание одного из таких спектаклей, который состоялся 10 декабря 1884 года в доме московских купцов Корзинкиных. «…мне пришлось играть роль Подколесина в «Женитьбе» Гоголя, – пишет К. С. Станиславский. – В последнем акте пьесы, как известно, Подколесин вылезает в окно. Сцена, где происходил спектакль, была так мала, что приходилось, вылезая из окна, шагать по стоящему за кулисами роялю. Конечно, я продавил крышку и оборвал несколько струн. Беда в том, что спектакль давался лишь как скучная прелюдия к предстоящим веселым танцам. Вся соль и смысл праздника заключались в котильоне и танцах, которые ожидались после спектакля». Далее К. С. Станиславский рассказывает, что в полночь не смогли найти мастера для починки рояля, и его заставили петь все танцы на протяжении всего вечера. «Это был один из самых веселых балов, – вспоминает К. С. Станиславский, – но, конечно, не для меня». (Музей МХАТ, К. С., № 28.)] Приходилось играть в неотопленных помещениях. В большие холода я устраивал свою театральную уборную в квартире сестры, которая жила неподалеку от того театра, где я часто играл. В каждом антракте надо было ездить на извозчике в свою уборную, к сестре, для переодевания, а вернувшись – до своего выхода на сцену кутаться в шубу.
Какой ужас эти халтурные любительские спектакли! Чего только я не нагляделся!
Вот, например, на один из спектаклей в водевиле, в котором участвовало до пятнадцати человек, не собралось и половины исполнителей, и нас, участвовавших в другой пьесе, заставили играть и в водевиле. Но мы не имели о нем никакого представления.
«Что же мы будем играть?» – недоумевая, спрашивали мы. «Что! Что! Да выходите и говорите что попало. Надо же кончить спектакли, раз публика заплатила деньги!» И мы, действительно, выходили и чорт знает что говорили. Потом уходили, когда нечего было говорить. Выходили другие и делали то же самое. И когда сцена пустела, нас снова выталкивали. И мы и публика хохотали от бессмысленности того, что происходило на сцене. По окончании спектакля нас вызвали всем театром, кричали «бис», а главный устроитель спектакля торжествовал.
«Видите? Видите? – говорил он. – А вы еще отказывались!» Приходилось участвовать нередко в компании каких-то подозрительных лиц. Что делать? Играть было негде, а играть до смерти хотелось. Тут бывали и шулера, и кокотки. И мне, человеку «с положением», директору Русского музыкального общества, выступать в такой обстановке было далеко не безопасно с точки зрения моей «репутации». Приходилось скрыться за какой-нибудь выдуманной фамилией. И я искал ее в надежде, что она действительно меня скроет. В то время я увлекался одним любителем, доктором М.,[69 - В. С. Алексеев, вспоминая о любительских спектаклях в «Секретаревке» (театр Секретарева на Нижней Кисловке), пишет, что «среди всех бездарностей выделялся даровитый молодой человек Алексей Федорович Марков (впоследствии доктор), живой, талантливый… Марков играл под фамилией Станиславского» (сб. «О Станиславском», стр. 51–52). Впервые К. С. Алексеев выступил под псевдонимом Станиславский 3 марта 1884 года в комедии В. Крылова «Лакомый кусочек» в роли Бардина. Спектакль шел в театре Секретарева.] игравшим под фамилией Станиславского. Он сошел со сцены, перестал играть, и я решил стать его преемником, тем более что польская фамилия, как мне тогда казалось, лучше укрывала меня. Однако я ошибся.
Вот что случилось.
Я играл какой-то французский трехактный водевиль, действие которого происходило в уборной актрисы, за кулисами. Завитой, расфранченный, я влетел на сцену с громадным букетом. Влетел… и остолбенел. Передо мной в центральной главной ложе сидели отец, мать, старушки-гувернантки. А в последующих актах мне предстояли такие сцены, которые не могли бы быть пропущены строгой семейной цензурой. Я сразу одеревенел от конфуза и смущения. Вместо бойкого, разбитного молодого человека у меня получился скромный, воспитанный мальчик. Вернувшись домой, я не смел показаться на глаза домашним. На следующий день отец сказал мне только одну фразу:
«Если ты непременно хочешь играть на стороне, то создай себе приличный кружок и репертуар, но только не играй всякую гадость бог знает с кем».
Старая гувернантка, помнившая меня еще в колыбели, воскликнула:
«Никогда, никогда я не думала, что наш Костя, такой чистый молодой человек, способен публично… Ужасно! Ужасно! Зачем глаза мои видели это?!» Однако нет худа без добра: во время этих скитаний по любительским спектаклям я узнал некоторых лиц, которые впоследствии стали видными членами нашего любительского кружка Общество искусства и литературы, а потом перешли и в Художественный театр.
В числе их были – Артем,[70 - Артем (Артемьев) Александр Родионович (1842–1914) впервые встретился с К. С. Станиславским 15 ноября 1887 года в спектакле «Майорша» И. Шпажинского, поставленном музыкально-драматическим любительским кружком в театре Мошнина. А. Р. Артем играл майора в отставке Терехова, К. С. Станиславский – арендатора мельницы Карягина. К. С. Станиславский привлек талантливого актера-любителя (А. Р. Артем был учителем чистописания и рисования) к участию в спектаклях Общества искусства и литературы. В 1898 году Артем вошел в труппу Московского Художественно-общедоступного театра. Лучшие образы Артема в Художественном театре: Богдан Курюков («Царь Федор Иоаннович»), Шамраев («Чайка»), Телегин («Дядя Ваня»), Чебутыкин («Три сестры»), Фирс («Вишневый сад»), Перчихин («Мещане»), Актер («На дне»), Аким («Власть тьмы»), Кузовкин («Нахлебник») и другие.В литературном архиве К. С. Станиславского сохранился следующий набросок творческого портрета А. Р. Артема: «Артем – один из самых очаровательных артистов, каких я видал. Все его создания вместе с ним самим хочется вылепить и поставить в ряд в витрину, или на красивую полку, или на камин. Он был весь скульптурен… В этой милой и смешной фигурке скрывалась нежная, поэтичная и красивая душа подлинного артиста. Артем – одна из тех ярких индивидуальностей, которые не повторяются. Может быть, найдутся артисты лучше, но такого именно, как Артем, больше не будет никогда. Неудивительно, что и мы все, и В. И. Немирович-Данченко, и Чехов, и все, кто знал его… ценили в нем то, что он превосходный «unicum».» (Музей МХАТ, К. С., № 256.)] Самарова,[71 - Самарова Мария Александровна (1852–1919) – участница спектаклей Общества искусства и литературы и артистка МХТ с 1898 года. Основные роли, сыгранные Самаровой: Волохова («Царь Федор Иоаннович»), Марина («Дядя Ваня»), Анфиса («Три сестры»), Квашня («На дне»), Зинаида Саввишна («Иванов»), Хлёстова («Горе от ума»), Глумова («На всякого мудреца довольно простоты») и другие.О Самаровой К. С. Станиславский писал: «М. А. Самарова – в молодости очаровательная худенькая и пикантная женщина, а под старость очень полная, маститая, смелая по лепке образов и их трактовке, всегда с большим талантом, юмором и умом. Под старость она – Медведиха, как дразнили ее товарищи-актеры, т. е. походила на покойную Надежду Михайловну (Медведеву. – Ред.). Это сходство было и выражалось в том, что в ней и в ее таланте было что-то увесистое, сочное, жирное – основательное. Даже в старости, когда она гримировалась под молодую (как, например, в пьесе В. И. Немировича-Данченко «В мечтах»), она была очень красива на сцене. Но наравне с этим она могла вылепить из себя и Наполеона I (на одном из капустников), и милую няньку Марину (в «Дяде Ване»), и Анфису (в «Трех сестрах»), и моветонную Зюзюшку [ «Иванов»] с какой-то свиной физиономией, и величественную Хлёстову в «Горе от ума». В жизни она была необыкновенно остроумна, умна, когда нужно, едка…» (Музей МХАТ, К. С., № 256.)] Санин,[72 - Санин (Шенберг) Александр Акимович начал свою сценическую деятельность в любительских кружках. В Обществе искусства и литературы А. А. Санин был актером, а затем и режиссером. В МХТ работал с 1898 по 1902 год; в первом же сезоне он самостоятельно осуществил постановку трагедии Софокла «Антигона». С 1902 по 1917 год Санин работал в б. Александрийском театре в Петербурге, в Московском Малом театре и в других театрах. С 1917 по 1919 год снова был режиссером МХТ.] Лилина.[73 - Лилина Мария Петровна (1866–1943) – народная артистка РСФСР, выдающаяся представительница сценического искусства МХАТ. Ее театральная деятельность началась в 1880-х годах в любительских спектаклях. На одном из таких спектаклей («Баловень» В. Крылова) в 1888 году она встретилась с К. С. Станиславским. В том же году по приглашению К. С. Станиславского М. П. Лилина вошла в любительскую труппу Общества искусства и литературы, где сразу заняла видное положение. В 1889 году, в связи со спектаклем «Коварство и любовь», К. С. Станиславский дал в своем дневнике подробную характеристику таланта М. П. Лилиной. Он подчеркнул, что Лилина «обладает двумя редкими и дорогими артистическими качествами. Первое из них – чуткость, второе – художественная простота… Из г-жи Лилиной выработается артистка своеобразная, очень оригинальная…» (см. «Художественные записи», стр. 67). М. П. Лилина была любимой артисткой А. П. Чехова, который высоко ценил ее талант, сочетавший в себе острую характерность, тончайший комизм и глубокую драматичность. Лилина обладала исключительным искусством перевоплощения.Лучшие образы, созданные М. П. Лилиной на сцене Московского Художественного театра: Маша («Чайка»), Соня («Дядя Ваня»), Наташа («Три сестры»), Аня и Варя («Вишневый сад»), Лиза («Горе от ума»), Дарья Ивановна («Провинциалка»), Каренина («Живой труп»). В советскую эпоху ею создан ряд новых замечательных образов: Анна Андреевна («Ревизор»), Карпухина («Дядюшкин сон»), Надежда Львовна («Бронепоезд 14–69»), Янина («Растратчики»), графиня Вронская («Анна Каренина»), Коробочка («Мертвые души»).В 1889 году М. П. Лилина вышла замуж за К. С. Станиславского. М. П. Лилина была верной помощницей К. С. Станиславского в его педагогической деятельности, в проведении в жизнь его «системы». После смерти К. С. Станиславского М. П. Лилина продолжала его дело, занимаясь воспитанием молодых артистов в Оперно-драматической студии.Свою книгу «Работа актера над собой» К. С. Станиславский посвятил М. П. Лилиной: «Посвящаю свой труд моей лучшей ученице, любимой артистке и неизменно преданной помощнице во всех моих театральных исканиях Марии Петровне Лилиной».]
Артистическая юность
Московское общество искусства и литературы
К тому времени в Москве появился известный в свое время режиссер Александр Филиппович Федотов,[74 - Федотов Александр Филиппович (1841–1895) – актер Малого театра (с 1862 по 1871 и с 1872 по 1873), режиссер и драматург. На сцене Общества искусства и литературы шла его пьеса «Рубль» и сцены из трагедии «Годуновы». В 1888–1889 годах – директор драматического отдела музыкально-драматического училища при Обществе искусства и литературы.] муж знаменитой артистки Федотовой и отец моего приятеля Александра Александровича Федотова, о котором я уже говорил. Александр Филиппович устраивал спектакль, чтобы показаться в Москве и напомнить о себе. В его вечере, конечно, участвовал его сын, а через него пригласили и меня. Шли «Сутяги» («Les Plaideurs») Расина в переводе самого А. Ф. Федотова, который был вместе с тем и драматургом-писателем. Главную роль играл известный в свое время художник-любитель и эстет Федор Львович Соллогуб,[75 - Соллогуб Федор Львович (1848–1890), окончив Московский университет, служил некоторое время по судебному ведомству, затем занялся живописью. Работал в качестве театрального художника в императорских и частных театрах. Автор одноактной пьесы-пародии «Честь и месть», которая была поставлена в Обществе искусства и литературы 18 марта 1890 года (см. «Художественные записи», стр. 95–98).] племянник известного писателя гр. В. А. Соллогуба, автора «Тарантаса», и друг В. С. Соловьева. Я играл главную роль в одноактной пьесе Гоголя «Игроки», которые шли в начале спектакля.[76 - «Игроки» Н. В. Гоголя и «Сутяги» Ж. Расина были показаны 6 февраля 1887 года в помещении Немецкого клуба. В «Игроках» К. С. Станиславский исполнял роль Ихарева.] Впервые я встретился с настоящим талантливым режиссером, каким был А. Ф. Федотов. Общение с ним и репетиции были лучшей школой для меня. По-видимому, я заинтересовал его, и он старался всячески приблизить меня к своей семье.
Спектакль Федотова имел успех. После него я уже не мог возвращаться к прежним любительским скитаниям.
Нам, участникам федотовского спектакля, не хотелось расходиться. Заговорили о создании большого общества, которое соединило бы, с одной стороны, всех любителей в драматический кружок, а всех артистов и деятелей других театров и искусств – в артистический клуб без карт. О том же давно мечтали и я с моим другом Федором Петровичем Комиссаржевским. Мне оставалось только соединить его с Федотовым и договориться до конца о проектируемом большом предприятии.
Когда чего-нибудь очень желаешь, то желаемое кажется простым, возможным. И нам тогда казалось легким осуществить мечту – добыть нужную сумму денег с помощью членских взносов и единовременных пожертвований. Как лавина, скатываясь с гор, вбирает в себя все по пути, так и наша новая затея, по мере развития, расширялась все новыми и новыми задачами, все новыми и новыми отделами.
Представителем артистического мира и мира писателей был сам Федотов, представителем музыки и оперы был Комиссаржевский, представителем художников – граф Соллогуб. Кроме того, к нашему Обществу примкнул издатель возникавшего в то время литературно-художественного журнала «Артист»,[77 - Куманин Федор Александрович – издатель журнала «Артист» (первый номер вышел в сентябре 1889 года). В спектаклях Общества искусства и литературы играл под псевдонимом Карелин.] имевшего впоследствии большой успех. Основатели этого журнала воспользовались возникающим Обществом, чтобы популяризировать свое начинание. По мере все возрастающих мечтаний, было решено открыть и драматическую, и оперную школу.[78 - Цели и задачи Московского Общества искусства и литературы были сформулированы следующим образом: «Московское Общество искусства и литературы имеет целью способствовать распространению познаний среди своих членов в области искусства и литературы, содействовать развитию изящных вкусов, а также давать возможность проявлению и способствовать развитию сценических, музыкальных, литературных и художественных талантов. С этой целью Общество содержит, с надлежащего разрешения, драматическо-музыкальное училище, но не иначе, как по утверждении правительством особых для оного правил. Кроме того, Общество может устраивать, с соблюдением общеустановленных правил и распоряжений правительства, сценические, музыкальные, литературные, рисовальные и семейные утра и вечера, выставки картин, концерты и спектакли» (см. печатный экземпляр устава Общества. Музей МХАТ). Устав Общества был утвержден министром внутренних дел 7 августа 1888 года, а устав училища при Обществе – министром просвещения 29 сентября того же года.] Как обойтись без них, раз что среди нас были такие известные преподаватели, как Федотов и Комиссаржевский!
Все одобряли наши планы, предсказывали успех, и только граф Соллогуб умерял мою возбужденную фантазию и предостерегал от увлечений.
Артистка Федотова также не раз вызывала меня к себе для того, чтобы по-дружески, как мать, предостеречь от той опасности, которая будто бы мне грозила. Но по свойству моей натуры – упорно, почти тупо стремиться к тому, чем я сильно увлечен, голоса благоразумия не проникали в мое сознание. Пессимизм Федотовой я объяснял ее семейными неладами с мужем, а практическому опыту Соллогуба я просто не верил, так как он слишком был художник.
Как на зло или, напротив, к счастью, в это самое время, совершенно неожиданно для себя, я получил крупную сумму в двадцать пять или тридцать тысяч рублей. Не имея привычки к таким деньгам, я уже считал себя миллионером. Возникавшему Обществу потребовался аванс, чтобы не пропустить подходящего помещения, без которого, как нам тогда казалось, осуществление нашего нового предприятия невозможно. Я дал эти деньги. Потом потребовалось наспех ремонтировать помещение.
И на это нужны были деньги; а так как другого притока пока не было, то снова обратились ко мне. И я, увлеченный делом, конечно, не отказал в просьбе.
Важный момент в моей жизни! Но я робел, конфузился, злился на себя, из застенчивости говорил, что понимаю, когда на самом деле не схватывал того, что мне объясняли. Моей главной заботой было не рассердить, не задержать, запомнить, скопировать, что мне показывали. Все это как раз обратно тому, что было нужно для подлинного творчества. Но я не умел иначе; не учить же было меня. Нельзя делать из репетиций уроки драматического искусства, тем более что еще так недавно я ушел из Театрального училища, от той же Гликерии Николаевны Федотовой, с которой теперь я встретился в качестве готового артиста.
Из-за любительской неопытности, «мои колки», как говорят актеры, не держали.
Загоришься – и сейчас же опять потухнешь. От этого и речь, и действия на сцене то становились энергичнее, – и тогда голос звучал, слова произносились ясно и долетали до зрителя; то опять все блекло, – и тогда я вянул, начинал шептать, слова комкались, и из зрительного зала мне кричали во время репетиции: «Громче!» Конечно, я мог заставить себя говорить громко, действовать энергично, но когда насилуешь себя, усиливая громкость ради громкости, бодрость ради бодрости, без внутреннего смысла и побуждения, – становится еще стыднее на сцене. Такое состояние не может создать творческого настроения. А рядом со мной – я видел – подлинные артисты всегда были чем-то изнутри заряжены; что-то их держало неизменно на определенном градусе повышенной энергии и не позволяло ей падать.
Они не могут не говорить громко на сцене, они не могут не быть бодрыми. Пусть у них скребет на сердце или болит голова, горло, – они все-таки будут действовать энергично и говорить громко. Совсем не то у нас – тогдашних любителей. Нам нужно было, чтобы кто-то извне нас разгорячил, ободрил, развеселил. Не мы держали публику в руках, – напротив, мы сами ждали, что она возьмет нас в руки, ободрит, приласкает, и тогда, быть может, нам самим захочется играть.
«В чем же дело?» – спрашивал я у Федотовой.
«Не знаете, батюшка, с какого конца начинать. А учиться не хочется, – кольнула меня Федотова, смягчая колкость своим певучим голосом и ласкающей интонацией. – Нет тренировки, выдержки, дисциплины. А без этого артисту невозможно».
«А как же вырабатывать в себе дисциплину?» – допытывался я.
«Поиграйте почаще с нами, батюшка, – мы вас и вымуштруем. Мы ведь не всегда такие, как сегодня. Мы бываем и строгие. Ох, батюшка, достается, ах, как от нас достается! А нынешние артисты все больше сложа руки сидят и ждут вдохновения от Аполлона. Напрасно, батюшка! У него своих дел достаточно».
И действительно, когда начался спектакль, поднялся занавес, и тренированные актеры заговорили в тоне, они потянули нас за собой, точно на аркане. С ними не задремлешь, не опустишь тона. Мне даже казалось, что и я играл с вдохновением.
Но – увы! – это только казалось. Роль была далеко не сделана.
Тренировка и дисциплина подлинных артистов сказались еще ярче при повторении «Счастливца» в другом городе – Рязани,[66 - В Рязани пьеса Вл. И. Немировича-Данченко «Счастливец» с участием К. С. Станиславского была показана 22 марта 1892 года.] почти в том же составе, т. е. с артистами Малого театра и со мной. Вот как было дело.
Я был за границей и вернулся в Москву. На перроне среди встречающих я увидел моего товарища, Федотова,[67 - Федотов Александр Александрович (1863–1909) в Обществе искусства и литературы выступал под псевдонимом Филиппов. С 1893 года – артист Малого театра на характерных ролях. Преподавал в Музыкально-театральном училище Филармонического общества.] сына артистки Федотовой, одного из участников спектакля. Он приехал по поручению всего состава играющих в пьесе «Счастливец» с огромной просьбой выручить их из беды. Надо было тотчас же ехать с ними в Рязань и там играть мою роль вместо заболевшего артиста Малого театра А. И. Южина.
Отказать было нельзя, и я поехал, несмотря на утомление после долгого заграничного путешествия, не повидавшись даже с родными, которые ждали меня дома.
Нас везли в Рязань во втором классе. Мне дали книжку, чтобы повторить роль, которую я наполовину забыл, так как никогда ее хорошо не знал и играл всего раз.
От вагонного шума, ходьбы, болтовни, суеты голова становилась еще тяжелее, и читаемое воспринималось плохо. Я не мог вспомнить текста, волновался, минутами доходил до отчаяния, так как больше всего боялся на сцене незнания слов роли.
«Ну, – думаю, – приедем на место, бог даст, там найдется свободная комната, где можно будет уединиться, чтобы хоть раз с большим вниманием прочитать роль».
Но оказалось иначе. Спектакль шел не в театре, а в каком-то полковом клубе.
Маленькая любительская сценка, а рядом – единственная комната, разгороженная ширмами. В ней все: мужские и дамские уборные, и актерское фойе, где был для нас накрыт чай с самоваром. Сюда же втиснули и военный оркестр, чтобы освободить побольше места в зрительном зале. Когда весь оркестр затрубил во все трубы, забил в барабаны, а мы, тут же, одевались и гримировались, я не взвидел света.
Каждая нота марша точно била меня по больному месту головы. Пришлось оставить повторение роли и положиться на суфлера, который, к счастью, был превосходен.
Когда я вышел на сцену, мне показалось, что кто-то свистнул… Опять… еще… сильней… Не могу понять, в чем дело! Остановился, посмотрел в публику и вижу, что некоторые зрители наклонились в мою сторону и со злобой мне свистят.
«За что? Что же я сделал?» Оказывается, мне свистели за то, что приехал я, а не обещанный Южин. Я так сконфузился, что ушел за кулисы.
«Сподобился! Окрестили! Дожил до свиста!» Не могу сказать, чтобы это было приятно. Но, по правде, и особенно плохого я в этом не нашел! Я был даже рад, так как это дало мне право на плохую игру. Ее можно было истолковать обидой, оскорблением или просто нежеланием играть как следует. Это право меня ободрило, и я снова вышел на сцену; на этот раз меня встретили аплодисментами, но понятно, что я из самолюбия отнесся к ним презрительно, т. е. не обратил на них внимания, стоял точно окаменелый, как будто аплодисменты относились не ко мне. Само собой понятно, что хорошо играть неготовую роль я не мог. К тому же я впервые шел по суфлеру. Какой ужас быть на сцене без наговоренного текста! Кошмар!
Наконец спектакль кончился. Не успели мы разгримироваться, как нас повезли на станцию, чтобы ехать обратно в Москву. Но мы опоздали к поезду, и нам пришлось ночевать в Рязани. Пока искали комнаты для ночлега, поклонники Федотовой и Садовской экспромтом устроили ужин. Боже! Какую жалкую фигуру я представлял из себя тогда – бледный от головной боли, с согнутой спиной, с ослабевшими ногами, которые отказывались служить. Среди ужина я заснул, а в это время Федотова, которая по возрасту годилась мне в матери, была свежа, молода, весела, кокетлива, подтянута, разговорчива. Ее можно было принять за мою сестру. Садовская – тоже немолодая женщина – не уступала подруге.
«Но я же прямо из-за границы», – оправдывал я себя.
«Ты из-за границы, а мама больна, у нее тридцать восемь градусов температуры», – объяснил мне ее сын.
«Вот она – тренировка и дисциплина!» – подумал я.
Благодаря частым выступлениям в любительских спектаклях я стал довольно известным среди московских дилетантов. Меня охотно приглашали как в отдельные спектакли, так и в кружки, где я перезнакомился почти со всеми артистами-любителями того времени, поработал у многих режиссеров. При этом я имел возможность выбирать и играть те пьесы и роли, которые мне хотелось, что позволило мне испробовать себя в разных ролях, особенно в драматических, о которых всегда мечтает молодежь. Когда в человеке много юных сил и он не знает, куда их девать, приходится «рвать страсть в клочки». Но… как я уже не раз говорил, подобно тому, как опасно с непоставленным голосом петь сильные партии, например, вагнеровского репертуара, так точно опасно и вредно для молодого человека без надлежащей техники и подготовки браться за непосильные ему роли. Когда приходится делать непосильное, естественно, прибегаешь ко всяким уловкам, т. е. уклоняешься от главного, основного пути. Именно это еще раз и в сильнейшей степени повторилось со мной во время моих любительских мытарств – в период все еще длившегося «междуцарствия».
Я играл в разных случайных спектаклях, в быстро возникающих и кончающихся любительских кружках, в грязных, холодных, маленьких любительских помещениях, в ужасной обстановке. Постоянная отмена репетиций, манкировки, флирт вместо работы, болтовня, наскоро слепленные спектакли, на которые публика ходила, только чтобы потанцевать после спектакля.[68 - В архиве К. С. Станиславского имеется описание одного из таких спектаклей, который состоялся 10 декабря 1884 года в доме московских купцов Корзинкиных. «…мне пришлось играть роль Подколесина в «Женитьбе» Гоголя, – пишет К. С. Станиславский. – В последнем акте пьесы, как известно, Подколесин вылезает в окно. Сцена, где происходил спектакль, была так мала, что приходилось, вылезая из окна, шагать по стоящему за кулисами роялю. Конечно, я продавил крышку и оборвал несколько струн. Беда в том, что спектакль давался лишь как скучная прелюдия к предстоящим веселым танцам. Вся соль и смысл праздника заключались в котильоне и танцах, которые ожидались после спектакля». Далее К. С. Станиславский рассказывает, что в полночь не смогли найти мастера для починки рояля, и его заставили петь все танцы на протяжении всего вечера. «Это был один из самых веселых балов, – вспоминает К. С. Станиславский, – но, конечно, не для меня». (Музей МХАТ, К. С., № 28.)] Приходилось играть в неотопленных помещениях. В большие холода я устраивал свою театральную уборную в квартире сестры, которая жила неподалеку от того театра, где я часто играл. В каждом антракте надо было ездить на извозчике в свою уборную, к сестре, для переодевания, а вернувшись – до своего выхода на сцену кутаться в шубу.
Какой ужас эти халтурные любительские спектакли! Чего только я не нагляделся!
Вот, например, на один из спектаклей в водевиле, в котором участвовало до пятнадцати человек, не собралось и половины исполнителей, и нас, участвовавших в другой пьесе, заставили играть и в водевиле. Но мы не имели о нем никакого представления.
«Что же мы будем играть?» – недоумевая, спрашивали мы. «Что! Что! Да выходите и говорите что попало. Надо же кончить спектакли, раз публика заплатила деньги!» И мы, действительно, выходили и чорт знает что говорили. Потом уходили, когда нечего было говорить. Выходили другие и делали то же самое. И когда сцена пустела, нас снова выталкивали. И мы и публика хохотали от бессмысленности того, что происходило на сцене. По окончании спектакля нас вызвали всем театром, кричали «бис», а главный устроитель спектакля торжествовал.
«Видите? Видите? – говорил он. – А вы еще отказывались!» Приходилось участвовать нередко в компании каких-то подозрительных лиц. Что делать? Играть было негде, а играть до смерти хотелось. Тут бывали и шулера, и кокотки. И мне, человеку «с положением», директору Русского музыкального общества, выступать в такой обстановке было далеко не безопасно с точки зрения моей «репутации». Приходилось скрыться за какой-нибудь выдуманной фамилией. И я искал ее в надежде, что она действительно меня скроет. В то время я увлекался одним любителем, доктором М.,[69 - В. С. Алексеев, вспоминая о любительских спектаклях в «Секретаревке» (театр Секретарева на Нижней Кисловке), пишет, что «среди всех бездарностей выделялся даровитый молодой человек Алексей Федорович Марков (впоследствии доктор), живой, талантливый… Марков играл под фамилией Станиславского» (сб. «О Станиславском», стр. 51–52). Впервые К. С. Алексеев выступил под псевдонимом Станиславский 3 марта 1884 года в комедии В. Крылова «Лакомый кусочек» в роли Бардина. Спектакль шел в театре Секретарева.] игравшим под фамилией Станиславского. Он сошел со сцены, перестал играть, и я решил стать его преемником, тем более что польская фамилия, как мне тогда казалось, лучше укрывала меня. Однако я ошибся.
Вот что случилось.
Я играл какой-то французский трехактный водевиль, действие которого происходило в уборной актрисы, за кулисами. Завитой, расфранченный, я влетел на сцену с громадным букетом. Влетел… и остолбенел. Передо мной в центральной главной ложе сидели отец, мать, старушки-гувернантки. А в последующих актах мне предстояли такие сцены, которые не могли бы быть пропущены строгой семейной цензурой. Я сразу одеревенел от конфуза и смущения. Вместо бойкого, разбитного молодого человека у меня получился скромный, воспитанный мальчик. Вернувшись домой, я не смел показаться на глаза домашним. На следующий день отец сказал мне только одну фразу:
«Если ты непременно хочешь играть на стороне, то создай себе приличный кружок и репертуар, но только не играй всякую гадость бог знает с кем».
Старая гувернантка, помнившая меня еще в колыбели, воскликнула:
«Никогда, никогда я не думала, что наш Костя, такой чистый молодой человек, способен публично… Ужасно! Ужасно! Зачем глаза мои видели это?!» Однако нет худа без добра: во время этих скитаний по любительским спектаклям я узнал некоторых лиц, которые впоследствии стали видными членами нашего любительского кружка Общество искусства и литературы, а потом перешли и в Художественный театр.
В числе их были – Артем,[70 - Артем (Артемьев) Александр Родионович (1842–1914) впервые встретился с К. С. Станиславским 15 ноября 1887 года в спектакле «Майорша» И. Шпажинского, поставленном музыкально-драматическим любительским кружком в театре Мошнина. А. Р. Артем играл майора в отставке Терехова, К. С. Станиславский – арендатора мельницы Карягина. К. С. Станиславский привлек талантливого актера-любителя (А. Р. Артем был учителем чистописания и рисования) к участию в спектаклях Общества искусства и литературы. В 1898 году Артем вошел в труппу Московского Художественно-общедоступного театра. Лучшие образы Артема в Художественном театре: Богдан Курюков («Царь Федор Иоаннович»), Шамраев («Чайка»), Телегин («Дядя Ваня»), Чебутыкин («Три сестры»), Фирс («Вишневый сад»), Перчихин («Мещане»), Актер («На дне»), Аким («Власть тьмы»), Кузовкин («Нахлебник») и другие.В литературном архиве К. С. Станиславского сохранился следующий набросок творческого портрета А. Р. Артема: «Артем – один из самых очаровательных артистов, каких я видал. Все его создания вместе с ним самим хочется вылепить и поставить в ряд в витрину, или на красивую полку, или на камин. Он был весь скульптурен… В этой милой и смешной фигурке скрывалась нежная, поэтичная и красивая душа подлинного артиста. Артем – одна из тех ярких индивидуальностей, которые не повторяются. Может быть, найдутся артисты лучше, но такого именно, как Артем, больше не будет никогда. Неудивительно, что и мы все, и В. И. Немирович-Данченко, и Чехов, и все, кто знал его… ценили в нем то, что он превосходный «unicum».» (Музей МХАТ, К. С., № 256.)] Самарова,[71 - Самарова Мария Александровна (1852–1919) – участница спектаклей Общества искусства и литературы и артистка МХТ с 1898 года. Основные роли, сыгранные Самаровой: Волохова («Царь Федор Иоаннович»), Марина («Дядя Ваня»), Анфиса («Три сестры»), Квашня («На дне»), Зинаида Саввишна («Иванов»), Хлёстова («Горе от ума»), Глумова («На всякого мудреца довольно простоты») и другие.О Самаровой К. С. Станиславский писал: «М. А. Самарова – в молодости очаровательная худенькая и пикантная женщина, а под старость очень полная, маститая, смелая по лепке образов и их трактовке, всегда с большим талантом, юмором и умом. Под старость она – Медведиха, как дразнили ее товарищи-актеры, т. е. походила на покойную Надежду Михайловну (Медведеву. – Ред.). Это сходство было и выражалось в том, что в ней и в ее таланте было что-то увесистое, сочное, жирное – основательное. Даже в старости, когда она гримировалась под молодую (как, например, в пьесе В. И. Немировича-Данченко «В мечтах»), она была очень красива на сцене. Но наравне с этим она могла вылепить из себя и Наполеона I (на одном из капустников), и милую няньку Марину (в «Дяде Ване»), и Анфису (в «Трех сестрах»), и моветонную Зюзюшку [ «Иванов»] с какой-то свиной физиономией, и величественную Хлёстову в «Горе от ума». В жизни она была необыкновенно остроумна, умна, когда нужно, едка…» (Музей МХАТ, К. С., № 256.)] Санин,[72 - Санин (Шенберг) Александр Акимович начал свою сценическую деятельность в любительских кружках. В Обществе искусства и литературы А. А. Санин был актером, а затем и режиссером. В МХТ работал с 1898 по 1902 год; в первом же сезоне он самостоятельно осуществил постановку трагедии Софокла «Антигона». С 1902 по 1917 год Санин работал в б. Александрийском театре в Петербурге, в Московском Малом театре и в других театрах. С 1917 по 1919 год снова был режиссером МХТ.] Лилина.[73 - Лилина Мария Петровна (1866–1943) – народная артистка РСФСР, выдающаяся представительница сценического искусства МХАТ. Ее театральная деятельность началась в 1880-х годах в любительских спектаклях. На одном из таких спектаклей («Баловень» В. Крылова) в 1888 году она встретилась с К. С. Станиславским. В том же году по приглашению К. С. Станиславского М. П. Лилина вошла в любительскую труппу Общества искусства и литературы, где сразу заняла видное положение. В 1889 году, в связи со спектаклем «Коварство и любовь», К. С. Станиславский дал в своем дневнике подробную характеристику таланта М. П. Лилиной. Он подчеркнул, что Лилина «обладает двумя редкими и дорогими артистическими качествами. Первое из них – чуткость, второе – художественная простота… Из г-жи Лилиной выработается артистка своеобразная, очень оригинальная…» (см. «Художественные записи», стр. 67). М. П. Лилина была любимой артисткой А. П. Чехова, который высоко ценил ее талант, сочетавший в себе острую характерность, тончайший комизм и глубокую драматичность. Лилина обладала исключительным искусством перевоплощения.Лучшие образы, созданные М. П. Лилиной на сцене Московского Художественного театра: Маша («Чайка»), Соня («Дядя Ваня»), Наташа («Три сестры»), Аня и Варя («Вишневый сад»), Лиза («Горе от ума»), Дарья Ивановна («Провинциалка»), Каренина («Живой труп»). В советскую эпоху ею создан ряд новых замечательных образов: Анна Андреевна («Ревизор»), Карпухина («Дядюшкин сон»), Надежда Львовна («Бронепоезд 14–69»), Янина («Растратчики»), графиня Вронская («Анна Каренина»), Коробочка («Мертвые души»).В 1889 году М. П. Лилина вышла замуж за К. С. Станиславского. М. П. Лилина была верной помощницей К. С. Станиславского в его педагогической деятельности, в проведении в жизнь его «системы». После смерти К. С. Станиславского М. П. Лилина продолжала его дело, занимаясь воспитанием молодых артистов в Оперно-драматической студии.Свою книгу «Работа актера над собой» К. С. Станиславский посвятил М. П. Лилиной: «Посвящаю свой труд моей лучшей ученице, любимой артистке и неизменно преданной помощнице во всех моих театральных исканиях Марии Петровне Лилиной».]
Артистическая юность
Московское общество искусства и литературы
К тому времени в Москве появился известный в свое время режиссер Александр Филиппович Федотов,[74 - Федотов Александр Филиппович (1841–1895) – актер Малого театра (с 1862 по 1871 и с 1872 по 1873), режиссер и драматург. На сцене Общества искусства и литературы шла его пьеса «Рубль» и сцены из трагедии «Годуновы». В 1888–1889 годах – директор драматического отдела музыкально-драматического училища при Обществе искусства и литературы.] муж знаменитой артистки Федотовой и отец моего приятеля Александра Александровича Федотова, о котором я уже говорил. Александр Филиппович устраивал спектакль, чтобы показаться в Москве и напомнить о себе. В его вечере, конечно, участвовал его сын, а через него пригласили и меня. Шли «Сутяги» («Les Plaideurs») Расина в переводе самого А. Ф. Федотова, который был вместе с тем и драматургом-писателем. Главную роль играл известный в свое время художник-любитель и эстет Федор Львович Соллогуб,[75 - Соллогуб Федор Львович (1848–1890), окончив Московский университет, служил некоторое время по судебному ведомству, затем занялся живописью. Работал в качестве театрального художника в императорских и частных театрах. Автор одноактной пьесы-пародии «Честь и месть», которая была поставлена в Обществе искусства и литературы 18 марта 1890 года (см. «Художественные записи», стр. 95–98).] племянник известного писателя гр. В. А. Соллогуба, автора «Тарантаса», и друг В. С. Соловьева. Я играл главную роль в одноактной пьесе Гоголя «Игроки», которые шли в начале спектакля.[76 - «Игроки» Н. В. Гоголя и «Сутяги» Ж. Расина были показаны 6 февраля 1887 года в помещении Немецкого клуба. В «Игроках» К. С. Станиславский исполнял роль Ихарева.] Впервые я встретился с настоящим талантливым режиссером, каким был А. Ф. Федотов. Общение с ним и репетиции были лучшей школой для меня. По-видимому, я заинтересовал его, и он старался всячески приблизить меня к своей семье.
Спектакль Федотова имел успех. После него я уже не мог возвращаться к прежним любительским скитаниям.
Нам, участникам федотовского спектакля, не хотелось расходиться. Заговорили о создании большого общества, которое соединило бы, с одной стороны, всех любителей в драматический кружок, а всех артистов и деятелей других театров и искусств – в артистический клуб без карт. О том же давно мечтали и я с моим другом Федором Петровичем Комиссаржевским. Мне оставалось только соединить его с Федотовым и договориться до конца о проектируемом большом предприятии.
Когда чего-нибудь очень желаешь, то желаемое кажется простым, возможным. И нам тогда казалось легким осуществить мечту – добыть нужную сумму денег с помощью членских взносов и единовременных пожертвований. Как лавина, скатываясь с гор, вбирает в себя все по пути, так и наша новая затея, по мере развития, расширялась все новыми и новыми задачами, все новыми и новыми отделами.
Представителем артистического мира и мира писателей был сам Федотов, представителем музыки и оперы был Комиссаржевский, представителем художников – граф Соллогуб. Кроме того, к нашему Обществу примкнул издатель возникавшего в то время литературно-художественного журнала «Артист»,[77 - Куманин Федор Александрович – издатель журнала «Артист» (первый номер вышел в сентябре 1889 года). В спектаклях Общества искусства и литературы играл под псевдонимом Карелин.] имевшего впоследствии большой успех. Основатели этого журнала воспользовались возникающим Обществом, чтобы популяризировать свое начинание. По мере все возрастающих мечтаний, было решено открыть и драматическую, и оперную школу.[78 - Цели и задачи Московского Общества искусства и литературы были сформулированы следующим образом: «Московское Общество искусства и литературы имеет целью способствовать распространению познаний среди своих членов в области искусства и литературы, содействовать развитию изящных вкусов, а также давать возможность проявлению и способствовать развитию сценических, музыкальных, литературных и художественных талантов. С этой целью Общество содержит, с надлежащего разрешения, драматическо-музыкальное училище, но не иначе, как по утверждении правительством особых для оного правил. Кроме того, Общество может устраивать, с соблюдением общеустановленных правил и распоряжений правительства, сценические, музыкальные, литературные, рисовальные и семейные утра и вечера, выставки картин, концерты и спектакли» (см. печатный экземпляр устава Общества. Музей МХАТ). Устав Общества был утвержден министром внутренних дел 7 августа 1888 года, а устав училища при Обществе – министром просвещения 29 сентября того же года.] Как обойтись без них, раз что среди нас были такие известные преподаватели, как Федотов и Комиссаржевский!
Все одобряли наши планы, предсказывали успех, и только граф Соллогуб умерял мою возбужденную фантазию и предостерегал от увлечений.
Артистка Федотова также не раз вызывала меня к себе для того, чтобы по-дружески, как мать, предостеречь от той опасности, которая будто бы мне грозила. Но по свойству моей натуры – упорно, почти тупо стремиться к тому, чем я сильно увлечен, голоса благоразумия не проникали в мое сознание. Пессимизм Федотовой я объяснял ее семейными неладами с мужем, а практическому опыту Соллогуба я просто не верил, так как он слишком был художник.
Как на зло или, напротив, к счастью, в это самое время, совершенно неожиданно для себя, я получил крупную сумму в двадцать пять или тридцать тысяч рублей. Не имея привычки к таким деньгам, я уже считал себя миллионером. Возникавшему Обществу потребовался аванс, чтобы не пропустить подходящего помещения, без которого, как нам тогда казалось, осуществление нашего нового предприятия невозможно. Я дал эти деньги. Потом потребовалось наспех ремонтировать помещение.
И на это нужны были деньги; а так как другого притока пока не было, то снова обратились ко мне. И я, увлеченный делом, конечно, не отказал в просьбе.
Другие электронные книги автора Константин Сергеевич Станиславский
Другие аудиокниги автора Константин Сергеевич Станиславский
Этика




 0
0