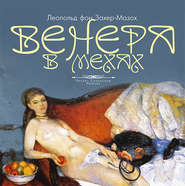По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сочинения
Автор
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сдавайся! – вскричала она. – Шинок окружен моими людьми, они не выпустят тебя отсюда… Ты в ловушке!
– Я ждала тебя, – ответила сектантка, гордо вскинув голову, – нам надо свести старые счеты. Именем Бога Всемогущего я буду судить тебя и вот этого, – она презрительно указала на Казимира.
– Не оскорбляй имени Божьего, преступница, убийца, кровожадная сектантка!
– Бог решит, которая из нас должна умереть.
– Я согласна, – сказала Анюта, – обе мы стоим перед лицом праведного судии, Его святая воля.
Самодовольная улыбка озарила гордое лицо душегубки, между тем как Анюта мысленно читала молитву. Соперницы стояли одна против другой, и обе одновременно подняли пистолеты. Разом грянули два выстрела, и Эмма, залитая кровью, опрокинулась навзничь.
– Умерла? – дрожащим голосом спросила Анюта.
– Суд Божий… – пролепетал Тарас, наклоняясь к безжизненному телу сектантки.
Анюта упала на колени и со слезами простерла руки к небу. Потом она выхватила из-за пояса кинжал, перерезала веревки, которыми был связан Ядевский, и, рыдая, бросилась к нему на шею.
В ту же самую минуту в комнату ворвалась Дарья.
– Голубчик мой ненаглядный! – воскликнула она. – Тебя спас Господь Бог и вот этот ангел!
Запряженные сани стояли уже у крыльца, и два часа спустя Казимир привез свою возлюбленную в дом ее родителей. Обливаясь радостными слезами, старики прижали к груди своих детей, призывая на них благословение Божие.
В Малой Казинке, на том месте, где стоял шинок, воздвигнута часовня во имя Пресвятой Богородицы. Там ежегодно молодые Ядевские присутствуют на панихиде за упокоение души безвременно погибшей Эммы и благодарят Бога, спасшего их жизнь таким чудесным образом.
Пинчев и Минчев
Из окон отрепанного, довольно таки неопрятного, дома купца Маркуса Иоллеса, неслись беспорядочные взвизгиванья и завыванья, неслись и терялись в царившей вокруг вечерней тишине, воздух которой до степени снотворности был пропитан ароматом роз и кустов малины. В этих взвизгах, в этих завываниях трудно было бы отличить звуки инструментов и человеческих голосов – до такой степени вместе взятые они являли собою невозможный хаос в роде того, который слышится на какой нибудь галицийской ярмарочной площади.
Две скрипки визжали так пронзительно и бестолково, словно то были бедняк-еврей, и еще того более бедняк-мужиченко, спорящие и торгующиеся из-за пары старых башмаков с ожесточением доброго и злаго духа препирающихся из-за какой-нибудь грешной души; беспорядочные звуки эти неслись как бричка по галицийской дороге, то влезая вверх, то падая в глубокую яму. Вместе со скрипками, словно старик ворчун полицейский, хрипло ворчал контрабас и раздавались жалобные, плачущие звуки цимбал и расстроенной флейты – последняя пара, напоминая собою крестьянскую девушку, убаюкивающую грустной песней расплаковшегося ребенка.
В большой комнате, низкой до такой степени, что казалось потолок её опирается на головы присутствующих, танцевали длиннобородые мужчины, облеченные в длиннополые кафтаны и женщины, щеголяющие своими, украшенными жемчугом, головными перевязями и меховыми коцавейками; танцы эти шли так: кафтаны танцевали с кафтанами, а коцавейки с коцавейками. Всё это вместе взятое – еврейская сватьба. Невеста сидит на каком то подобии трона и грызет печенье, принадлежащее по-видимому к разряду окаменелостей, жених же, в своем шелковом таларе, и собольей шапочке, стоит наружи, близ дома, увлеченный в горячий спор с другим мужчиной, одетым в лиловый кафтан. Играет ли в этом споре роль какой нибудь вопрос чести, договариваются ли спорящие насчет какой нибудь торговой сделки – в первую минуту понять не возможно: один из них так суетится, так волнуется и кричит так неистово, словно ему предстоит довести свои слова до сведения не одного собеседника а целого многолюдного собрания. О чем же спорят они?
Вопросы Талмуда служат предметом состязания.
Дело состоит в следующем. Жених, по имени Пинчев, только что прочел гостям, там, в комнате, прекрасную лекцию по вопросам Талмуда; гости, вполне удовлетворенные и лекцией и медом, который они попивали, молча выслушали всё сказанное, но между ними нашелся один, именно Минчев, начавший возражать; он утверждал, что ни в Талмуде, ни в Торе[1 - Тора – еврейская священная история матерьял, обработанный христианским учением в Библию], словом нигде не предписаны евреям публичные совершения молитвы, в школах же таковые введены в употребление только раввинами позднейших поколений, а потому и нет надобности, чтобы всякий благочестивый еврей предавался молитве в публичных, и еще не для этой цели устроенных, помещениях. Из этого возник спор; Пинчев и Минчев спорили по началу за столом, потом перешли спорить в танцевальный зал, наконец переселились на улицу, чтоб здесь на вольном воздухе продолжать свой учено-религиозный диспут.
Пинчев, длинная, тощая фигура, с физиономией усеянной веснушками на подобие пестрого яйца куропатки, с носом в виде крохотной губки приклеенной над губами, с бледно голубыми глазами, которые постоянно щурились как будто они однажды на всегда подверглись действию слишком яркого света, спорил так, как спорить человек горячего темперамента; очевидно в груди Пинчева таилось так много неугасимого огня, как много сверкало его с ярко рыжей головы Талмудиста и с узеньких рыжих полосок, на подобие пламенных языков охватывавших его подбородок. Он был не более как женский портной, но говорил он внятно, победительно, как генерал привыкший командовать солдатами и потому не терпящий возражений. При первом же возражении он входил в такой азарт, что казалось готов был растерзать своего противника – на самом деле Пинчев не был способен обидеть муху – и слова слетами с его уст целым пчелиным роем.
Минчев представлял собою совершенную противоположность Пинчеву. Он редко говорил с людьми, не имея к тому случая, так как большую часть времени проводил в лошадином обществе – он был, пользовавшийся популярностью, хороший извозчик; правда он вступал иногда в краткие беседы, с лошадьми но те обыкновенно в ответ на его речь либо встряхивали ушами, либо помахивали хвостами, в самом крайнем случае ржали сколь возможно дружелюбнее. В результате Минчев привык относиться к человеческому слову как скупец к золоту; слово было в его глазах драгоценностью и выпускал он его из уст с осторожностью лишь по зрелом обсуждении. Во всём остальном Минчев также контрастировал с Пинчевым; в разговоре он не суетился; руками и ногами он говорил еще меньше чем ртом; в сущности больше всего, и чаще остальных органов говорили его глаза, сидевшие на темном, загорелом как лакированная кожа лице, по обе стороны огромного носа, снабженного наподобие турецкого седла выдающейся горбиной; глаза эти, большие, черные, то совсем открытые с выражением задумчивости, то насмешливо прищуренные, то печальные, и как бы сожалеющие того, с кем они ссорили, производили впечатление чего то идущего от сердца, и в особенности если они смеялись, что случалось довольно часто. Движение Минчев практиковал среди спора только одно: от поры до времени он гладил рукою свои черные волосы спереди назад. Не было в нём и довольно обычного евреям выражения некоторой робости и услужливости; напротив: оп выглядывал человеком гордым, но только проявление этой гордости лежало не в признании себя лучше других, а просто крылось в том, как держалась вся фигура Минчева, фигура приземистая, сильная, имеющая в себе что то солдатское, хотя он никогда в жизни не таскал за спиной солдатского ранца а в огнестрельному оружию питал общую всем евреям антипатию.
И вот Пинчев с Минчевым диспутировали по вопросам Талмудического свойства; правильнее будет, если мы скажем, что спорил, диспутировал, наскакивая на своего противника только Пинчев, Минчев же так сказать наступал пяткою на горящие угли, отчего от них всё вновь и вновь поднималось пламя. Из комнат кто то вышел, посмотрел на спорящих, покачал головою в недоумении и, видя, что диспут еще не кончен, снова возвратился в дом. Диспутанты даже и не заметили этого.
– Разве ты знаешь Талмуд? – неистово кричал Пинчев. – Ведь ты не знаешь его! Я так думаю, что не знаешь, и что мне совсем не пристало спорить с таким как ты неучем. Если я и говорю с тобой, так потому только, что мне хочется просветить твою зачерствелую душу. Талмуд гласит, что молитва есть наша священная обязанность! Талмуд доказывает это в трактате Фаарит [2 - один из отделов еврейского вероучения], доказывает ссылаясь на Моисея… 2-ая книга, 23, 25… Там сказано: «во веки должны вы служить Господу». И еще сказано у Моисея же (книга 5-ая, 11, 3.): «сему,» то есть Иегове, с должны служить вы от всего сердца». Спрашивается теперь: как же должны: мы, Евреи, служить нашему Господу? Ответ молитвою! Значит молитва, как богослужение установлено самим Моисеем.
Минчев улыбнулся глазами.
– Мы говорим вовсе не о молитве вообще, о молитве в школе. Ну, да это всё равно! отвечу на вопрос, как ты возбудил его сейчас. Моисей вовсе не устанавливал молитвы.
– Не устанавливал молитвы? – И Пинчев, подняв к верху руки, сделал прыжок достойный козла приведенного в ярость.
– И вообще молитва не есть служение Господу! – закончил спокойным голосом Минчев.
– Не есть служение Господу?
– Нет! – И Минчев улыбнулся. – И даже было бы нелепостью понимать молитву как служение Господу. Всякое служение, служба, есть нечто такое, что исполняет один за другого; служить значит делать то, что должен бы делать другой, но что этот другой препоручает за себя исполнять или потому, что он не может, или потому, что не хочет этого. Ведь так?
Пинчев молча кивнул головой.
– Значит если считать молитву службой Иегове, то выходит по-твоему, что Иегова должен был бы сам молиться, но это поручено нам Евреям, которые и исполняют эту обязанность за другого, исполняют так, как этот другой не может, или не хочет, молиться. Разве ж это не вздор?
– Вздор? – занеистовствовал Пинчев. – Так что же по твоему: И Талмуд вздор? И Тора тоже вздор? Не осел ли ты после этого?
В эту минуту из двери дома высунулась голова и жиденький голос на подобие овечьего блеяния пропел следующую строфу:
«Скорей бы хотел я за плугом ходить,
«Скорей согласился бы нищим я быть,
«Чем спорить о деле у самых окон!
«Кто ж дело таскает на улицу вон?
Довольный этой игривой импровизацией поющий скрылся обратно в дом, но спорящие не обратили на него ни малейшего внимания.
– А кто же сказал тебе, что Иегова не молится? – торжествующим голосом спросил своего собеседника Пинчев.
– Кому же он будет молится? – сыронизировал Минчев. – Значит себе самому?
– Конечно, он молится самому себе!
– Докажи-ка мне это Пинчев.
– Нет ничего легче.
– Ну однако?
– Знаешь ты Талмуд? – торжественно начал Пинчев, заложив за пояс большие пальцы обеих рук, и похлопывая остальными по животу при всяком знаке препинания всей последующей речи. – Ты его конечно не знаешь! А Талмуд между прочим и гласит именно, что Иегова молится; гласит это и это до-ка-зы-ва-ет!
Минчев иронически улыбнулся.
– Талмуд доказывает, это в трактате Берахол… [3 - один из отделов еврейского вероучения] Ты я думаю даже и не слышал о существовании такого трактата милейший мой Минчев!.. Так вот в этом именно трактате доказывается, что Иегова молится; доказывается на основании пророка Исайи. Там сказано (Исайя 55. 7.): «и приведи их на мою священную гору и да возрадуются онив моем молитвенном доме».
– Что ж из этого следует?
– Понимаешь ты? Сказано: в моем молитвенном доме! Не сказано же напр. в вашем, или в ихнеммолитвенном доме.
– Опять вздор! Моймолитвенный дом обозначает помещение, устроенное людьми для чествования Иеговы.
Но Пинчев был не из легко сдающихся диспутантов, а потому он заорал над ухом Минчева так, словно он взывал на помощь, стоя у окна, внутри дома объятого пламенем: