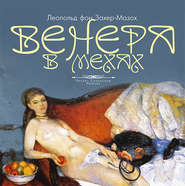По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сочинения
Автор
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Делать нечего! Пришлось заворотить лошадей к шинку и остановиться; разумеется при этом Минчев не приминул так ловко въехать в грязную лужу, черневшую словно морская пучина, что покоившиеся в ней утки Блаувейса с криком заторопились бежать во все стороны, спасаясь от неминуемой погибели, а юный франт, сидевший в экипаже, одетый по последней парижской моде, подвитой, напомаженный и раздушенный, получил себе хорошую порцию грязных брызг. Едва поссажир выпрыгнул из брички как Минчев сделался но обыкновению глух и нем.
Таким образом он казалось не слышал как польский фертик напевал Эстерке всякие комплименты, как он сравнивал ее с той еврейской Венерой, что оковала цепями любви польского короля Казимира; он не видел как юный ухаживатель шутя обнял Эстерку за талию и когда девушка ловко выскользнула из его рук, шутя же поцеловал ее в затылок. Задумчиво сидел Минчев на козлах и как будто наблюдал, как в небе плыли. легкие облака и как загорались их окраины розоватым светом под лучами заходившего солнца.
Случай привел его на следующее утро с одним евреем хлебным торговцем к шинку. Торговец и Блаувейс имели обтолковать какую то торговую сделку.
Минчев отлично знал, что два такие тонкие спекулянта как его пассажир и Блаувейс не могут скоро покончить дело между собой, а потому он слез с козел и задал лошадям корм. Мигом выскочила из шинка Эстерка и дружески поздоровалась с Минчевым; он же как будто и не видал ее; он даже смотрел не на нее, а как будто сквозь нее, смотрел, словно она была стеклянным стаканом, да еще и стаканом то мутным – так подозрительно и недовольно прищурил Минчев свои глаза.
Эстерка засмейлась, схватила два ведра, живо сбегала к колодцу и принесла воду лошадям Минчева.
– Ну теперь быть может господин Минчев доволен мною? – шутливо спросила она. Минчев молчал.
Она посмотрела с одной стороны в его сумрачное лицо – он отвернулся в другую сторону; она обошла вокруг него и посмотрела с другой стороны – он опять отвернулся.
– Что с вами? Обидела я вас чем нибудь? – удивленно спросила девушка, вперив в Минчева добрый, открытый взгляд своих прекрасных глаз.
Приходилось отвечать, так как вопрос был поставлен категорически. Минчев и ответил довольно категорически.
– Может быть вы находите, что прилично честной еврейской девушки позволять такому польскому пурецу [6 - презрительное выражение, нечто более обидное чем русские выражения ферт, хлыщ, и пр.], творить над собой подобные шутки.
Эстерка, стоявшая в эту минуту у самого входа в дом, где на дубовых косяках входной двери были прибиты гвоздями пожелтевшие от времени листки с надписями из Талмуда, опустила глазки, и видимо искренно сконфузилась.
– Что же вы не отвечаете мне? – Допрашивал между тем Минчев. – Ведь ходит же у вас во рту язык справа налево, словно маятник, когда этого пе нужно.
– Вы правы Минчев! – тихо проговорила девушка. – Побраните меня как следует.
Но он ее не побранил еще; он только молча посмотрел на нее и в этом взгляде было так много упрека и вместе с тем так много любви. Да! Он любил Эстерку, и она в один миг поняла это и поняла всё его поведение по отношении к ней. Она покраснела и не могла взглянуть ему в лицо, как не могла решиться стронуться с места.
Когда хлебный торговец, покончив дело с Блаувейсом, вышел из шинка и Минчеву пришлось лезть на козлы, Эстерка бросила на него быстрый, робкий взгляд, Минчев же ответил ей самым дружеским поклоном, таким поклоном и такой улыбкой, каких Эстерка ни разу еще не получала от него за всё время их знакомства.
С тех пор Минчев начал чаще и чаще появляться в шинке; он попадал к шинку не только без пассажиров, но даже и без лошадей, без кнута, словом отнюдь не по обязанностям возницы, а лично сам для себя; сидя в общей комнате он обыкновенно следовал взглядом за всеми движениями Эстерки. Раз, что приходил в шинок Минчев, надобилось конечно, приходить туда и Пинчеву; естественно но этому, что и он приходил тоже. Пинчев и Минчев принимались за свои бесконечные споры но вопросам возбуждаемым Талмудом, а Эстерка обыкновенно старалась всякую свободную минуту сидеть возле них, сидеть и с самым искренним любопытством и уважением выслушивать всё, что говорил Минчев. Раз случилось, что купец Маркус Йоллес явился к Блаувейсу и явился за советом; при этом оказалось, что вопрос был из числа таких, в которых Блаувейс и сам мог ориентироваться не более своего гостя; как ни тянул виноторговец свою длинную бороду, как ни щипал ее, но никакого совета Йоллесу дать он всё-таки не мог. Пинчев, как раз находившийся на этот раз в шинке, вступил в разговор – дело касалось его конька, т. е. Талмуда.
– Все великие Талмудисты – начал он, – даже Маймонид и Яков Бен-Ашер разрешают вкушать во время праздника пасхи от стручковых плодов, как-то горох, бобы, чечевицу и сверх того разрешают пшено и рис; ученые эти даже говорят, что евреи, не вкушающие таковых произведений земли в пасхальное время, поступают не разумно. И действительно, только среди польских евреев стручковые плоды не потребляются во время пасхи, остальные же наши единоверцы вкушают их с спокойной совестью.
– Но как же так? Ведь в книге Иосифа значится, что стручковые плоды не разрешаются! – возразил Маркус Йоллес.
– Извините! – не согласился Пинчев. – Во-первых, говорится об этих плодах не в книге Иосифа, а в примечаниях раввина Моисея к этой книге и, во-вторых, говорится не то, что вы только, что сказали, а вот что: «многие люди и считают воспрещенными стручковые плоды на время праздника пасхи». Спрашивается теперь: кто же эти «многие люди?» «Глупцы!» отвечают Талмудисты и отвечают основательно. В книге Моисея (3. 12, 14.) сказано: «в вечер четырнадцатого дня первого месяца должны вы вкушать пресный хлеб». В Мошне (трактат Пессохим) значится: «из следующих родов хлебных растений может быть изготовляем пресный хлеб»; при этом перечислены там: ячмень, овес, полба, и др. Талмуд же задает такой вопрос: «может ли быть доказано, что только из ячменя, овса и полбы, а напр., отнюдь не из риса может быть изготовлен пресный хлеб?» Рис-Лакиш и дает ответ; Моисей (5. 16. 3.) говорит: «при пасхальном агнце должен ты не вкушать кислого хлеба и все семь дней потреблять лишь пресный хлеб, что понимать надо как хлеб, изготовленный из такого хлебного растения, вещество коего дает возможность изготовления из него пресного, непоквашиваемого, хлеба». Далее значится, что рис и полба принадлежат к числу таких хлебных растений, зерна которых будучи измолоты и обращены в тесто имеют кисловатый вкус, по не лишен способности настоящего брожения и обычного для хлеба квашения. Следовательно, Талмуд признает, что из риса можно изготовлять не квашеный хлеб, а значит, что и нет ничего запрещенного в потреблении риса во время праздника пасхи.
Маркус Йоллес склонил голову в знак согласия и вышел с Блаувейсом в другую комнату. Что они там говорили, осталось неизвестным, но последствия разговора были таковы: два дня спустя самый популярный из местных сватов Финкель Шмольлебен явился к Пинчеву и вслед за тем весь еврейский мирок от Черновица до Лемберга узнал о том, что Пинчеву привалило счастье; новость была действительно из поразительных: богатый купец Маркус Йоллес выдавал замуж свою дочку Рахиль за Пинчева.
Надо впрочем сказать, что «привалившее счастье», как и всякое другое человеческое счастье, было не лишено темных сторон; дело в том, что сам-то объект счастья, сама Рахиль, была не более, как нечто, напоминающее разбитую и плохо склеенную куклу, довольно ничтожная фигурка с маленьким зеленовато-бледным лицом, покрытым изобильными веснушками и украшенным глазами с вечно красными, воспаленными глазными веками. Конечно, Рахиль, такая, какой она была, являлась довольно горьким орехом, но за то орех этот был густо позолочен, в роде всем известных орехов святочной елки.
Само собою разумеется, что Пинчев был очень доволен сложившимися обстоятельствами. Бывает же доволен своей судьбой какой нибудь юный франтик из среднего сословия, когда судьба эта пошлет ему в супруги сороколетнюю графиню со вставными зубами и общим видом ободранной кошки! В данном же случае положение было еще завиднее: Пинчев сразу становился вполне состоятельным человеком, человеком, которому все завидовали, которому все охотно кланялись с полным унижением, свадьбу которого праздновали так торжественно, что хоть бы кому.
На следующий день после свадебного пирования Минчев зашел в шинок Блаувейса, зашел, не питая особенной надежды на возможность увидеться в этот раз с Эстеркой и полюбоваться её развевающимися косами, дружелюбными, ласковыми глазками, маленькой ножкой обутой в красные туфли.
Сам Блаувейс творил в эту минуту свою утреннюю молитву, почему и пребывал за печкой; однако он всё-таки улучил возможность кинуть взгляд на вошедшего Минчева. Затем, окончив молитву и освободившись от молитвенного ремня, вышел он из-за печки и с видом милостивого султана, понимающего цену каждого своего слова обратился к Минчеву.
– Минчев, вы – великий ум! – изрек он.
– Не слишком ли много будет чести? – усомнился скромный Минчев, поднявшись с улыбкою с лавки на встречу хозяину.
– Да! вы – великий ум! Вы совершенно, в пух и в прах разнесли в эту ночь Йоллесова зятя. Вы сдунули все его доводы, как перышки.
И Блаувейс в подтверждение дунул в пространство, как бы желая изобразить, как Минчев сдувал перья Пинчевских доводов. Минчев опять улыбнулся.
– Вы – свет Талмуда! – продолжал Блаувейс. – И я, я сам… Я буду за честь считать, если вы сделаетесь моим зятем.
Тут уж Минчеву было не до улыбок; он напротив того покраснел до ушей, сердце же его, обыкновенно столь покойное, сразу забило тревогу. Как раз в это мгновенье вошла в комнату Эстерка.
– Вот и сама девушка! Она должна сделаться вашей женой, – безапелляционно решил Блаувейс.
Эстерка тоже вспыхнула, как маков цвет; в недоумении глядела она на Минчева, пока тот совершенно растерянно смотрел на нее.
– Что ж ты довольна? – спросил Блаувейс, обращаясь к дочери.
– Я? Да, довольна! – отвечала та, опустив глазки в землю. – Но доволен ли господин Минчев?
– Чего же бы он был недоволен, порешил за Минчева Блаувейс, – беря тебя и получая в придачу 10,000 гульденов всё в чистых, хороших дукатах.
Так и был порешен вопрос о браке Минчева с Эстеркой; дело обошлось без обычного в подобных случаях свата, без всяких дипломатических подходцев, словом, совсем во вкусе Блаувейса, который, чувствуя себя султаном, не прочь был иногда от издания высочайших повелений в своем государстве.
Свадьба Минчева была отпразднована с неменьшею торжественностью, чем бракосочетание Пинчева с Рахилью Йоллес. Конечно, Блаувейс мог бы легко даже превзойти Йоллеса по части свадебного пирования – он был богаче последнего – но, не желая сам оставаться в тени, он в тоже время не желал унижать и Йоллеса, придавив его своим богатством. В одном только отношении – и это уж помимо воли Блаувейса – свадьба Минчева отличалась от Пинчевской: Минчев не предпринял подобно Пинчеву на всю свадебную ночь диспут по вопросам Талмуда; напротив того, он даже тщательно избегал заводить речь о Талмуде и старался всё время находиться близ своей молоденькой жены.
Пинчев и Минчев были до сего времени, как известно читателю, трудолюбивые люди, люди, усердно работающие из-за куска хлеба; всякий мог брать пример с них по части того, что значит быть работящим человеком. Теперь же, запасшись богатыми женами, они очень изменились. Конечно, они не сделались ни пьяницами, ни шалопаями, ни дон-жуанами – между польскими евреями дон-жуаны так же редки как и Меламены – оба они даже продолжали заниматься каждый своим ремеслом, но только совсем не так, как прежде. Жизнь их была более, чем обеспечена и потому с каждым месяцем всё более и более покидали они и свои занятия, и даже своих жен, словом, покидали всё, что угодно из-за Талмуда. Некоторым образом они заплутались в том прекрасном саду, из которого, но выражению Талмуда же, из четверых гулявших в нём, счастливо вышел один раввин Акиба.
Они спорили, и спорили во всяком месте, во всякое время, спорили, не чувствуя утомления, ни разу не дав остынуть вечному жару, воодушевлявшему их. По началу жены их относились к ним с удивлением, смешанным с благовением, а затем чувства эти сменились сожалением, а под конец дело дошло и до упреков. Но ничто не помогло! Если Рахиль начинала упрекать и плакать, то Пинчев направлялся к заднему крыльцу и оттуда устремлялся со скоростью степной лошади, за которой гонятся волки, к деревне, где жил Минчев; если обиженная Эстерка, покраснев от обиды и сделавшись от того еще более хорошенькой женщиной, начинала наступать на своего мужа, то Минчев быстро выходил вон, вскакивал на лошадь и быстро мчался в городок, туда, где красовалась расписная вывеска над магазином Пинчева.
Если Минчеву случалось ехать в город с каким нибудь помещиком-пассажиром, который желал отдохнуть в гостинице Белого Орла, то прежде столь аккуратный, столь усердный Минчев, не давал теперь себе труда даже распреч лошадей; поручив и экипаж, и лошадей, гостинному дворнику, бежал он к Пинчеву, который обыкновенно сидел на каменной скамейке у своего дома, шил какое нибудь платье; едва завидя Минчева, Пинчев начинал чуть не дрожать от волнения; дыхание спиралось в его груди.
Когда помещику-пассажиру требовалось выехать домой, оказывалось, что бричка стоит у ворот, но лошади не только не были запряжены, но даже они еще и не выведены из конюшни. Польский пан начинал злобно дымить своей трубкой, пуская из неё целые облаки синеватого дыма и ругаться от нетерпения.
– Пёсья кровь! Куда девался этот жид проклятый? – кричал он.
– Иду, иду! – слышался голос Минчева, который вел лошадей и в тоже время продолжал свою беседу с шедшим за ним Пинчевым. – Мы должны слушать, терпеть и молчать.
– Где же это написано? – с азартом приставал Пинчев. – Я не знаю, где это можно вычитать!
– Ты не знаешь Пинчевле, да я-то знаю!
– Проклятый раскисляй! – кричал между тем помещик. – Что же ты не запрягаешь?
– Я и то запрягаю! – успокаивал его Минчев, начиная действительно запрягать, и потягивать, и закреплять разные ремешки. Пинчев всё время продолжал вертеться около него. Схватив Минчева за рукав, он приставал:
– Где же это написано Минчев?
– Что?
– Что мы должны слушать, молчать и терпеть?