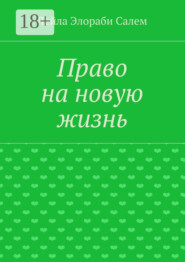По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Владек Шейбал
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рано утром немцы подняли пленников, поставили всех в ряд. По громкоговорителю на польском объявили, чтобы все мастера ручного труда: плотники, маляры, слесари, каменщики, резчики и другие сделали шаг вперед. Владислав наклонился к уху Стаса, спросил:
– А если я скажу, что являюсь фотографом…
Но тот резко перебил:
– Не смей никому проговориться, что ты художник или фотограф. Таких немцы убивают первыми. Им нужны чернорабочие, а не такие как мы.
Из толпы вышло около ста человек. Немцы распределили их по грузовикам, направив на заводы и фабрики, остальных же усадили в кузовы грязных тяжелых машин – так возят дрова или навоз, и повезли дальше на север, преодолев мост, а потом по узкой дороге в сосновый лес, росший за дюнами неподалеку от побережья. Осенний ветер приносил запах моря – солоноватый и необычайно приятный.
Глава восьмая
Это был знаменитый Альтварп. Офицеры гестапо окриком заставили пленников вылезать из грузовиков и следовать по направлению густого леса, окруженного длинным высоким забором с колючей проволокой. Озябшие, голодные, с затекшими от долгого сиденья ногами, поляки по очереди подходили к охранникам, которые выдавали им потрепанную серую одежду и порядковый номер. Когда очередь дошла до Владислава, немец, что раздавал номера, поинтересовался:
– Как твое имя?
– Владислав Шейбал.
– Еврей?
– Я родился и вырос в Польше, – ушел он от прямого ответа.
Офицер усмехнулся, проговорил:
– Хороший ответ, но здесь уже не имеет значения, кто ты и откуда. В этом месте ты не человек, у тебя больше нет имени. Здесь ты ОНО и твое имя 441. А ну повтори, собака, как тебя теперь зовут?
– 441 номер, – Владу стоило большой выдержки отвечать спокойно.
– Знай: если ты сдохнешь, тебя закопают под номером 441. Запомни это навсегда. А теперь бери вещи и иди на свое место, животное.
Хотя офицер оскорблял, унижал, но юноша оставался спокойным, ни угрозы, ни то, что его лишили имени более не беспокоило его. Он шел вслед за остальными пленными, оглядываясь по сторонам, запрокидывал голову к небу. Он наслаждался сосновым лесом, шуму прибоя вдалеке и ему хотелось одного: убежать, стать вновь свободным как птица, идти куда хочешь, делать что желаешь. Но отныне нельзя, ему ничего нельзя. У него нет имени, нет фамилии, но есть номер 441 и тяжелая грязная одежда в руках.
Поляков привели в старые покосившиеся бараки, каждому распределили место на койке. Владислав и Стас оказались рядом и то уже, что друг был с ним, давало хоть какое-то успокоение. Воздух в бараке был затхлым, нестерпимо воняло от уборной, немытых тел и тяжелобольных. Владислав сел на койку, переоделся. Руки его тряслись от голода, голова болела. Он взглянул на Стаса, тихо спросил:
– Что с нами будет?
– Скорее всего нас продержат для каких-нибудь работ, а когда все будет исполнено, нас ликвидируют.
– Что?
– Убьют, я так понимаю, – он осмотрелся по сторонам, прошептал, – пока что ни о чем не спрашивай – ни меня, ни остальных, это гиблое место, лагерь уничтожения. Мы все давно обречены, давно.
Вдруг послышались голоса на немецком. Пленники вскочили на ноги, построились в ряд. Гестаповцы принесли им завтрак: чай без сахара, кусочек хлеба с маргарином и маленький кубик мармелада – на весь день. Голодные, уставшие в дальней поездке, поляки накинулись на еду, в один миг все съели. Немцы после завтрака распределили каждого по рабочим местам; приблизившись к Владу, гестаповец приказал: «А ты, парень, следуй за мной». Его сердце ёкнуло, он приготовился к самому худшему, но покорился, безропотно последовал за офицером. Тот привел его в уборную для пленников. Вся комната с дырками в полу была залита, обмазана испражнениями до самих краев, стекавших по полу. Владислав оторопел и отступил назад. Он был готов ко всему: носить кирпичи, рубить деревья, месить цемент, но только не убирать испражнения. Вся его творческая натура взбунтовалась, кровь благородных предков забилась в его жилах. Нет, уж лучше смерть. Он поглядел на немца, в глазах его сквозило не то ли презрение, не то недоумение. Офицер гестапо направил на него дуло пистолета, проговорил:
– Убирай дерьмо, щенок, а не то пристрелю и скормлю овчаркам.
Владислав похолодел от ужаса, от самого вида оружия. Пару секунд назад он готов был бить себя кулаком в грудь, призывая в самом себе дворянские гены бабушек, но ныне, когда дуло оказалось совсем близко, он осознал разницу между жизнью и смертью, и гордость уступила место самосохранению. Взяв большое ведро, Влад принялся чистить уборную. Не имея под рукой лопаты, ему пришлось брать испражнения голыми ладонями и сразу его вырвало, тошнота не проходила до тех пор, покуда желудок совсем не опустел. Наблюдавший за ним немец громко рассмеялся, сказал:
– Теперь ты уберешь не только фекалии, но и содержимое желудка.
Владислав ничего не ответил. Он боялся и ненавидел всех гестаповцев одновременно. Презирая самого себя, он принялся чистить уборную голыми руками, не обращая внимания ни на зловонный запах, ни на усталость. Вечером молодой человек долго тер себя тканью, служившей мочалкой, в ледяной воде. Руки уже онемели, но он продолжал и продолжал тереть их, дабы освободиться от грязи – в душе.
Следующим днем и всю оставшуюся неделю ему приходилось чистить уборные, разгребая заполнившиеся там ямы, а потом таскать ведра с испражнениями к контейнерам для хранения навоза. Как он понял из обрывок разговора немцев: все эти испражнения позже выльют на поля, чтобы весной земля дала обильный урожай. Влад убил в себе презрение к нечистотам и более не ощущал того ужасного-пугающего запаха, но вечером перед сном он все также тер до покраснения тело в холодной воде, остро ощущая, как вся грязь уходит с потоками глубоко в землю.
Глава девятая
Вечерами – долгими, холодными от сырости и ветров, расположившись на соломенных койках, пленные поляки слушали чтение одного из них, кто хитростью смог спрятать-припрятать маленькую книжицу с поэзией, и именно то – далекое-прекрасное, не поддающееся описанию чувство теплило надежды в них и поддерживало жизнь в их телах. Уставшие, голодные, в грязных изорванных одеждах, жались пленники друг к другу, поддерживали-подбадривали остальных разговорами. По очереди передавались рассказы о своей прошлой – до войны жизни, предания о родных и близких, таких духовно любимых, судьба с которыми разлучила их. Стас и Владислав немало говорили об искусстве и литературе, а когда Влад поведал, что родился и вырос в богатой богемной среде (о своем армянском происхождении он умолчал), остальные поляки принялись умолять его быть их переводчиком и тайно доносить то, что говорят немцы. Но были и те – в основном среди бедных людей из пригородов и деревень, кто втайне завидовал его молодости, его образованности. Эти люди ненавидели Владислава за его явное превосходство, за его благородные манеры даже здесь, в грязи и холоде. И однажды за поздним ужином, состоявшем из кусочка хлеба и простой воды из-под крана, один поляк вскочил с места, окинул всех покрасневшими от злобы глазами, воскликнул:
– Я не стану есть за одним столом с евреем!
Остальные оставили нехитрую трапезу, в недоумении поглядели на него. Один из них, Ёжи Зайновский, седовласый, с большим шрамом на лице, вопросил:
– О чем ты? О ком ты говоришь?
– Я точно знаю и вы должны знать, что среди нас один не поляк, – он указал пальцем на Владислава, тот так весь и съежился, боясь предательского удара, – вот этот человек! Погляди, всмотрись в его лицо – он не славянин! Нам необходимо как можно скорее избавиться от него. Бейте жида!
Он собрался было нанести удар своим большим кулаком, но рука Стаса перехватила его, повернув в сторону:
– Успокойся и сядь на место, Ян, – ответил тот, будучи меньше и тоньше противника.
– Тебе-то нет разницы, с кем водить дружбу, не так ли, Стас? – с ухмылкой молвил Ян, усевшись на свою койку под пристальным-грозным взглядом остальных. – Дружи и дальше с евреем, коль родные поляки тебе не милы. Как Иуда за тридцать серебренников предался.
– Я желаю, чтобы ты просто закрыл рот. А Влад не еврей, ежели тебе так интересно его происхождение. Он родился и вырос в Польше, и навсегда останется верен ей.
– Как же, – Ян не мог успокоиться, явно уверенный в своей правоте, – в России и татары живут, однако они не являются русскими.
– Влад и не татарин, а Россия, ныне объединенная с другими землями, носить название Советский Союз.
– Думаешь, никто кроме тебя того не знает? Смотрите у меня.
Владислав был благодарен остальным за поддержку, но оставаться в комнате с теми, кто ненавидит его, не мог. Один лишь Ян высказал вслух свое негодование, а сколько тайных недругов сидят в затишье, может быть, готовя какой план? Оставив хлеб на столе, молодой человек вышел на улицу, уселся на дрова. Холодный осенний ветер качал кроны сосен, далеко – в небе ярко блестела луна серебристым сиянием. С ветки сорвался сыч и, взмахнув крыльями, улетел прочь. А так стояла полная тишина. До ушей долетал лишь далекий шум прибоя. Безмолвие ночи умиротворяло, на время успокаивало душу, притупляя нестерпимый голод. Мысли Владислава устремились на восток, в отчий дом. Что сталось с отцом, матерью, Янкой? Жив ли Казимеж? И если они в безопасности, то чувствуют ли, каково ему сейчас? Плачет ли матушка у окна, молится ли за него? Ныне, когда они так нужны, они далеко – по злому року, чужой войне. Сладостная волна грусти и тоски наполнило его душу и рука сама нащупала в кармане написанные матерью молитвы, благословение ее до сих пор сохраняло тепло – тот невидимый ясный свет ее заботливого доброго сердца. В памяти всплыл ее любимый образ, а затем вспомнились обидные слова Яна; и все то перемешалось-скрутилось воедино: плен, немцы, Варшава, родители, каторга, что он более не мог сдерживать слез. В бессилии Влад заплакал, спокойный потому что никто не видит его слабости.
Тихо подошел к нему Стас, уселся подле него, положив свою ладонь на его плечо, силился что-то сказать, но Владислав опередил его:
– Почему… почему меня все так ненавидят? За что? Лишь за мою непохожесть? Это так несправедливо. Мне обидно, больно. В школе смеялись над моей фамилией, дома в семье за то, что я чувствую и вижу невидимое и неслышимое. Отец с детства называл меня шуткой, остальные смеялись над этим кроме меня, я уходил, залезал в самый дальний темный угол, прятался в свой незримый колпак, где чувствовал себя в безопасности, и плакал. Хотя я ни словом, ни делом никогда никого не обижал. Всегда жил с верой и надеждой на Бога, и молитвы мои были спасением.
Стас слушал его, вникал в каждое слово и вдруг заметил, как тугой комок жалости подступил к горлу. Скрывая охватившее его волнение, мужчина сорвал сухую травинку, зажал между зубами. Дабы хоть как-то приободрить друга, он проговорил:
– Я знал твоего отца как прекрасного преподавателя и талантливого художника. Мне он рассказывал столько многое о своей семье, и о тебе тоже.
Влад повернулся к нему лицом, весь напрягся. В его широко раскрытых глазах мерцали слабые отблески ночных фонарей.
– И отец… отец упоминал меня? Меня?!
– Да, Влад, твой отец говорил о том, какой талантливый и неординарный его младший сын и гордость всей семьи. Вот видишь, как сильно тебя любили.
Стас не врал. А молодой человек, потрясенный до глубины души, весь затрясся в рыданиях. В его душе смешались чувства: тоска по родным, благодарность к Стасу, страх за свою жизнь, неопределенность будущего. Теперь, когда он узнал, как отец гордился им, ему стало легче перенести все трудности каторжного плена. Его тоже любят!
Ночью Влад спал плохо. Мучаясь от холода, пустого желудка, жесткой соломы заместо перин, зловоний и запаха немытых тел, юноша то и дело просыпался, глядел в потолок, собираясь с мыслями. Под утро ему удалось уснуть, и во сне привиделась Катаржина – такая, какую он помнил в последний день их встречи. Молодые люди тянулись друг к другу, их пальцы уже было касались, то вдруг навалились немцы – их было не меньше сотни, стали отталкивать его возлюбленную. В неистовой злобе Влад кричал, отталкивал врагов, но их становилось все больше и больше.