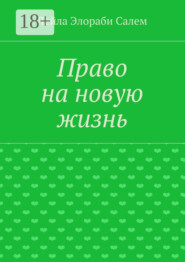По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Златые купола над Русью. Книга 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да благословит тебя Господь, боярин, – Семен Никитич приложил дар к груди, потом спрятал в складках кафтана, но не выказал ни раболепия, ни безумной преданности, за что и был любим воеводой.
Иван Васильевич спустился в горницу – просторную, с высокими расписными потолками. Там уж, переминаясь с ноги на ногу, ожидали его двое молодцев, по исхудалым лицам которых обильно стекал пот. Как увидели воеводу – шапки долой, низкий поклон; любили и уважали Хабар-Симского за доблесть его и редкое справедливое отношение от простого холопа до ближнего советника.
– Разрешаю слово молвить, – проговорил Иван Васильевич, усаживаясь на высокий резной стул.
Из посланцев выступил вперед рослый плечистый юноша, утер веснушчатое лицо шапкой, ответил:
– Худо, боярин. Узнали про то, что к городу движется татарское воинство во главе с самим казанским ханом Мухаммед-Амином. Слишком много у поганцев оружия, да и самих их орда целая.
«Как складно-то говорит», – подумал про себя боярин, вслух сказал:
– Идите домой, отдыхайте, а когда пойдем на басурман, тогда приходите.
Юноша на радостях, что ворочаются домой, даже позабыли о надвигающейся опасности, низко склонились и ушли. За спиной безмолвно стоял Семен Никитич, ожидал приказа.
– Плохи наши дела, не удержим города, – словно не сам, а кто-то иной внутри его самого молвил Хабар-Симский.
– Что делать ныне, боярин?
– Созывай на совет всех, кого сможешь: бояр, служивых, церковников. Вместе станем о защите думать да о том, как живыми остаться. Татары эти не самоеды, что на севере, драться они умеют. Ежели не защитим жён да детей русских, на том свете будем держать ответ пред Богом.
Сказал это и затих; думы его сами собой обратились к тихому родному дому и тому лишь, что так дорого для него. Вспомнил дом свой, где не был с тех самых пор, как пришло известие о назначении его на воеводство Нижнего Новгорода. В сие время словно волна ясного, неизменно-родимого света встал пред мысленным взором терем о трех ярусах с большим подворьем: здесь были и баня, и конюшня, и кузница, и небольшая часовня – маленький городок с шумном граде! Особенно любо сердцу боярскому сталась Алёна, дщерь Демида и Емилии – некое напоминание о дружбе и предательстве. Некогда еще по приказу Ивана Васильевича Хабар-Симский взял на себя попечительство над бедной сиротой. Словно уморяя совесть, давал все необходимое для ее существования, но что такое серебряные монеты по сравнению с человеческой жизнью? Разве не по его вине Алена лишилась единственной поддержки и опоры? Разве не по его вине Емилия наложила на себя руки, лишиив тем самым себя саму вечного покаяния и рая? Тогда владыко не разрешил хоронить несчастную вдову на кладбище, воспретил даже по-христиански водрузить крест на земле, в которую закапали ее словно собаку, сколько бы он, Иван Симский, не молил? И потом, всякий раз, как он встречался со стариками, что опекали Аленушку, давал им мешочек с деньгами, сладостно осознавая, что искупил вину свою, но позже, стоило только выйти за калитку, ощущал внутри – где глубоко в сердце, нетерпимый страх и горечь, будто кто-то живой-невидимый нашептывал слова раскаяния. Минуло время, старики упокоились с миром и тогда решил Иван Хабар-Симский взять тринадцатилетнюю Аленку к себе, якобы заботясь о сирота. Поначалу отроковица жила на подворье боярском вместе с остальными сенными девками да женщинами постарше: стряпухами, прачками, мастерицами. И даже в то время молодой боярин выделял ее из сонмы прислуги – то сладостью какой угостит, то гостинец привезет: ленты для волос, гребешки, бусы. Шипели, злорадствовали бабы в старом гневе, девки по углам перешептывались, с завистью наблюдая, как изо дня в день хорошеет Алёна.
Минуло еще два года и тайны сердца молодого боярина открылысь пред лицом девицы. Покинула она убогое жилище прислуги, поселилась в тереме хозяйском, правда, светелку ей отвели на первом этаже – не замарать честь девичью непорочную. Сам Хабар-Симский подарил ей котенка, чтобы не скучала она днями напролет в его отсутствии, а сам спешил по делам государственным да воинским. По приезду в родные стены все также встречала его Алена, румяная, белокожая, с котиком на руках, а он возьмет ее под локоть, усадит подле себя на скамье, сукном покрытой, и глядит – рассматривает ее молодое нежно-знакомое где-то лицо.
– Как ты похожа на свою мать, – с умилением, на которое был способен, молвил боярин.
Девица ничего не отвечала, лишь потупляла взор и плотнее прижимала к себе кота Мурлыку, боялась заплакать. А Иван Хабар-Симский гладил ее по руке, по щекам, с упоительным чувством ощущая хлынувшее вдруг желание.
Постепенно, минуя седмицы и месяца, рухнула между ними глухая каменная стена, разделяющая столь различных людей – сына думного боярина и дочь обычного ратника. Алена сама, того не замечая, прильнула к молодому Хабар-Симскому, жаркими чувствами одарила его холодно-каменное, слишком повзрослевшее лицо. С пылающим жаром боярин брал ее на руки и относил к себе в почивальню, с нежностью расплетал белокурую девичью косу. И с тех пор они перестали быть друг для друга господином и сиротой, невероятная дружба скрепляла их сердца, и не было в том ничего зазорного, ведь кто мог осудить их?
По завету отца и долгу государевому оженили Ивана с Евдокией Владимировной Ховриной, сестрой главного государева казначея Дмитрия Владимировича Ховрина, дочерью Владимира Григорьевича Ховрина. Супруга была не столь красивая, сколь разумная и грамоте обученная. Он не любил ее, но по обычаю старины – а Симские все держались православной традиции, относился так, как требовала вера. Часто в мыслях сравнивал двух женщин и тут же находил ответ: с Алёнушкой мило было в покое, под пологом домашней тишины, нежным касанием ласкать ее ланиты, без участия слушая глупую простую болтовню. Иное дело Евдокия Владимировна – жесткая, статная, черты благородные острые, она окружила себя лучшими мастерицами, что готовили для нее наряды, самолично шила супругу кафтаны да рубахи с завидной ловкостью тонких перстов, а вечерами громко нараспев читала неграмотным женщинам притчи из Евангелия да изыскания святых отцов. С Иваном держалась осторожно, знала, когда молвить, а когда промолчать, без усилия могла поддержать любой разговор, оставаясь при этом как бы в тени женского покрова. Хабару-Симскому было любо коротать с ней вечера перед сном, забывался он и о службе, и о некогда отчужденности между ними. Минул год и Евдокия понесла первенца – отраду для боярина, названного в честь деда Василием, как было тогда заведено в высших кругах, а через немногое время подарила еще одного сына – Ивана. Полюбилась тогда супруга, если не как ворожея-краса, то как сестра и лучший друг. Алена же перешла в постельничие Евдокии – не из-за высоких чувств боярина, а по воле долга и совести – не смел же он – как человек – выставить ту, которая лишилась отца и матери еще в отрочестве.
Теплые, покрытые завесой семейной тайны, воспоминания были прерваны стуком в дверь. Один из прислужников доложил, что прибыли городские бояре, советники и дьяки, ждут в сенях. Медленно, с грустью, вздохнул Иван Васильевич, махнул рукой:
– Пускай входят.
Вошли бояре – дородные, в богато изукрашенных опашнях, застучали о каменный пол кованные каблуки сапог и посохи. Поклонились Хабар-Симскому в ноги, сотворили перед Образом крестное знамя – без того ни одного гостя не усадят за стол хозяев. Горлатные шапки долой – грех трапезничать с покрытой головой, уселись после воеводы за длинный дубовый стол на скамьи. Тут же кравчий разлил всем вина в кубки, расставил перед каждым блюдо с жареным поросенком. Иван Васильевич приказал накрыть неспроста – задобрить хотел бояр, получив тем самым поддержку от них, явно осознавал, что ныне не мог ручаться за победу: государь все равно не поспеет с подмогой, а задержать под стенами татар был долг его перед Москвой.
– Собрал я вас, великие мужи города, для дел государственных важных. Движется на земли наши полчища казанцев во главе с самим ханом. Что делать будем: укреплять стены, выйти и дать супостатам боя либо заключить мир? – сказал Симский не просто так: пусть бояре подумают, может, чего умного скажут.
Заскрипели скамьи, повис в зале разноголосый гул – как рои пчел загалдели советники, перекрикивали друг друга.
– Смерть нехристям! – раздались голоса.
А Иван Васильевич радовался в глубине души своей – никто из них не замолвился о сдаче либо перемирии, сильна, видать, была ненависть к татарам.
– Мне надобно знать, как поступить ныне, ибо времени не осталось. Дать ли решительный бой в поле аль укрепить городскую стену, стоять на ней до последнего? – боярин надумал уже, как все будет еще до вече, просто хотел услышать правдивость думам своим.
Голос первым подал молодой светлокудрый юноша вопреки обычаям, не стал дожидаться старших, да удалью своей выиграл только!
– Иван Васильевич, да тут и гадать нечего: укреплять со всех сторон град надобно, укрыть под стены его крестьян, что могут стать жертвами неверных. Какой прок в том, ежели мы всеми поляжем в неравном бою? Кто тогда защитит наших жен да детей?
Зашептались старики, злобно оглядывали молодца, что один за всех решил военный вопрос. Где это видано, чтобы безусые молвили слово без дозволения старших?
– Решил один за остальных, сосунок? – шепнул один из новгородских бояр, наклонившись к его уху.
Видел недовольство Хабар-Симский, от гнева чуть кубок не метнул в сторону собравшихся, но вовремя спохватился, сказал:
– Не в добрый час затеяли смуту, бояре, когда враг – грозный, безжалостный, поблизости. Вы злитесь, что не старикам первым дали слово, так кто же в том виноват, ежели вы молчите? – «глупцы вы, в собственной гордыне растерявшие последнюю мудрост», хотел было добавить воевода, но осекся: не время браниться, заместо того обратился к юноше, – эй, молодец, как имя твоё?
Тот в смущении потупил взор, словно вину какую имел за душой, заалели белые щёки. Закусив нижнюю губу на секунду, глубоко вздохнул и ответил:
– Звать-то меня Михаил, по отцу Савельевич.
– Годков-то сколько тебе, Михаил Савельевич?
– Уж за семнадцать перевалило.
– И то хорошо. Ты еще молод, но уже не мальчик, посему будешь моей правой рукой. Только помни: война не то же, что забавы мальчишечьи, тут кровь людскую проливать надобно.
– Мужчина, боярин, для того и рожден, чтобы быть защитником земли своей. Не с женщин же спросит за то Господь на суде.
– Ин ладно. Порешили, – Иван Васильевич стукнул посохом о пол, встал со скамьи. За ним следом поднялись и остальные. Тяжко стало на сердце, горечью залило в душе, боялись они не столько осады и смерти, сколь голода – страшно становилось при мысле о сотнях мертвецов и запахе человеческого мяса.
Вечером того же дня отписался Иван Васильевич в Москву, просил государя посабить ратниками, ежели татары начнут жечь Нижний Новгород, а у самого руки тряслись как при лихорадке: что ждет их, ежели Василий Иванович откажет в помощи?
Не прошло и двух дней, как запылали, покрылись красно-желтыми огненными языками пламени деревни и селения близ города. Крестьяне с повозками, прикрывая от дыма и копоти детей, уходили под защиту Нижнего Новгорода, со слезами на глазах и страхом в груди осматривали соженные дома свои – не врагами, своими. Опасались более татар и ногайцев бояр и ратников, чего станет с них: в кандалы да в рабство басурманское? Кричали бабы, замахивались на стрельцов, а те успокаивали их, вселяли надежду милостью княжеской.
– Полно-де, женщины, оплакивать избы свои. Вот прогоним нехристей, так и построим вам новые дома заместо погорелых. В том Иван Васильевич явился порукой, пред Господом слово дал.
Прекращали тогда крестьянки причитать – обещание Богу сильнее наказа боярского. Укрыл прибывших Нижний Новгород, монастыри да подворья купеческие дали пристанища самым обездоленным: старикам, малым детям, непраздным женам, остальным пришлось довольствоваться тем, чем придется, мужики да юнцы сами попросились в ополчение, благо, Хабар-Симский остро нуждался в мужских руках.
А иго татарское наступало несметными полчищами к русскому городу, на горизонте реяли уже, виднелись невооруженным глазом бунчуки да конница. Прохаживаясь по зубчатой стене в компании с Михаилом Савельевичем, воевода то и дело вопрошал:
– Много их, поганных, удержим ли город?
– Ежели отбиваться станем, удержим.
– А запасы? Сколько мы продержимся: с месяца-два? А голод наступит? Не забывай, здесь схоронились женщины да детки малые, поднимутся крики и вопли, начнется война душевная в самих стенах.
– Не забывай, боярин, про мордву и иные обитающие в здешних краях племенах. Уж они-то в услугу за жизнь покажут все тайные тропы татарам, не станут гибнуть за нас.
– Молодец, Миша, «порадовал» ты меня «доброй вестью», – Иван Васильевич похлопал юношу по плечу своей тяжелой рукой, добавил, – но ты дело говоришь. Покуда время есть, возьми с собой самых ловких из ратников не более трех человек, скачите по лесам, ловите каждого из дикарей, кто бы он ни был и живыми, слышишь меня, живыми доставляйте ко мне!
Михаил дернулся всем телом, изменился в лице. Посматривая на воеводу снизу вверх, впервой остро ощутил в глубине души всю тяжкую участь военного дела: правы были старики – война не то, что детские забавы, тут не знаешь, что хуже: погибнуть на стене под раскаты ядерных снарядов и грохота пушек либо быть зарезанным каким-нибудь мордвином в глуши лесной, что оставит тело русского на съедение зверям. Делать было нечего. Перекрестился молодой ратник, поклялся исполнить волю боярскую, рискуя собственной жизнью ради жизни сотен православных людей. Собрал наспех двоих отчаянных головушек, те только и рады были пойти на столь опасное деяние – все же лучше, чем отсиживаться за стенами, ожидая прихода неприятеля. Той же ночью поймали мордвина, привели на допрос к воеводе. Хабар-Симский сидел ныне не в горнице, а в темной избе неподалеку от темницы не ради себя, а лишь с единственной целью – напугать пленника пытками, дабы развязать ему язык.
Ввели мордвина двое ратников, бросили на каменный пол к ногам боярина. Пленник поднял голову, без страха и злобы – только любопытства ради взглянул на Ивана Васильевича, усмехнулся.