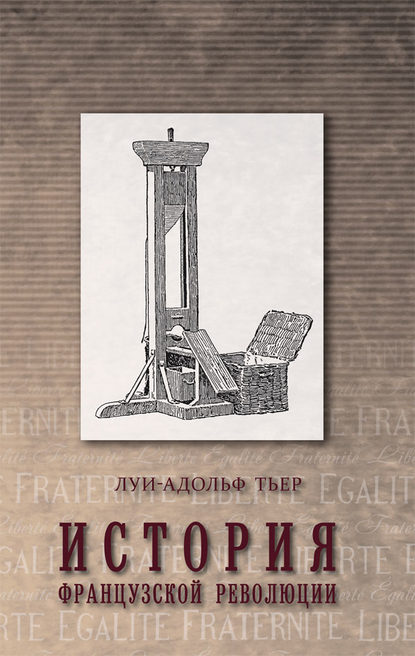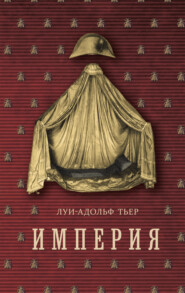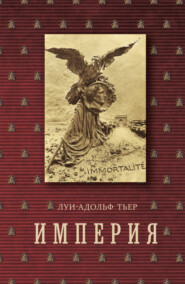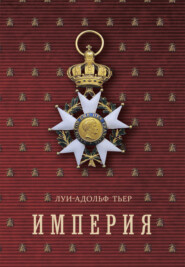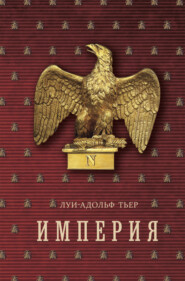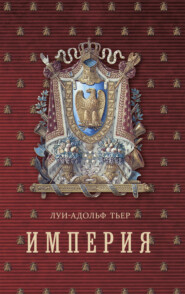По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История Французской революции. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Целью созыва новых Генеральных штатов было преобразование Франции, то есть учреждение конституции, которой, что бы там ни говорили, у Франции не было. Если называть этим именем всякого рода сношения между правительством и управляемыми, то конституция у Франции, пожалуй, была: король приказывал, подданные повиновались; министры произвольно заключали в тюрьму кого вздумается; откупщики отнимали у народа всё до последней крошки; парламенты приговаривали несчастных к колесованию. Такого рода конституциями всегда могли похвалиться самые варварские народы. Имелись также во Франции Генеральные штаты, но без определенной власти и прав, без означенных сроков собраний и всегда без результатов. Была и королевская власть – то бессильная, то всесильная. Имелись судьи или судебные места, которые к судебной власти нередко присоединяли и законодательную; но не было закона, обеспечивавшего ответственность представителей власти, свободу печати, свободу личности, словом, все те гарантии, которые в общественном строе заменяют фикцию естественной свободы.
Потребность в конституции всеми признавалась и всеми ощущалась; она энергически выражалась во всех депутатских полномочиях, которые даже весьма резко высказывались насчет основных начал этой конституции. В них единодушно предписывались монархический образ правления, престолонаследие по мужской линии, исключительное присвоение исполнительной власти королю, ответственность всех представителей власти, сотрудничество короля и нации при создании новых законов, право нации облагать себя податями и личная свобода. Но в полномочиях имелись разногласия по поводу учреждения одной или двух законодательных палат, срока существования, периодичности и роспуска Законодательного собрания, политического значения духовенства и парламентов, свободы печати. Такое множество вопросов, разрешаемых или предлагаемых депутатскими полномочиями, достаточно показывает, как сильно расходились умы во всех частях государства и каким всеобщим и резко обнаружившим себя было во Франции желание свободы. Но основать целую конституцию среди развалин прежнего законодательства, несмотря на сопротивление, при тогдашнем беспорядочном брожении умов – это было великое и трудное дело. Кроме разногласий, которые должна была повлечь за собою различность интересов, следовало еще опасаться естественного несходства во мнениях. Такая задача, как дарование великому народу целого нового законодательства, настолько возбуждает умы, внушает им такие широкие замыслы, такие химерические надежды, что следовало ожидать неопределенных или преувеличенных мер, иногда и враждебных.
Чтобы внести последовательность в предстоящие труды, собрание назначило комитет, которому поручили обозначить размеры этих трудов и распорядиться их распределением. Этот комитет состоял из наиболее умеренных членов собрания. Мунье, умная, хоть и упрямая голова, был самым трудолюбивым и влиятельным членом этого комитета; он-то и подготовил порядок занятий.
Лалли-Толендаль
Трудность сочинить конституцию была не единственной, которую собранию приходилось побеждать. Поставленное между неприязненно настроенным правительством и голодным народом, требовавшим скорейшей помощи, оно вряд ли могло не вмешиваться в работу администрации. Недоверчиво относясь к власти, торопясь помочь народу, собрание должно было, даже вовсе не имея честолюбия, понемногу забираться в области исполнительной власти. Духовенство в этом отношении первое подало пример, когда злокозненно предложило среднему сословию немедленно заняться вопросом о продовольствии. Едва собрание окончательно организовалось, депутаты назначили комитет продовольствия, потребовали у министерства сведений об этом предмете, предложили облегчить провоз съестных припасов из одной провинции в другую и доставлять их административным порядком в те места, где чувствовался в них недостаток, раздавать пособия и занять нужные для этого деньги. Министерство сообщило о принятых им деятельных мерах, одобренных Людовиком, заботливым правителем. Лалли-Толен-даль предложил издать декреты о свободном провозе товаров из провинции в провинцию, на что Мунье возразил, что подобные декреты потребуют королевского утверждения, а так как королевское утверждение не подчиняется никаким правилам, то могут возникнуть большие затруднения. Таким образом, возникли множественные препятствия. Надо было создавать законы при неустановленных законодательных формах, надзирать над администрацией, не захватывая исполнительной власти, над противоположностью интересов, над разногласиями в умах и преодолеть все эти трудности, несмотря на отсутствие доброй воли у власти и требовательность только пробудившегося народа, волновавшегося в громадной столице в нескольких милях от собрания.
От Парижа до Версаля очень недалеко; можно съездить туда и обратно несколько раз в день. Поэтому всякое волнение в Париже немедленно чувствовалось в Версале, при дворе и в собрании. Париж в то время представлял новую, необычайную картину. Выборщики, собравшись в шестидесяти округах, после выборов не желали расходиться, а так и оставались группами, отчасти чтобы давать инструкции своим депутатам, отчасти по той потребности собираться и волноваться, которая существует у всех людей и которая прорывается с тем большей силой, чем дольше была подавлена. Выборщиков постигла та же участь, что и Национальное собрание: по закрытии места, где они собирались, они перешли в другое и наконец добились того, что им открыли ратушу; там они и продолжали собираться, оттуда сносились с депутатами.
Еще не было газет с отчетами о заседаниях Национального собрания, требовалось сходиться, чтобы узнать, что делается. Эти сходки всего чаще происходили в саду Пале-Рояля. Этот великолепный сад, окруженный богатейшими магазинами и принадлежавший дворцу герцога Орлеанского, был скопищем иностранцев, всякого распутного и праздношатающегося народа, а главное – величайших агитаторов. В кофейнях и в самом саду произносились самые смелые речи. Какой-нибудь оратор вдруг станет на стол, соберет вкруг себя толпу, расшевелит ее яростными словами, которые всегда оставались безнаказанными, потому что тут царствовала толпа. Люди, считавшиеся преданными герцогу Орлеанскому, отличались особенно. Богатство герцога, его всем известная расточительность, громадные займы, его честолюбие, хоть и неровное, – всё сложилось так, что он непременно должен был подвергаться нападкам. Не приводя ничьего имени, можно во всяком случае достоверно сказать, что деньги раздавались. Если здравая часть нации горячо жаждала свободы, если неспокойная, страждущая часть народа испытывала потребность что-нибудь делать и чем-нибудь улучшить свою участь, то имелись также подстрекатели, которые не раз натравливали толпу и не раз тайно руководили ее проделками. Впрочем, это влияние нельзя считать одной из причин революции: уж никак не несколькими горстями золота и тайными происками можно поднять нацию в двадцать пять миллионов человек.
Скоро представился случай к беспорядкам. Французская гвардия, отборное войско, назначенное для службы при особе короля, стояла в Париже. Четыре роты поочередно ходили на дежурство в Версаль. Кроме варварской строгости новой дисциплины, гвардия еще имела повод жаловаться на строгость своего нового полковника. Во время событий у дома Ревильона гвардия выказала некоторое озлобление против народа, но после сожалела об этом, и каждый день находясь с парижанами, коротко с ними сошлась. К тому же рядовые и младшие офицеры знали, что перед ними закрыта всякая карьера; их оскорбляло, что молодые офицеры не несли почти никакой службы, являлись только в парадные дни и после смотров даже не шли с полком в казармы. Тут, как и везде, имелось своего рода среднее сословие, которое делало всё дело и не пользовалось никакими льготами. Обнаружилась непокорность, и нескольких солдат посадили в тюрьму Аббатства. Толпа сбежалась в Пале-Рояль и с криками «В Аббатство!» устремилась к тюрьме. Двери были выломаны, а солдаты с триумфом выведены. Произошло это событие 30 июня.
Пока народ караулил в Пале-Рояле, собранию написали письмо, в котором требовали освобождения солдат. Поставленное между народом и правительством, притом не слишком доверяя последнему, так как оно должно было решать в своем же деле, собрание не могло не вступиться и не посягнуть на чужую область вмешательством в полицейские распоряжения. Решение, принятое собранием, было и ловко, и умно: парижанам депутаты выразили свое желание порядка и увещевали не нарушать его, а к королю в то же время послали депутацию, умоляя о милости как о верном средстве водворить мир и согласие. Король, тронутый умеренностью собрания, обещал оказать милость, как только будет восстановлен порядок. Гвардейцев немедленно отвели обратно в тюрьму, из которой они были тотчас же выпущены вследствие королевского помилования.
Всё пока шло хорошо; но дворянство, присоединившись к двум прочим сословиям, уступало неохотно, только вследствие обещания, что это ненадолго. Депутаты от дворянства всё еще ежедневно собирались и протестовали против трудов Национального собрания, но число собиравшихся постепенно убавлялось: 3 июля было 138 человек, 10-го – уже только 93, а 11-го – 80. Однако наиболее упорные стояли на своем и 11 июля планировали протест, который, впрочем, по милости последовавших событий, не состоялся.
Двор, со своей стороны, уступил тоже не без сожаления и не без дальнейших планов. Оправившись от испуга после заседания 23 июня, он затем согласился на объединение всех сословий, чтобы тормозить действия собрания через дворянство и в надежде скоро силой распустить его. Неккера оставили министром только для того, чтобы он прикрывал собою тайно составляемые планы. По некоторому волнению, по некоторой сдержанности, соблюдаемой относительно него, министр догадывался, что устраивается какая-то большая махинация.
Сам король всего не знал, и окружающие несомненно собирались идти далее того, на что он согласился бы. Неккер, который полагал, что вся деятельность государственного человека должна ограничиваться рассуждениями, и у которого только и хватало силы на внушения, делал их без пользы. Он объединился с Мунье, Лалли-Толендалем и Клермон-Тоннером, и все вместе они мечтали об учреждении английской конституции. В это время двор занимался какими-то секретными приготовлениями, и когда депутаты-дворяне хотели опять удалиться, их удержали, подавая надежды на какое-то близкое событие.
Приближались войска; общее начальство над ними было поручено маршалу Брольи, а барона Безенваля сделали начальником войск, окружавших Париж.
Пятнадцать полков, по большей части иностранных, стояли в окрестностях столицы. Народные депутаты, хотя и не знали всех подробностей плана, который в целости не был известен даже королю, ясно видели, однако, что они могут подвергнуться насилию, и поэтому были раздражены и придумывали средства к сопротивлению. Неизвестно, и навсегда останется неизвестным, какими тайными средствами было устроено восстание 14 июля, но не в том дело. Аристократия же устраивала заговоры – отчего было не организовать один и народной партии? При тех же средствах правота дела остается всё же на одной стороне – и уж никак не на той, которая хотела отступиться от совершенного уже объединения трех сословий, распустить национальное представительство и наказать самых мужественных депутатов.
Мирабо пришел к заключению, что самое лучшее средство укротить двор – это принудить его публично обсуждать принимаемые им меры. Для этого следовало открыто изобличить его. Если б двор замялся с ответом, если бы стал уклоняться от вопросов – этого было бы довольно, и нация была бы предупреждена.
Мирабо предложил прервать заседания на время и просить короля отослать войска. В свои слова он примешал к совершенному почтению в отношении монарха строжайшее порицание правительства. Он заявил, что каждый день приближаются новые войска; что все проходы заняты, а мосты превратились в военные посты; что разные гласные и скрытные факты, поспешные распоряжения и контрприказы бросаются в глаза и возвещают о скорой войне. «Против нации, – присовокупил Мирабо с горьким упреком, – собирается больше грозного войска, нежели встретило бы, может быть, неприятельское вторжение, и, во всяком случае, в тысячу раз больше, нежели собралось бы на помощь друзьям, терпящим за свою верность, в особенности для сохранения союза с голландцами, столь дорого приобретенного и так позорно утраченного».
Речь его встретили рукоплесканиями; предлагаемый адрес приняли, с выпущением лишь одной статьи, в которой Мирабо просил короля не только отослать войска, но и заменить их городской милицией. Адрес приняли единодушно за исключением четырех голосов. В этом адресе, знаменитом, хотя Мирабо, говорят, писал его не сам, а снабдил одного приятеля всеми мыслями и материалами, знаменитый оратор предвидел всё, что действительно случилось: взрыв толпы и отступление войск вследствие сближения их с гражданами. Ловкий и смелый, он дерзал уверять короля, что его обещания не будут тщетными. «Вы нас призвали возродить государство, – писал он, – ваши желания исполнятся вопреки всем ловушкам, трудностям и опасностям…»
Адрес был подан депутацией из двадцати четырех человек. Король, не желая объясняться, ответил, что сбор войск не имеет другой цели, кроме охранения общественного спокойствия и самого собрания, что, вдобавок, если собрание чего-нибудь опасается, то он перенесет его в Суассон или в Нуайон, а сам уедет в Компьень.
Собрание не могло удовольствоваться подобным ответом, в особенности предложением удалить его от столицы и поставить между двумя лагерями. Граф Крильон предложил положиться на слово короля, честного человека. «Слово короля, честного человека, – возразил Мирабо, – не есть гарантия поступков его правительства; наше слепое доверие к нашим королям погубило нас; мы просили удаления войск, а не изъявляли желания бежать от них; нужно настаивать еще и неустанно».
Это мнение не нашло поддержки. Мирабо так энергично и безуспешно настаивал на открытых средствах, что вполне можно простить ему тайные происки, если таковые действительно были.
Наступило 11 июля. Неккер несколько раз говорил Людовику XVI, что, если его услуги ему не угодны, он покорно удалится. Король наконец согласился. В тот же день вечером Неккер получил записку, в которой Людовик приглашал его исполнить данное слово, торопил уехать и присовокуплял, что полагается на него и надеется, что он сумеет скрыть свой отъезд ото всех. Неккер, чтобы оправдать лестное доверие государя, уехал, не предупредив об этом ни собравшееся у него общество, ни даже дочь, и в несколько часов был уже далеко от Версаля. Следующий день, 12-е, приходился на воскресенье. В Париже разнесся слух, что Неккеру дана отставка, а вместе с ним – господам Монморену, Ла Люзерну и Сен-При. Как на преемников указывали на Бретейля, Ла Вогийона, Брольи, Фулона и д’Амекура – почти все они были известными противниками народного дела.
В Париже распространяются страх и ужас. Толпа отправляется в Пале-Рояль. Один молодой человек, впоследствии сделавшийся знаменитым своей республиканской экзальтацией, одаренный от природы мягким сердцем, но не в меру импульсивный и страстный, Камилл Демулен, встает на стол, показывает народу пистолеты, призывая его к оружию, срывает с дерева лист вместо кокарды и приглашает всех следовать его примеру. Листья с деревьев мигом обрываются, толпа отправляется в музей восковых фигур, хватает там бюсты Неккера и герцога Орлеанского, которому, как уверяли, грозила ссылка, и рассыпается по парижским кварталам. На улице Сент-Оноре, близ Вандомской площади, толпа эта встречает отряд немецкого королевского полка, который на нее накидывается, нескольких человек ранит и, между прочими, – солдата из Французской гвардии. Гвардия, и без того уже расположенная в пользу народа и против немецких солдат, с которыми за несколько дней до того у нее произошла стычка, начинает стрелять по полку из своих казарм близ площади Людовика XV. Принц Ламбеск, командовавший этим полком, поворачивает к саду Тюильри, бросается на мирно гуляющую толпу, среди общего смятения убивает какого-то старика и приказывает очистить сад.
Камилл Демулен в Пале-Рояле
В это время войска, расположенные вокруг Парижа, сосредоточиваются на Марсовом поле и площади Людовика XV. Безграничный ужас и превращается в ярость. По всему городу раздаются призывы к оружию. Толпа бежит к ратуше требовать оружия. Выборщики в это время находятся в ратуше в полном составе. Они выдают оружие, так как уже нет возможности в нем отказать, и народ принимается самовольно растаскивать его в ту самую минуту, как они решают удовлетворить требование. Лишенные всякой активной власти, избиратели принимают меры, требуемые обстоятельствами, и распоряжаются созывом избирательных округов. Вокруг собираются обычные граждане, чтобы приискать средства охранить себя – с одной стороны, от разъяренной толпы, с другой – от королевских войск. Ночью народ, всегда сбегающийся туда, где происходит что-нибудь занимательное, ломает и сжигает заставы, разгоняет сторожей ворот и делает беспрепятственным въезд в город. Лавки оружейных мастеров подвергаются разграблению. Являются те самые разбойники, которые отличились у Ревильона и после вырастали при каждом случае, как из земли, вооруженные пиками и палками.
Всё это происходило в течение воскресенья 12-го и в ночь на понедельник 13 июля. В понедельник утром выборщики, всё еще заседающие в ратуше, находят нужным придать законную форму своей власти и этой целью призывают прево, в обыкновенное время управляющего городом. Он соглашается повиноваться не иначе как по формальному приказу. Ему посылают такой приказ и дают в товарищи нескольких выборщиков. Новый муниципалитет, составленный таким образом, требует к себе начальника полиции и в несколько часов составляет план вооружения городской милиции.
Эта милиция должна была состоять из сорока восьми тысяч человек, поставляемых округами. Отличительным признаком ее должна была стать не зеленая кокарда, а парижская – красная с синим. Каждый человек, взятый с оружием и этой кокардой и не внесенный своим округом в списки гражданской милиции, должен был быть арестован, обезоружен и наказан. Таково было начало первой национальной гвардии.
Все округа приняли этот план и поспешили привести его в исполнение. В течение того же утра народ опустошил монастырь Сен-Лазар, отыскивая там хлеб, вломился в арсенал, чтобы взять оружие, и вытащил несколько древних лат, в которые и облачился; люди в шлемах и с пиками наводнили город. На этот раз горожане демонстрировали презрение к мародерству, не трогали золота, брали только оружие и сами хватали грабителей. Французская гвардия и полиция предложили свои услуги, и их вписали в гражданскую милицию.
Народ продолжал неистово требовать оружия. Прево Флессель, сначала сопротивлявшийся происходящему, теперь проявлял большое усердие и обещал 12 тысяч ружей в тот же день, а в следующие – еще более.
Он уверял, что сторговался с одним неизвестным оружейником. Этому трудно было поверить, принимая во внимание краткость сроков. Однако уже к вечеру обещанные артиллерийские ящики подвезли к ратуше; их вскрыли – и нашли в них одно старое тряпье. При виде этого толпа вознегодовала, но прево сказал, что его обманули. Чтобы успокоить толпу, он послал ее к картезианцам, уверяя, что там точно найдется оружие. Удивленные картезианцы приняли разъяренную толпу, впустили ее в свою обитель и наглядно убедили, что у них нет того, что обещал прево.
Народ, еще более раздраженный, вернулся с криками «Измена!». Чтобы как-то утихомирить толпу, немедленно были заказаны пятьдесят тысяч пик. По Сене на барках плыл запас пороха, предназначенный для Версаля; народ овладел им, и один из выборщиков среди всеобщего смятения раздал порох.
Страшная путаница царила в ратуше, этой главной квартире милиции, центре властей и всех операций. Надо было в одно и то же время заботиться о внешней безопасности, угрожаемой двором, и о внутренней, угрожаемой разбойниками; надо было каждую минуту успокаивать народ, везде подозревавший измену, и защищать от его ярости тех, кто возбуждал его недоверие. На площади перед ратушей толпились остановленные экипажи, перехваченные шествия, путешественники, ожидавшие разрешения продолжать свой путь. Ночью разбойники снова стали угрожать ратуше; выборщик Моро де Сен-Мери, которому была вверена ее безопасность, велел принести несколько бочонков с порохом и объявил, что в случае нужды взорвет ратушу. Разбойники ушли. В то же время граждане, разойдясь по домам, были готовы ко всему: они заранее разобрали мостовые, вырыли траншеи и приняли все меры на случай осады.
Пока в столице происходили эти беспорядки, собрание пребывало в страхе и унынии. Депутаты собрались 13-го утром, уже встревоженные предстоявшими событиями, но не зная того, что происходило в Париже. Депутат Мунье первый высказался против отставки министров. За ним последовал Лалли-Толендаль, произнес пышное похвальное слово Неккеру, и затем оба вместе предложили адрес, испрашивавший у короля возвращения опальных министров. Один из депутатов от дворянства, маркиз де Вирьё, даже предложил подтвердить постановление 17 июня новой клятвой. Клермон-Тоннер выступил против этого предложения, находя его излишним, и воскликнул, напоминая об обязательствах, принятых собранием: «Или конституция будет, или нас не будет!»
Прения давно уже начались, когда узнали об утренних беспорядках и о несчастьях, угрожавших столице, поставленной, по выражению герцога Ларошфуко, между безначальными французами, которые не слушались никого, и дисциплинированными иноземцами, которые находились в руках деспотизма. Собрание тотчас же решило послать королю депутацию, чтобы описать бедственное положение столицы и умолять распорядиться отправкой войск и учреждением гражданской гвардии. Король дал ответ спокойный и холодный, не согласовавшийся с его добрым сердцем: он повторил, что Париж не может сам себя охранять. Тогда депутаты, возвысившись до благородного мужества, составили достопамятное постановление, в котором настояли на отсылке войск и учреждении гражданской гвардии, объявили министров и всех представителей власти ответственными, возложили на советников короля, какого бы ни были они звания, ответственность за готовившиеся несчастья, запретили произносить постыдное слово «банкротство», подтвердили свои предыдущие постановления и приказали президенту выразить сожаление Беккеру, а равно и прочим министрам. Приняв эти энергичные и разумные меры, собрание, чтобы охранить своих членов от всякого личного насилия, объявляет свое заседание непрерывным и назначает Лафайета вице-президентом для облегчения участи почтенного архиепископа Вьеннского, которому года не позволяли заседать день и ночь.
Так протекла ночь на 14 июля, среди тревоги и смущения. Каждую минуту сообщались и опровергались ужасные известия, замыслы двора не все были известны, но собрание знало, что нескольким депутатам грозит опасность и против Парижа и наиболее известных членов собрания может быть применена сила. После самого краткого перерыва заседание снова открылось 14 июля в 5 часов утра. Депутаты с самым величественным спокойствием принялись за прерванные труды по конституции и весьма верно обсуждали средства к ускорению ее осуществления и осторожного введения. Назначили комитет для подготовки вопросов; он состоял из епископа Отенского (Талейрана), архиепископа Бордосского, Лалли-Толендаля, Клермон-Тоннера, Мунье, Сийеса, Шапелье и Бергаса.
Прошло утро; известия приходили всё более зловещие: говорили, будто король собирается уехать ночью и оставить собрание на произвол нескольких иностранных полков, а перед этим некоторые видели, как королева с герцогиней Полиньяк гуляли в оранжерее, заискивая перед офицерами и солдатами и угощая их. По всему было видно, что в ночь на 15-е задумали совершить важное дело; что Париж будет атакован из семи пунктов, Пале-Рояль – окружен, а собрание – распущено; что декларация 23 июня будет перенесена в парламент, что, наконец, финансовые затруднения должны быть разрешены банкротством и государственными билетами. Верно то, что начальникам войск уже был дан приказ двинуться в ночь на 15 июля, а государственные билеты были уже заготовлены; что швейцарские казармы были наполнены военными припасами, а комендант Бастилии уехал из крепости, оставив в ней лишь несколько необходимых вещей. После полудня опасения собрания удвоились: во весь опор проскакал принц Ламбеск; слышен был грохот пушек. Депутаты прикладывали ухо к полу, чтобы уловить малейшие звуки. Мирабо предложил прервать прения и вторично послать к королю депутацию, что и было немедленно исполнено. В эту минуту два члена собрания, приехавшие из Парижа, объявили, что там идет резня; один из них уверял, что видел обезглавленный труп в черной одежде.
Темнело, собранию доложили о приезде двух выборщиков. В зале царило глубокое молчание: в темноте слышен был шум их шагов; от них узнали, что совершено нападение на Бастилию, случилась пушечная пальба, текла кровь и предвидятся страшные бедствия. В ту же минуту была отправлена третья депутация. Когда эта депутация уходила, первая возвратилась с ответом короля. Людовик приказал удалить войска, стоявшие на Марсовом поле, и, узнав об образовании гражданской гвардии, назначил офицеров для командования ею.
Когда прибыла вторая депутация, король, изрядно смущенный, сказал: «Господа, вы более и более терзаете мне сердце вашими рассказами о бедствиях Парижа. Быть не может, чтобы причиною их были приказания, отданные войскам». Он не согласился ни на что, кроме удаления войск. Было два часа пополуночи. Собрание дало городу Парижу следующий ответ: «Две депутации были посланы к королю, а на следующий день просьбы и настояния будут возобновлены, пока не будут иметь того успеха, которого можно ожидать от доброго сердца короля, когда чужие наущения не удерживают его порывов». Заседание было прервано ненадолго, и вечером выяснилось всё, что происходило в этот день, 14 июля.
Народ еще в ночь с 13-го двинулся к Бастилии; сделали несколько выстрелов, и раздались крики «К Бастилии!», испускаемые, должно быть, зачинщиками. В полномочиях некоторых депутатов выражалось требование о срытии Бастилии, из чего видно, что мысли уже раньше приняли это направление. Толпа продолжала требовать оружия. Разнесся слух, что есть значительный склад в Доме инвалидов, – туда и отправились. Комендант, маркиз де Сомбрёйль, не позволял никого впускать на том основании, что ему нужно снестись с Версалем. Народ знать ничего не хотел, вторгся в здание, увез пушки и похитил большое число ружей.
В это время Бастилию осаждает уже значительная толпа. Осаждавшие говорят, что пушки крепости направлены против города и нужно помешать им стрелять по нему. Депутат одного из округов просит разрешения войти в крепость, и комендант его впускает. Он находит в гарнизоне Бастилии тридцать двух швейцарцев и восемьдесят двух инвалидов и берет с них слово не стрелять, если на них не будет совершено нападения. Во время этих переговоров народ, не видя своего депутата, начинает приходить в раздражение, и депутату приходится показаться, чтобы успокоить толпу. Наконец, около одиннадцати часов утра, он выходит.
Штурм Бастилии
Едва проходит полчаса, как является новый вооруженный отряд с криками «Отдайте нам Бастилию!». Гарнизон требует, чтобы нападающие удалились, но те не слушаются. Два человека бесстрашно залезают на крышу гауптвахты и топорами ломают цепи подъемного моста – мост падает. Толпа бросается через него с намерением таким же способом овладеть вторым мостом. В эту минуту ее наконец останавливает ружейный залп – она отступает, но стреляет. Перестрелка продолжается несколько мгновений. Выборщики, слыша выстрелы из ратуши, пугаются еще более и посылают две депутации, одну за другой, к коменданту с требованием впустить отряд парижской милиции. Депутации приходят одна после другой весьма скоро. Барабанный бой и вид флага на некоторое время прекращают огонь. Депутации подходят к крепости, гарнизон ждет их, но нет возможности объясниться. Неизвестно откуда вновь раздаются выстрелы. Первая мысль людей – измена, они бросаются к крепости с намерением поджечь ее, и тогда гарнизон стреляет картечью. Наконец появляется гвардия с пушками и начинает полноценную атаку.
Тем временем в ратуше перехватывается и прочитывается записка от барона Безенваля к Делоне[37 - По другим источникам – де Лонэ. – Прим. ред.], коменданту Бастилии. Безенваль уговаривает Делоне держаться, уверяя, что тот скоро получит подкрепление. Действительно, в этот самый вечер должны были быть исполнены планы двора. Между тем Делоне, не получая помощи и видя ожесточение народа, хватает зажженный фитиль и хочет сам взорвать крепость. Гарнизон этого не допускает и принуждает его сдаться. Посылают сигналы, опускается один мост. Осаждающие подходят, обещая не совершать никаких излишеств, но толпа врывается во двор. Швейцарцы кое-как спасаются, а инвалиды оказываются обязаны своим спасением единственно самопожертвованию Французской гвардии.
В эту минуту появляется молодая девушка, красавица; воображая, что это дочь Делоне, толпа хватает ее и собирается бросить в огонь, но некий храбрый гвардеец вырывает несчастную из рук толпы и уносит в безопасное место, после чего возвращается обратно.
Уже половина пятого. Выборщики находятся в жесточайшей тревоге, как вдруг слышат глухой, продолжительный гул. В залу врывается толпа в доспехах с победными криками; триумфально несут одного гвардейца, израненного и увенчанного лаврами; на штыке красуются ключи и регламент Бастилии; окровавленная рука, поднимающаяся над головами, показывает пряжку от галстука: она принадлежала коменданту Делоне, которому только что отрубили голову. Два гвардейца, Эли и Гюлен, защищали его до последнего.
Пало еще несколько человек, хотя их тоже геройски защищали от свирепости черни. Ярость ее начинала обращаться против Флесселя, которого обвиняли в измене. Уверяли, что он обманул народ, несколько раз обещая ему оружие и всё не давая. Зала наполнилась людьми, кипевшими ожесточением после продолжительного сражения и теснимыми сотнями других людей, тоже желавших войти. Выборщики старались оправдать Флесселя в глазах толпы. Он начинал уже теряться и, весь бледный, восклицал:
– Если уж меня подозревают, я удалюсь!
– Нет, – возразили ему, – идите в Пале-Рояль, там вас будут судить.
Флессель повиновался и ушел, окруженный, а фактически сдавленный толпою. На набережной Пельтье какой-то неизвестный убил его из пистолета. Разнеслась молва, будто у Делоне была найдена записка от Флесселя со словами: «Держитесь, пока я забавляю парижан кокардами».
Таковы были печальные происшествия этого дня. За упоением победы последовал общий страх. Победители Бастилии, сами удивленные своей отвагой и боясь почувствовать на другой день грозную силу власти, не осмеливались более называть себя. Каждую минуту распространялся слух, будто к столице подходят войска с целью опустошить ее. Моро де Сен-Мери, тот самый, который накануне объявил злодеям, что взорвет ратушу, остался непоколебим и отдал три тысячи приказов в несколько часов. Как только в ратуше стало известно о взятии Бастилии, выборщики послали об этом сообщение Национальному собранию, которое получило его к середине ночи. Заседания в это время не было, но известие разнеслось быстро. Двор, дотоле не веривший в энергию народа, смеявшийся над усилиями слепой толпы, вздумавшей брать крепость, которую некогда тщетно осаждал великий Конде, – двор был совершенно спокоен и рассыпался в насмешках. Однако король начинал тревожиться; в последних его ответах отчасти даже высказывалась скорбь. В конце концов он просто лег спать.
Герцог Лианкур, известный своими благородными чувствами, был личным другом Людовика XVI и в качестве главного хранителя королевского гардероба имел к нему доступ во всякое время. Узнав о парижских событиях, он поспешил прямо к королю, разбудил его, несмотря на сопротивление министров, и всё рассказал ему.