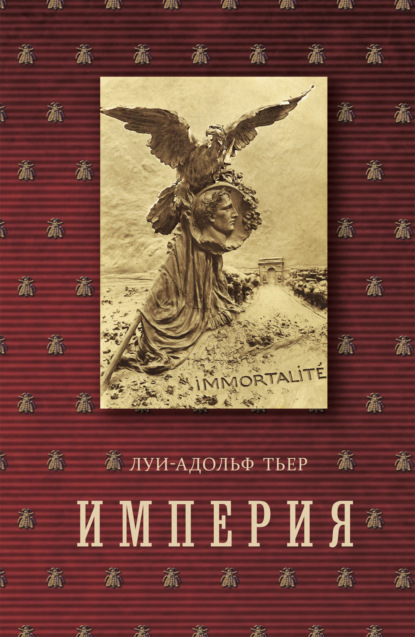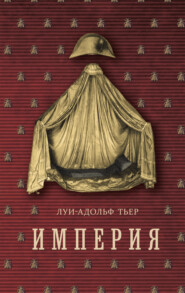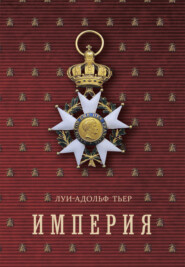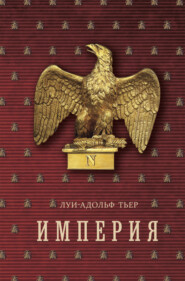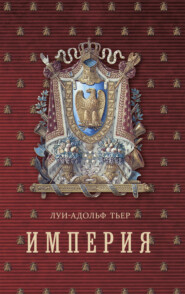По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Империя. Том 4. Часть 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
если снабдят этого короля либерально-монархическими институтами, – Англия готова рукоплескать и даже содействовать подобному делу, хотя оно и дорого ей обойдется. Но разве трое участников раздела Польши всерьез готовы ради ее восстановления на необходимые жертвы? Найдется ли король для выполнения этой прекрасной задачи? И наконец, уживутся ли вместе объединенные поляки, сумеют ли вести себя как здравомыслящая нация, достойная предоставленной ей свободы? Позволительно не только усомниться в этом, но и вовсе в это не поверить и счесть восстановление, о котором идет речь, пустым мечтанием. Ведь хотят восстановить неполную и ненастоящую Польшу, назвав ее Польшей только ради того, чтобы увеличить, а после увеличения сделать русской. Это значит пытаться ввести Европу в заблуждение, которому она никогда не поддастся.
Затем лорд Каслри объяснил Александру, что его план возбуждает тревогу, и если бы не лояльность его характера, эта тревога сделалась бы так сильна, что конгресс уже был бы распущен, а потому он просит царя, ради общего покоя и собственной славы, отказаться от неприемлемых притязаний.
Александр во время беседы сдерживался с большим трудом, ибо всё его обаяние не возымело на твердость английского посла никакого действия, хотя тот, в свою очередь, никак не сумел повлиять на уклончивую и впечатлительную натуру царя. Они расстались весьма недовольные друг другом, не добившись результата ни с той, ни с другой стороны.
На следующий день, опасаясь, что не сказал всего, что до?лжно, желая оставить след в памяти августейшего собеседника и превыше всего заботясь о том, чтобы подготовить себе оправдание перед британским парламентом, лорд Каслри составил длинную ноту, сопроводил ее конфиденциальным письмом и отправил Александру. Этим он не ограничился и, несмотря на взаимные обещания сохранять тайну в отношении Франции, постарался показать ей свои заслуги, осведомив Талейрана о беседе с царем и о ноте. Последний, хоть и был недоволен сговорчивостью Англии в отношении Саксонии, пришел в восхищение от того, что лорд Каслри занял столь активную позицию. Тактика Англии внушила Талейрану мысль о равноценной тактике, но в обратном направлении. Желая восстановить равновесие в пользу Саксонии, принесенной в жертву лордом Каслри, и воспользовавшись с этой целью князем Чарторижским, часто сообщавшимся с французской миссией, он дал знать императору Александру, что Франция не уступит в отношении Саксонии и, напротив, весьма склонна уступить в отношении Польши. Маневр был ловким, ибо когда одни отказывают в том, что уступают другие, всякое согласие, удовлетворяющее одновременно обе стороны, должно сделаться невозможным.
Тем временем мелкие германские государи продолжали сопротивляться. В комитете, где занимались выработкой устройства федерации, они противостояли всем комбинациям Пруссии и Австрии, стремившихся к господству в ней. Старый титул германского императора, который столь долго носили австрийские монархи и от которого Франц II отрекся в 1806 году, когда Наполеон создал Рейнский союз, восстановлению не подлежал. Конечно, Австрия его приняла бы, если бы его сделали наследственным, но она не желала досадной зависимости от выборов, ибо они означали, что однажды императорская корона может перекочевать на прусскую голову. Последней причины было довольно, чтобы Австрия отвергла подобное предложение. Поскольку императорский титул упразднялся, нужны были государства-правители, управлявшие поочередно, как в Швейцарии, и Пруссия соглашалась на такое устройство при условии чередования с одной Австрией. Австрия была к этому не расположена, но в любом случае Бавария, Ганновер и Вюртемберг объявили, что примут чередование только при условии, что оно будет касаться всех, а не только двух главных держав. Стали готовить подходившее всем решение о простом председательстве в сейме (как образе бывшей императорской власти), которым навеки наделялась Австрия. Решение доставляло величие титула и обеспечивало длительность, но являло собой серьезное неудобство, оставляя нерешенным важный вопрос о военном командовании.
Не менее важным вопросом был способ сообщения союзных государств между собой и природа их отношений с европейскими державами. До сих пор союзные государства, хоть и связанные федеративными отношениями, пользовались суверенной независимостью, то есть сохраняли право на представительство и войну, могли иметь послов при всех дворах, обладать и располагать армиями. Это двойное право нередко приводило их к заключению союзов, противных если не самой конфедерации, то по крайней мере двум главным ее державам, и если из него проистекало порой вмешательство иностранных держав, из него же проистекало и спасение общей независимости. Пруссия категорически требовала, чтобы конфедератам было отказано в праве миссий и войны. Она одна придерживалась такого мнения и столкнулась с единодушным сопротивлением в комитете. К тому же королевства Баварии, Вюртемберга и Ганновера почти при каждом случае объявляли, что выскажут мнения по спорным пунктам только после того, как будет полностью решена участь Саксонии, и даже грозили подписать общегерманский протест против планов в отношении Саксонии, приписываемых некоторым державам. В результате комитет решил более не собираться, пока не будет решен этот главный вопрос.
До 1 ноября не пришлось бы потерять много времени, ибо отсрочка конгресса была подписана и обнародована только 8 октября. Возникали опасения, что к назначенному сроку не будут достигнуты никакие договоренности. Бавария, самая активная и самая значительная держава второго порядка, выказывала решимость ради защиты Саксонии прибегнуть к оружию. Она набрала армию и довела ее численность до 75 тысяч человек, подбадривала Меттерниха, обещая предоставить по 25 тысяч солдат на каждую сотню тысяч австрийцев. От Меттерниха она шла к Талейрану, которого не было нужды подбадривать, и просила его не ограничиваться словами и переходить к действенным угрозам: заявить, например, о намерении короля Франции применить в случае необходимости силу. Талейран отвечал, что Франция готова, но не может сама брать на себя работу держав, заинтересованных в данном вопросе; что они должны объясниться, выразить хотя бы желание, и поддержка Франции будет обеспечена им по первому зову; но к французской миссии едва соизволяют обращаться, ее держат вдали от переговоров, и она не может навязывать свою помощь, если таковой не желают.
Бавария поспешила повторить эти слова Меттерниху, но тот отказался действовать быстро. В качестве извинения своей медлительности он сослался на странную тактику Англии, ради спасения Польши начинавшей с жертвы Саксонией, и на намерения Франции, по-прежнему подозреваемой им в притязаниях, что было довольно странно, ибо Франция была в ту минуту единственной державой, которая не выказывала никаких притязаний. Меттерних добавил, что слишком опасно самим звать французские армии в Германию, где они совсем недавно были завоевателями, обременительными и ненавистными; к тому же этих армий уже нет, по крайней мере для Бурбонов, которые неспособны привлечь их под свои знамена и руководить ими; а Франция много говорит, но не может и не хочет действовать, и говорит только для того, чтобы всё запутать, посеять раздор и вернуть себе прежнее положение. Князь Вреде незамедлительно передал эти слова французской миссии, что было своего рода вызовом и предложением объясниться.
Невозможно было далее участвовать в переговорах с безразличием к таким речам, следовало пресечь их утвердительными и убедительными манифестациями. Талейран объявил, что Франция обладает волей и средствами действовать, представит тому доказательства, как только ее вынудят, и в любом случае вскоре покажет и свою решимость, и свои ресурсы. Он тотчас написал королю, поручил герцогу Дальбергу написать правительству и предложил двойное решение: вооружаться и во всеуслышание объявить о причине вооружений. Зная, что Людовик XVIII не хочет войны и королевский совет склонен к войне ничуть не больше, чем король, Талейран сказал им, что война крайне маловероятна (так и было), но при всеобщем перед ней страхе тот, кто напугает ею других, получит над ними власть; что в Вене дело не зайдет дальше простых демонстраций, но нужно быть в состоянии эти демонстрации осуществить, и осуществить всерьез. Он указал, что от этого будет зависеть уважение к Франции, а значит и ее влияние, и исполнение ее пожеланий: то, чего она хочет, к примеру, в Италии, зависит от того, что произойдет в Германии, и она станет сильной там, только показав, что может быть сильной здесь.
Заговорить о Неаполе и Парме значило задеть короля за живое и заставить его прислушаться к остальным доводам. Впрочем, совет был благоразумен и дан совершенно добросовестно, хотя некое странное происшествие, как мы увидим позднее, не позволило дому Бурбонов воспользоваться им к вящей пользе.
Депеши, датированные серединой октября, дойдя до Людовика XVIII, весьма его взволновали. Он обсудил полученные предложения сначала в семейном кругу, а затем в совете. Сомнений в том, какое следует принять решение, не было, ибо все доводы, большие и малые, верные и не очень, говорили в пользу одного вывода. Во-первых, речь шла о положении французской миссии в Вене, и нельзя было позволять утвердиться мнению, что в результате реставрации старой династии Франция поражена немощью. Подобное предубеждение было опасно как для страны, так и для правящей семьи. Во-вторых, от того, какое влияние мы приобретем в Вене, явным образом зависело и желанное решение в Италии, решение, которому Людовик XVIII придавал большое значение. В-третьих, коль скоро Франция отказалась добиваться в Вене территориальных выгод, спасение Саксонии стало бы для нее результатом определенной значимости. Король Саксонии, справедливо или нет, считался жертвой своей преданности нашему делу, и в глазах всех, кто хвалился патриотизмом, его спасение делало нам честь, а потому имелась уверенность, что успех в этом деле принесет династии некоторую популярность. Наконец, восстановление нашего военного могущества становилось насущным делом, ибо вследствие финансовых границ, положенных военному министру, и дополнительных расходов, неосторожно прибавленных к его бюджету, численность армии опустилась ниже предусмотренных пропорций. По всем этим причинам предложения французской миссии были рассмотрены с полной серьезностью и представлены королевскому совету.
Трудность всегда состояла только в финансах. Когда совет собрался, Людовик XVIII воззвал к патриотизму министра финансов. Тот не раз говорил, что при строгом ограничении расходов и даже благодаря ему всегда сможет в случае нужды предоставить в распоряжение короля сто миллионов франков. Восстановив общественный кредит своей твердой финансовой политикой, барон Луи действительно запасся обширным ресурсом.
Он был удивлен, когда его так скоро поймали на слове и потребовали доказательств обширности ресурсов. Однако в политике он разбирался не хуже, чем в финансах, и когда военный министр заявил, что ему хватит сорока миллионов, министр финансов отвечал, что готов выделять их по мере необходимости.
Обеспечив армии требовавшиеся деньги, теперь решали, как их потратить. По весьма разумному совету герцога Беррийского решили призвать под знамена 70 тысяч солдат, чтобы довести действующий состав до 200 тысяч человек. Для того чтобы собрать такое количество, не требовалось прибегать к конскрипции, формально отмененной, довольно было отозвать из дома часть военных, считавшихся отправленными в отпуска.
К официальным депешам, извещавшим Талейрана о решениях правительства, военному министру и министру финансов поручили добавить частные письма о прекрасном состоянии финансов и армии, чтобы Талейран мог показать их конфиденциально. Военный министр, в частности, написал, что у него скоро будет 200 тысяч, а через месяц, если понадобится, и 300 тысяч солдат в превосходном расположении духа, что вполне могло стать правдой, если бы речь зашла о внешнем враге. Король тоже написал Талейрану, излагая свои собственные чувства. Несмотря на любовь к миру, говорил Людовик, он не хочет, чтобы Франция опустилась ниже своей естественной роли и выказала неспособность поддержать правое дело. Но он недвусмысленно рекомендовал Талейрану не вовлекать его в коалицию, в которую войдут только Австрия и малые германские государства. Он желал, чтобы в коалицию была включена и Англия, – неизменно предпочитая оставаться с нею единым целым и ради пущей уверенности в исходе войны, если дойдет до такой крайности. И еще король напоминал, что его главные цели по-прежнему состоят в удалении Мюрата с неаполитанского трона и переводе узника Эльбы на Азорские острова.
В то время как из Парижа отправляли ответы на просьбы Талейрана, в Вене не стихало волнение и не прекращались дебаты между императором Александром и лордом Каслри, ибо последний не ослаблял усилий по спасению Польши посредством уступки Саксонии. Известно было, что принц-регент [Георг] вовсе не был сторонником такой уступки и даже весьма ей противился, а потому на него стали оказывать влияние, чтобы он потребовал изменить инструкции, данные лорду Каслри. Тем временем лорд Каслри следовал своему плану в надежде отделить Пруссию от России и, изолировав последнюю, вынудить ее уступить. Хотя Фридриха-Вильгельма оторвать от Александра было трудно, прусские посланники казались не столь твердыми, как их король. Некоторых из них тревожило продвижение России к центру Европы и дурное впечатление, которое могло произвести на германцев включение Саксонии в Пруссию; словом, они дорожили альянсом с русскими не так сильно, как их повелитель. Заметив это различие, лорд Каслри задумал привлечь Пруссию к Австрии и использовать обе державы, чтобы без помощи Франции заставить Россию остановиться за Вислой, продолжив, тем самым, держать французов в стороне от важных европейских дел.
Меттерних, побуждаемый германскими патриотами и австрийскими военными, был вынужден в какой-то мере примкнуть к политике лорда Каслри и вручил Пруссии депешу, датированную 22 октября, в которой выражал, наконец, намерения императора Франца и своего кабинета. Меттерних обращался к Пруссии в исключительно сердечном тоне и напоминал, что еще в начале 1813 года, до разрыва с Наполеоном, Австрия поставила себе целью полное восстановление Пруссии, сделав его условием своей политики, а потому не следует подозревать ее в застарелой ревности, некогда разделявшей кабинеты Вены и Берлина. Он умолял Пруссию подумать, не благоразумнее ли отказаться от Саксонии, не лучше ли, наказав Фридриха-Августа некоторым сокращением территории, оставить в целости ядро его королевства, освободиться от пагубных обещаний России относительно Польши и доставить удовлетворение чувствам. Изложив свое мнение в форме совета, Меттерних добавлял, что если придется всё же уступить Саксонию, он пойдет на жертву только при определенных условиях. Во-первых, Пруссия возьмет на себя обязательство в вопросе о Польше отделиться от России и примкнуть к мнению Англии и Австрии. Во-вторых, даже при воцарении в отношениях между Берлином и Веной полной сердечности, следует поддерживать некоторое равновесие и установить верные пропорции между государствами Севера и Юга. И поскольку Австрия желает, чтобы территории государств справа от Рейна разделялись по Майну, а слева – по Мозелю, Майнц не будет принадлежать государствам Севера, то есть Пруссии.
В том положении, в какое ставила его необычайная тактика лорда Каслри, Меттерних не мог выйти из затруднения искуснее, чем вышел посредством этой ноты. Позиция, занятая Австрией, чрезвычайно раздражала императора Александра, ибо всё оборачивалось против него и все усилия направлялись на отделение от него Пруссии. Пожелав опередить возможное будущее сопротивление, он задумал возвестить о бесповоротной решимости – как своей, так и Пруссии. Русские войска еще занимали Саксонию; Александр посоветовал Фридриху-Вильгельму ввести в нее прусские войска и тотчас приступать к административной и политической организации страны. Выведя из Саксонии русские войска, он направил их в Польшу, дабы сосредоточить все свои силы на Висле и явить железную преграду тем, кто попытается вырвать у него добычу. В то же время царь послал в Варшаву своего брата великого князя Константина (которому назначалось, как полагали, сделаться королем Польши), дабы он приступил к организации нового королевства. Невозможно было бросить более дерзкого вызова мнению и достоинству держав, собравшихся в Вене, ибо еще до их решения вступали во владение государствами, верховной властью в которых могли наделять только сообща.
Столь дерзкое поведение вызвало всеобщее возмущение. Обвиненный в слабости Меттерних отвечал, что надо не горевать, а радоваться, что русские уходят на север и освобождают Германию от своего присутствия. Извинение не было принято. Многие, впав в уныние, заявляли, что никогда не удастся одолеть монархов России и Пруссии, что справиться с ними можно только одним способом: отделиться от узурпаторов и созвать новый конгресс. Более решительные говорили, что не следует отступать: единственно правильное поведение состоит в сохранении верности декларации от 8 октября и созыве конгресса 1 ноября, и тогда выяснится, будут ли монархи, чья надменность перешла все границы, столь же смелы перед собравшимся конгрессом. Это чувство разделяли почти все. К тому же ноябрь был уже близко, и не нужно было долго ждать, чтобы испытать действенность предложенного средства.
Император России, любивший представительность и тем самым способствовавший увеличению расходов, на которые шел австрийский двор ради своих гостей, попросил о поездке в Офен в Венгрии, чтобы почтить память сестры[9 - Великая княгиня Александра Павловна (1783–1801) – Прим. ред.], усопшей супруги эрцгерцога, палатина Венгрии. Он хотел появиться в Офене в венгерском костюме и пригласил туда греков из смежных провинций, мирян и духовенство, ибо в ту минуту его взоры обращались как на Запад, так и на Восток. Император Австрии и несколько принцев обещали сопровождать Александра в этой поездке. Перед отъездом он еще раз побеседовал с Меттернихом, весьма взволновав последнего и немало поспособствовав окончательному назначению всеобщего собрания на 1 ноября.
Встреча была бурной. Беседа касалась только Польши, ибо Саксония была временно уступлена. Александр долго распространялся на эту тему и вернулся к своим обычным речам о гнусности давнего раздела Польши и полезности и моральности репарации, будто восстановление Польши под властью самого опасного из трех участников раздела могло считаться репарацией. Меттерних очень просто заметил, что Австрия также обладает весьма значительной частью бывшей польской территории и потому не хуже всякой другой державы может заняться репарацией. При этих словах Александр, выйдя из себя, назвал замечание неверным, даже неприличным, и до того забылся, что заметил Меттерниху, что он единственный человек в Австрии, который дерзает принимать с Россией подобный возмутительный тон. Меттерних не дрогнул, но был глубоко оскорблен словами царя и объявил, что если таковы будут впредь отношения их кабинетов, то он попросит своего императора назначить на конгресс другого представителя. Министр покинул Александра в состоянии такого волнения, в каком его никогда не видели.
Рассказ об этой необычайной сцене наполнил Вену ропотом. Вопрошали сами себя, зачем поднимались против Наполеона, если тотчас после этого подпали под иго столь же тяжкое и более унизительное, ибо Александру недоставало гипнотического воздействия Наполеона, которое в течение десяти лет служило извинением для Европы.
В то время как монархи отправились в Венгрию, дипломаты, оставшиеся в Вене, занимались организацией предстоявшего события. По всеобщему мнению, следовало как можно скорее собирать конгресс, хотя согласие не было достигнуто даже по самым важным вопросам. Несомненно, нельзя было превращать конгресс в своего рода европейское учредительное собрание, ибо державы обладали неравными правами в отношении друг друга, но имелись общие дела, по которым следовало знать мнение всех, и отдельные дела, по которым следовало выслушать главные заинтересованные стороны и примирить их. Наконец, поскольку встреча в Вене назначалась для урегулирования интересов Европы, нужно было призвать тех, кто ее представлял, запросить и подтвердить их полномочия и договориться о порядке работы. Это и значило открыть конгресс, то есть провозгласить существование в Вене законной, бесспорной, общеевропейской власти, моральный авторитет которой способен в некоторых обстоятельствах предупредить опасные потрясения.
Тридцатого октября Меттерних пригласил к себе восьмерых подписантов Парижского договора для консультаций по исполнению обязательств, содержавшихся в декларации от 8 октября. Он заявил, что важные вопросы, разделяющие некоторые кабинеты, еще не решены, но их решением не перестают заниматься и наверняка придут к согласию; что работа над устройством Германии весьма продвинулась и есть надежда установить там равновесие, которое будет во многом способствовать равновесию в Европе; а тем временем ничто не мешает созвать собравшихся в Вене представителей держав, запросить и подтвердить их полномочия, сформировать комитеты и распределить между ними главные задачи.
Это мнение приняли единогласно. Договорились по очереди вызвать полномочных представителей дворов, больших и малых, затребовать их полномочия и предложить их комитету из трех держав, выбранных с помощью жеребьевки. Жребий вытянули Россия, Англия и Пруссия. В случае сомнений в полномочиях какого-либо из представителей они должны были доложить о таковых всем восьми державам.
Решили, что представители, чьих полномочий не признают, всё же будут присутствовать на заседаниях, входить в состав комитетов, предоставлять сведения – словом, выражать пожелания своих доверителей, но не будут обладать правом решающего голоса.
Кроме того, постановили, что, поскольку вопросы старшинства дворов могут породить обременительные трудности, во время конгресса все будут работать в равной степени, а роль председателя конгресса возьмет на себя князь Меттерних – как представитель монарха, в гостях у которого все собрались.
В последующие дни заседали, чтобы обсудить способ рассмотрения каждого предмета. Было ясно, что восемь подписантов Парижского договора, как инициаторы конгресса, должны играть руководящую роль в том, что касается приглашений, распределения работы, состава комитетов и формы обсуждения, в то время как решения по существу вещей должны выноситься в результате свободного соглашения между всеми заинтересованными сторонами. Поскольку в вопросах формы все признали авторитет восьми подписантов, осталось составить комитеты – и не только из заинтересованных сторон, но и из посредников, способных привести к согласию противоположные стороны.
Дела, относившиеся к будущему устройству Германии, остались вверенными комитету, состоявшему из Австрии, Пруссии, Баварии, Вюртемберга и Ганновера, с присоединением представителей других германских государей, если появится нужда в их присутствии.
Крупные территориальные дела Европы разделялись на дела Севера и Юга. Дела Севера касались главным образом Голландии, Германии, Саксонии и Польши и были самыми важными и спорными. Их рассмотрение можно было доверить только главным державам Европы, одни из которых имели прямую территориальную заинтересованность в поднимаемых вопросах, а другие были заинтересованы в равновесии и потому могли играть роль посредников. Комитет вверили пяти крупнейшим европейским державам – России, Пруссии, Австрии, Англии и Франции. Их миссия была самой трудной, и если бы им удалось договориться, ни у кого не обнаружилось бы ни причин, ни средств оспорить их решения.
Дела Юга относились почти исключительно к Италии. Двумя державами, наиболее заинтересованными в итальянских делах, были Австрия и Испания. Франция была заинтересована главным образом из-за Неаполя, но и другим крупным европейским державам этот вопрос был небезразличен. Поэтому к Испании и Австрии присоединили Францию, Англию и Россию, свободных от территориальных притязаний в этой области и могущих играть роль посредников.
Швейцария в высочайшей степени интересовала всю Европу. Комитету, в который включили Австрию, Францию, Россию и Англию, поручили заслушать мнения кантонов и попытаться их примирить. Наконец, образовали комитет, посвященный свободе речной навигации, в который вошли Франция, Пруссия, Австрия и Англия, и комитет для составления договора о работорговле – в него вошли исключительно морские державы.
Распределив таким образом работу, продолжили переговоры по Саксонии и Польше, столь бурно начавшиеся, и приступили к переговорам по Италии и Швейцарии, о которых беседовали прежде лишь от случая к случаю, без продолжения и без полномочий.
Итальянские дела представляли трудности самого разного рода. Нужно было произвести обещанное королю Сардинии присоединение Генуи к Пьемонту; добиться согласия Пармского дома, поддержанного Испанией, с Марией Луизой, имевшей поддержку отца и императора Александра; вернуть Пию VII занятую Мюратом Папскую область; удовлетворить оба дома Бурбонов в отношении Неаполя.
Последний предмет был самым трудным; он чрезвычайно занимал Талейрана, получившего на этот счет от Людовика XVIII особое поручение и ежедневно подстегиваемого настойчивыми письмами своего повелителя. Все державы желали падения Мюрата, и Австрия не меньше остальных, потому что прекрасно понимала, что он никогда не успокоится и в беспрестанном беспокойстве, от которого не сможет отделаться, будет искать поддержки итальянских либералов, то есть останется вечной причиной волнений в Италии.
Еще один предмет возбуждал необычайное рвение Талейрана: возможный переезд Наполеона на Азорские острова. По этому вопросу, как и по вопросу о Неаполе, Меттерних, не стесненный в данном случае никакими обязательствами, разделял мнение и пожелания Талейрана. Он всегда считал в высшей степени неосторожной передачу Наполеону острова Эльба, всего в четырех часах от побережья Италии и в сорока восьми – от побережья Франции. Но если его не стесняли никакие обязательства, то стесняла трудность самого предмета. Император Франц не позволял себе обременять политику узами родства, однако не оставался совсем уж нечувствителен к семейным привязанностям и, хотя недолюбливал зятя, не захотел бы сделаться его палачом и послать на верную смерть в убийственный климат. Возможно, он не стал бы возражать, если бы подобную меру предосторожности приняли союзники, но не решался проявить инициативу сам.
Англия также полагала, что нельзя оставлять Наполеона в такой близости от европейского побережья, и лорд Каслри изъяснялся по этому поводу без обиняков; но он считал препятствием договор от 11 апреля: ему нелегко было бы добиться от британского парламента одобрения подобного вероломства. Поэтому английский посланник хотел дождаться какой-нибудь ошибки Наполеона или его предполагаемых сообщников, чтобы получить возможность оправдания принятых против него мер предосторожности. А пока он не переставал требовать от Франции уплаты оговоренных двух миллионов, дабы европейские державы не оказались первыми нарушителями договора. Его коллеги из Вены обращались к Талейрану с подобными же просьбами, а Талейран тщетно передавал их Людовику XVIII.
Пруссия также не имела возражений против каких-либо мер предосторожности в отношении Наполеона. Настоящее препятствие было в другом: в великодушии, чести и, следует сказать, расчетах императора Александра. Этот государь был подлинным автором договора от 11 апреля, и его упрекали по этому поводу достаточно часто, чтобы он мог забыть о своей роли. Не впадая в колебания, он считал делом чести добиваться верного соблюдения договора, требуя то княжеского пожалования для принца Евгения, то сохранения за Марией Луизой герцогства Пармского, то порицая отказ французской казны выплатить 2 миллиона.
В итоге все, за исключением Александра, думали о мерах в отношении Наполеона, но не смели о них заговаривать, опасаясь, что огласка сделает их невозможными. Это был один из тех пунктов, о которых Меттерних говорил, что их решение нужно предоставить времени.
Низложение Мюрата и переселение узника Эльбы были самыми деликатными из итальянских дел, и когда державы впервые завели о них речь, Меттерних показался смущенным. Он заговорил об опасности осложнений в Италии при несоблюдении величайшей осторожности, чем вызвал не одну неприятную реплику Талейрана. Тем не менее, следуя географическому порядку, Неаполь оказывался последним из итальянских вопросов, и такая классификация была единственной уступкой, которой добились от французского представителя. При принятии такого порядка вопрос о Генуе и Пьемонте предшествовал всем остальным. Его и стали обсуждать в первую очередь.
В целом все были согласны выполнить Парижский договор и оставить Геную королю Сардинии в возмещение за Шамбери. Не беспокоясь о мнении генуэзцев, которые были против, комитет утвердил их присоединение к сардинской короне, пообещав обговорить гарантии свободы и торговли. Таким образом, комиссия, занимавшаяся Италией, покончила с делом Генуи за два-три заседания.
После этого настала очередь вопроса о порядке наследования в Савойском доме. Было очевидно, что трон опустеет, если не обеспечить его ветвью Савойских-Кариньяно, поскольку принцы основной ветви не имели наследников. Предлагаемый порядок наследования могла оспорить только Австрия, в надежде через брак перенести корону Сардинии на голову австрийского наследника. Но она не осмелилась бы признать подобное притязание, уже завладев большей частью Италии. Поскольку никто не возражал, пожелание Франции было принято и право наследования получила ветвь Савойских-Кариньяно.
Третьим по порядку вопросом стал вопрос о государстве Пармском. Испания, при поддержке Франции, требовала, чтобы в соответствии с происходившей в Европе репарацией Пармскому дому вернули его старое герцогство или Тоскану, которая под наименованием Этрурии была предоставлена ему Первым консулом по просьбе Карла IV. Ответить на столь обоснованное требование было нечего. Между тем, поскольку Этрурия в соответствии с тем же принципом была возвращена великому герцогу Тосканскому, оставалось только одно решение – вернуть королеве Этрурии Парму и Пьяченцу. Но что тогда станется с договором от 11 апреля и с Марией Луизой, дотация которой основывалась на этом договоре?
Мария Луиза, как мы уже говорили, проживала в Шёнбрунне и, из своих покоев прислушиваясь к шуму празднеств, чествовавших ее падение, как ни удивительно, почти досадовала на невозможность к ним присоединиться, до такой степени скука одолевала ее слабую и легкомысленную душу. Всецело покорившись воле отца и государей-союзников, она молила, чтобы взамен ей оставили обещанный сыну удел, разрешили там поселиться и забыть о блестящем сне, ослепившем на миг ее юность. Несомненно, жене Наполеона можно было пожелать более энергичных чувств, но если женщина, которую он взял в жены лишь из политических соображений, покинула его из слабости, он не имел права жаловаться на судьбу. Следует проявить снисходительность к женщине, которую короли и народы безжалостно принесли в жертву своему покою, сначала возведя на высочайший из тронов, а затем сбросив с него ради сиюминутных выгод, ничего не желая знать о ее чувствах, жизни и страданиях, подобно тому, как давят ногой муравья, даже не удостоив его взглядом.
Между тем, кто не испытывал сострадания к несчастной? Когда Меттерних говорил России, Англии, Франции и Испании, что невозможно требовать от императора Франца, пожертвовавшего ради общей политики уже многим, чтобы он ограбил еще и собственную дочь, все присутствующие смущались, даже представители Франции и Испании. Россия требовала исполнения взятых обязательств. Англия думала, как трудно их нарушить. Людовик XVIII уступил бы что угодно, лишь бы ему пообещали удалить Мюрата, а Фердинанд VII требовал (скорее из духа семейственности, нежели из привязанности к сестре), чтобы бывшей королеве Этрурии предоставили хоть лоскут итальянской земли. Вследствие подобного расположения умов подумывали о сделке: вернуть ей Парму и Пьяченцу, а Марии Луизе отдать часть Папской области, с обратимостью наследства Святому престолу. Но католический дух времени и желание обеспечить процветание Святого престола, который не мог обойтись без Папской области в деле восстановления финансов, противились такому решению. Тем не менее присутствовала явная готовность договориться по большинству итальянских дел, даже по делу Мюрата.
Комиссия, разбиравшая швейцарские дела, нашла их весьма запутанными. Десять кантонов, новых, образованных из ранее подчиненных территорий, и старых, но одушевленных духом справедливости, требовали сохранения девятнадцати кантонов и подтверждения либеральных принципов Акта посредничества. Они противостояли девяти другим кантонам, составлявшим партию старого режима, в которую входили вперемешку аристократический кантон Берн и такие демократические кантоны, как Швиц, Ури и Гларус. Эти девять кантонов требовали, чтобы им вернули территории, которыми они некогда владели, то есть перевели кантоны Во, Аргау и Тичино в подчиненное положение.
Поначалу Францию хотели исключить из этих щекотливых переговоров, потому что в Швейцарии хотели уничтожить ее влияние так же, как в Германии и Италии. Но, что странно, и Берн, по преимуществу аристократический, и Люцерн, и Фрибур – кантоны, где более всего силен был революционный дух, выказали сильнейшую привязанность к Франции, к Франции Бурбонов, разумеется. Это расположение проистекало из того, что многие швейцарские военные некогда служили во Франции, приобрели там звания, почести, состояние и сохранили в отношении нее подлинную признательность. Они весьма недвусмысленно настаивали на том, чтобы французский представитель вошел в комитет, разбиравший швейцарские дела, и им невозможно было отказать. Представлять французскую миссию в этом комитете назначили герцога Дальберга.
Вмешательство Франции возымело превосходные последствия. Когда кантоны, громче всех выступавшие за возврат к старому режиму, увидели, что Талейран и Дальберг, хоть и стараются ради них, но не решаются утверждать, что нужно возвратить в подчиненное положение Во, Аргау и Тичино, они были немало смущены и сочли, что их дело проиграно. И потому, когда император Александр, верный своим либеральным воззрениям, настоял на сохранении девятнадцати кантонов и принципов Акта посредничества, а Франция не оспорила справедливости подобного заключения, Берн и его приверженцы начали уступать, и стало возможным найти разумное решение. Договорились, что девятнадцать кантонов будут сохранены, принципы гражданского равенства продолжат главенствовать во внутреннем режиме конфедерации, четыре-пять главных кантонов будут поочередно наделяться федеральной властью, а Берн получит возмещение за жертвы, которых от него требуют. Денежные компенсации за территории, которые нельзя было вернуть в подчиненное состояние, предоставлялись и другим кантонам-жалобщикам.
Таким образом, итальянские и швейцарские вопросы постепенно решались и даже были большей частью уже решены, за исключением неаполитанского вопроса. При таком положении вещей только Саксония и Польша оставались предметами озабоченности, причем дело настолько осложнилось, что приближалось, казалось, к общему конфликту.
Лорд Каслри продолжал попытки повлиять на прусских послов, дабы отделить их от короля и императора Александра. Меттерних, вынужденный приспосабливаться к тактике лорда Каслри, ему содействовал с сожалением, ибо уступка Саксонии дорого ему обходилась и крайне не нравилась австрийцам. Тем не менее пламенные просьбы лорда Каслри и холодные советы Меттерниха возымели некоторое действие. Их мощные доводы, предназначенные особенно для военных, находивших водворение России в низовьях Варты весьма опасным, произвели некоторое впечатление на пруссаков, которые не замедлили повлиять на своего короля. По крайней мере Александру показалось, что он заметил некоторое влияние, и он крайне огорчился, ибо если бы удалось рассорить его с Пруссией, он остался бы один против всей Европы. В таком случае он был бы унижен в глазах поляков и вынужден выслушивать упреки от своих собственных подданных.