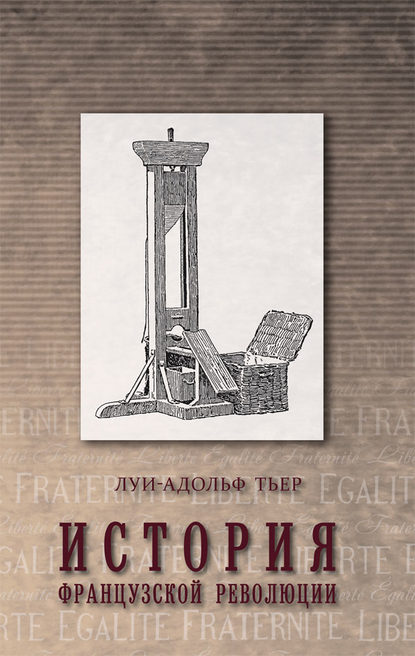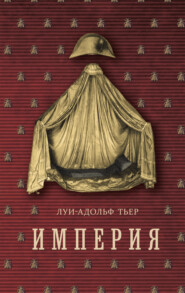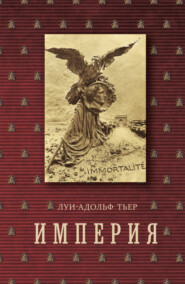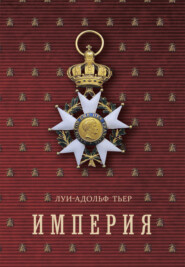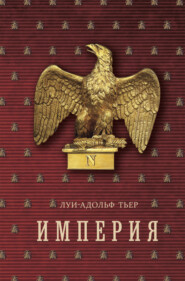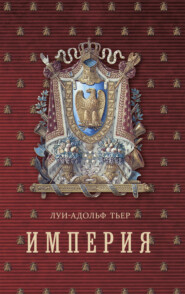По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История Французской революции. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Какой бунт! – воскликнул король.
– Государь, – возразил Лианкур, – скажите лучше – революция.
Людовик, быстро ухватив суть дела, согласился рано утром отправиться в собрание. Двор тоже уступил, и было решено дать собранию это доказательство высокого доверия.
Между тем собрание снова открыло заседание. Депутаты не знали о новых намерениях, внушенных королю, и речь шла о том, чтобы послать к нему еще одну, последнюю депутацию, которая попыталась бы тронуть его сердце и выпросить у него то, что он еще мог дать. Эта депутация была пятой с начала этих несчастных происшествий. Она состояла из двадцати четырех человек и готовилась уже идти, когда Мирабо, с еще большим против обыкновенного жаром, остановил ее. «Скажите королю, – воскликнул он, – скажите ему непременно, что иноземные орды, которыми мы окружены, принимали вчера принцев, принцесс, фаворитов и фавориток, их ласки, увещания, подарки. Скажите ему, что всю ночь эти иноземные прихвостни, преисполненные золотом и вином, предрекали в своих безбожных песнях порабощение Франции, и их зверские желания призывали погибель Национального собрания. Скажите ему, что в самом его дворце придворные танцевали под эту варварскую музыку и что таково было начало Варфоломеевской ночи. Скажите ему, что Генрих, память которого всеми благословляется, тот из его предков, которого он хотел избрать себе образцом, пропускал съестные припасы в непокорный Париж, им лично осаждаемый, а свирепые советники короля обращают вспять муку, подвозимую Парижу, верному и голодному».
Депутация совсем было уже собралась к королю, когда узнали, что он идет сам, по собственному желанию, без стражи и свиты. Раздались рукоплескания. «Подождите! – с важностью остановил их Мирабо. – Пусть прежде король заявит нам о своих добрых намерениях. Пусть мрачное молчание встретит монарха в эту тяжкую минуту».
Людовик XVI появился в сопровождении двух своих братьев. Его простая, трогательная речь вызвала сильнейший восторг. Он успокоил собрание, которое в первый раз назвал национальным, кротко пожаловался на недоверие к нему. «Вы боялись, – сказал он, – хорошо же! Так я вам доверяюсь». Слова эти заглушили рукоплескания. Депутаты встали, окружили короля и пешком проводили его до дворца. Толпа теснилась около него, во всех глазах стояли слезы, и Людовику едва удавалось прокладывать себе путь через эту массу людей.
В эту минуту королева со всем двором стояла на балконе и издалека любовалась этой трогательной сценой. Она держала сына на руках, а дочь ее, стоявшая подле, тихо играла волосами брата. Мария-Антуанетта, глубоко тронутая, наслаждалась любовью французов. Сколько раз в течение этих роковых раздоров обоюдное умиление примиряло сердца! На минуту всё казалось забыто, но на следующий день, даже в тот же день, двор возвращался к своей надменности, народ впадал в прежнее недоверие, и непримиримая ненависть воцарялась вновь.
Двор помирился с собранием – оставалось помириться с Парижем. Собрание послало в ратушу депутацию с известием о счастливом примирении с королем. Байи, Лафайет, Лалли-Толендаль были в числе посланных. Их присутствие возбудило сильнейшую радость. Речь Лалли вызвала такой восторг, что его с триумфом поднесли к одному из окон ратуши, чтобы показать народу. Его увенчали цветами, и он принял эти овации напротив той самой площади, на которой был казнен его отец. По случаю смерти несчастного Флесселя и отказа герцога Орлеанского принять начальство над гражданской милицией открывались две вакансии – городского главы и начальника городской полиции. На первую должность был предложен и с восторгом принят Байи – с титулом парижского мэра. Венок с головы Лалли перешел на голову нового градоначальника; он хотел снять его, но архиепископ Парижский удержал его. Почтенный старец прослезился и неохотно покорился новым обязанностям. Достойный представитель большого собрания перед величием престола, он был менее способен бороться с бурями общины, где толпа сражалась против своих же вождей. Однако он с полным самоотвержением предался трудным заботам о продовольствии, чтобы прокормить народ, который впоследствии отплатил ему такой неблагодарностью.
Оставалось назначить главного начальника городской милиции. В зале стоял бюст, присланный освобожденной Америкой городу Парижу. Моро де Сен-Мери указал на него рукой, все взоры обратились к нему – это был бюст маркиза Лафайета. Маркиз был единодушно назначен главой милиции. Тотчас же предложили отслужить благодарственный молебен, и громадная толпа двинулась к собору Нотр-Дам. Новые должностные лица, архиепископ Парижский, выборщики, гвардейцы, солдаты милиции шли под руку в каком-то упоении. По дороге дети из Воспитательного дома бросились к ногам Байи (который много потрудился на пользу богоугодных заведений), называя его своим отцом. Байи обнимал их и называл своими детьми.
Отслушав молебен, вся эта толпа рассыпалась по городу, в котором вчерашний ужас сменила безумная радость. Народ в это время ходил осматривать грозный вертеп, ныне открытый всем. Любопытные ходили по Бастилии с жадностью, смешанной еще с некоторым страхом, искали орудия пыток, подземные темницы, в особенности рассматривали находившийся посередине мрачной сырой темницы огромный камень с приделанной к нему тяжелой цепью.
Двор, столько же слепой в страхе, сколь и в доверии, до того боялся народа, что ежеминутно воображал, будто парижские полчища идут на Версаль. Граф д’Артуа и семейство Полиньяк, любимцев королевы, уехали из Франции; это были первые эмигранты. Прибыл Байи, успокоил Людовика и уговорил его ехать в Париж, что и было решено вопреки сопротивлению Марии-Антуанетты и двора.
Король собрался в дорогу. Двести депутатов должны были сопровождать его. Королева простилась с ним в глубокой горести. Гвардия проводила короля до Севра и осталась там ждать. Байи во главе муниципальных властей принял короля у ворот Парижа и поднес ему ключи, некогда поднесенные Генриху IV. «Сей добрый король, – сказал по этому случаю мэр, – завоевал свой народ. Ныне народ завоевал своего короля».
Людовик XVI, вступая в столицу, увидел себя окруженным молчаливой и организованной толпой. В ратушу он вошел под сводом шпаг, в знак почтения скрещенных над его головой. Речь его была трогательна и проста, и народ не выдержал и разразился обычными своими рукоплесканиями и восторженными криками. Это несколько облегчило ношу на сердце короля, но всё же он не мог скрыть радостного движения, увидев свою гвардию на севрских высотах. А когда он возвратился в Версаль, королева бросилась ему на шею, точно боялась, что больше никогда не увидит.
Чтобы вполне удовлетворить желания народа, Людовик XVI вернул Неккера и отставил новых министров. Лианкур, друг короля и полезнейший советник, был выбран собранием в президенты. Депутаты дворянства, которые, хотя и присутствовали при заседаниях, но всё еще не принимали в них участия, наконец уступили. Этим закончилось объединение сословий. С этой минуты переворот можно было считать свершившимся. Нация, завладев законодательной властью через собрание, а общественной силой – самостоятельно, отныне могла привести в исполнение любые меры, полезные для своих интересов. Отказав в равномерном распределении податей, двор сделал созыв Генеральных штатов необходимым; отказав в справедливом распределении власти в штатах, он лишился в них всякого влияния; наконец, стараясь вернуть это влияние, он поднял Париж и заставил нацию взять общественные силы в свои руки.
Глава III
Лафайет – Избиение Фулона и Бертье – Положение партий – Мирабо – Смуты в провинциях – Отмена феодальных прав и всех привилегий – Декларация прав человека
Между тем в столице, где так недавно учредили новую власть, господствовало всеобщее волнение. То же движение, которое толкнуло выборщиков к открытым действиям, толкало к тому же и прочие классы. Собранию подражала ратуша, ратуше – избирательные округа, избирательным округам – все гильдии. Портные, сапожники, булочники собирались в Лувре, на площади Людовика XV, на Елисейских Полях и совещались – вопреки многократным запрещениям муниципалитета. Среди этих противоречивых движений ратуша, споря с избирательными округами, тревожимая Пале-Роялем, была окружена препятствиями и едва успевала справляться с заботами, налагаемыми на нее громадными подведомственными ей делами. Она в себе одной совмещала гражданскую, судебную и военную власти.
Лафайет
В ратуше располагалась главная квартира милиции. Судьи, на первых порах неуверенные в размерах своей власти, туда же препровождали обвиняемых. Ратуша даже получила отчасти законодательную власть, так как ей поручено было сочинить для себя устав. Байи для этой цели потребовал от каждого избирательного округа по два представителя, названных представителями общины, или коммуны. Чтобы их хватило на все эти заботы, выборщики разделились на несколько комитетов: один, называемый комитетом исследований, занимался полицией; другой, комитет продовольствия, занимался комиссариатской частью, наиболее трудной и опасной из всех. Байи приходилось проводить за нею дни и ночи. Требовалось беспрестанно закупать зерно, потом отдавать его молоть, наконец, привозить в Париж через голодные деревни. Транспорт часто останавливали, нужны были сильные отряды, чтобы мешать разграблению повозок на больших дорогах и рынках.
Хотя казна продавала хлеб с убытком, чтобы булочники могли понизить цену выпекаемого хлеба, народ был недоволен; требовалось дальнейшее понижение цен, что еще больше увеличивало нужду в Париже, потому что туда съезжались закупать хлеб из деревень. Каждый боялся следующего дня и потому закупал большие количества, так что хлеб копился в немногих руках, а большинство все-таки ощущало в нем недостаток. Только при доверии торговые обороты идут бойко, а подвоз и распределение припасов совершаются легко и равномерно; нет доверия – коммерческая деятельность прекращается, количество припасов не соответствует более потребностям, потребности приводят к нужде, к недостатку прибавляется беспорядок и мешает равномерному распределению даже того, что имеется. Следовательно, попечение о продовольствии для столицы было самым тягостным из всех. Тяжкие заботы поглощали Байи и комитет. Всего труда целого дня едва хватало на один этот день; а на следующий начинались те же труды и тревоги.
Лафайету, начальнику гражданской милиции, приходилось не легче. Он зачислил в милицию всех французских гвардейцев, преданных революции, известное число швейцарцев и большое количество солдат, дезертировавших из полков в надежде на большое жалованье. Проделать это разрешил сам король. Эти войска все вместе составили так называемые роты центра. Милиция приняла название Национальной гвардии, облеклась в мундир и к двум цветам парижской кокарды прибавила белый, цвет королевского дома. Этой трехцветной кокарде Лафайет предсказал будущее кругосветное путешествие.
Два года Лафайет во главе этого славного войска старался сохранить общественное спокойствие и наблюдал за исполнением законов, каждый день издаваемых собранием. Потомок древнего рода, оставшегося незапятнанным среди разврата высшего общества, одаренный здравым умом, твердым духом, любовью к истинной славе, Лафайет скучал среди придворной пустоты и педантичной военной дисциплины. Не имея возможности дома предпринять ничего высокого, он увлекся благороднейшим делом того века и уехал в Америку в то самое время, когда в Европе нарочно распускали слух, будто она покорена. Там он сражался подле Вашингтона и помог освобождению Нового Света. Возвратившись знаменитостью, он был принят при дворе как диковинка и держал себя свободно и как американец. Когда философия, до тех пор бывшая для праздных вельмож лишь умственной забавой, потребовала от них жертв,
Лафайет один остался при своих мнениях, требовал Генеральных штатов, способствовал объединению сословий и в награду за это был избран главнокомандующим Национальной гвардии. Лафайет не имел ни тех сильных страстей, ни того гения, которые иногда заставляют использовать власть во зло; при его ровном нраве, тонком уме, неизменном бескорыстии, он был в высшей степени годен для роли, возложенной на него обстоятельствами, – роли блюстителя законов. Боготворимый войсками, хоть он и не пленял их победами, постоянно спокойный и находчивый среди яростной толпы, он оберегал порядок с неутомимой бдительностью. Партии, убедившись в его неподкупности, нападали на его способности, не имея возможности напасть на его честное имя. Однако он не обманывал себя насчет людей и событий, ценил двор и вождей партий в их настоящую цену, охранял их с опасностью для своей жизни, не уважая, и боролся против крамолы часто без надежды, но с твердостью человека, убежденного, что он обязан не отрекаться от общественного дела, даже когда ни на что более для него не надеется.
Лафайету, несмотря на его бдительность, не всегда удавалось удержать народную ярость в разумных пределах. Как бы ни была деятельна сила духа, она не может проявляться везде, против народа повсеместно возмущенного, в каждом человеке видящего врага. Нелепейшие слухи распускались ежеминутно, и им верили. То говорили, что солдаты Французской гвардии отравлены, то что хлеб умышленно потоплен или что его подвоз намеренно задержан. Люди, изо всех сил трудившиеся над обеспечением продовольствия, вынуждены были появляться перед чернью, которая осыпала их бранью или рукоплесканиями, смотря по расположению минуты. Однако не подлежит сомнению, что ярость народа, вообще не умеющая ни выбирать, ни долго разыскивать свои жертвы, часто бывала направляема – либо негодяями, получавшими деньги за то, чтобы усиливать беспорядки и делать их кровопролитными, либо просто отдельными личностями, питавшими более определенную и глубокую ненависть. За некими Фулоном и Бертье организовали погоню, и они были схвачены далеко от Парижа, очевидно с умыслом. Относительно них одно только было движением минуты – ярость народа, который их умертвил. Фулон, бывший интендант, человек жадный и бездушный, занимался чудовищными вымогательствами и был одним из министров, назначенных в преемники Неккеру и его товарищам. Его схватили в Витри, хотя он нарочно распустил слух о своей смерти. Его привезли в Париж. Народ был крайне ожесточен против него за то, что он как-то сказал: «Пускай эти канальи едят сено, если нет хлеба». Ему на шею привязали крапиву, дали в руки пучок репейника, а на спину привязали охапку сена. В таком виде он был приведен в ратушу. В то же время зять его Бертье де Савиньи был арестован в Компьене – по мнимому приказу Парижской коммуны. Коммуна тотчас же написала, чтобы его отпустили, но это не было исполнено. Его тоже повезли в Париж, пока Фулон в ратуше оставался предметом бешеных издевательств. Чернь хотела тотчас же умертвить его; уговоры Лафайета несколько успокоили ее, и она согласилась, чтобы Фулона судили, но требовала, чтобы суд над ним был совершен немедленно – тогда можно будет тут же насладиться казнью. Нескольким выборщикам предложили быть судьями, но они под разными предлогами отказались от ужасной должности. Наконец были назначены Байи и Лафайет, и им остался один выбор: или предать себя ярости толпы, или предоставить жертву ее участи. Однако Лафайет с большим искусством и твердостью старался выиграть время; он несколько раз обращал речь к толпе. Злополучный Фулон, сидевший возле него, имел неосторожность аплодировать его последним словам. «Смотрите! – воскликнул один из присутствовавших. – Они заодно!» От одного этого слова толпа ринулась на Фулона, и несчастный был повешен на фонарном столбе, несмотря на неимоверные усилия Лафайета. Убитому отрезали голову, насадили ее на пику и носили по всему городу.
Смерть Фулона
В эту минуту подъехал в кабриолете Бертье – под стражей и преследуемый толпой. Ему показали окровавленную голову, и он не догадался, что это голова его тестя. Его привели в ратушу, и там он произнес краткую речь, исполненную мужества и негодования. Снова схваченный толпою, он на мгновение вырвался, ему попало в руку какое-то оружие, он яростно защищался, но вскоре разделил участь несчастного Фулона.
Этими убийствами руководили враги не только Фулона, но и народного дела, потому что если ярость толпы мгновенно вспыхнула при виде двух ненавистных людей и если вообще движения ее происходили под влиянием минуты, то все-таки арест их явно был делом, устроенным заранее.
Лафайет, в горе и негодовании, решил подать в отставку. Байи и муниципалитет, испуганные его намерением, поспешили отговорить его. С общего согласия остановились на том, что он подаст, чтобы дать народу почувствовать свое неудовольствие, но затем уступит просьбам, с которыми непременно его обступят. Действительно, милиция и народ окружили его и обещали полнейшее повиновение. На этих условиях он согласился и с тех пор имел счастье препятствовать большей части беспорядков благодаря своей энергии и преданности войска.
Тем временем до Неккера в Базель дошли приказания короля и настоятельные просьбы собрания. Полиньяки, которых он торжествующими оставил в Версале, а теперь беглецами встретил в Базеле, первыми известили
Неккера о несчастьях, постигших престол, и ожидавшей его внезапной новой милости. Неккер отправился, триумфально проехал по Франции и, по обыкновению, уговаривал народ соблюдать тишину и порядок. Король принял его как-то неловко, но собрание – с восторгом. Он решил ехать в Париж, где ему тоже предстояло торжество, и намеревался просить у выборщиков освобождения из-под ареста барона Безенваля, хотя это был его личный враг. Тщетно Байи, не менее Неккера ненавидевший строгости, но вернее понимавший обстоятельства, обращал его внимание на опасность подобной меры и дал почувствовать, что эта милость, плод увлечения, будет отменена на другой же день как противозаконная, потому что собрание не может ни осуждать, ни миловать. Неккер заупрямился и решил испытать свое влияние на столицу. Он явился в ратушу 30 июля. Всё удалось ему сверх ожидания, и он мог считать себя всемогущим при виде восторгов толпы. Глубоко взволнованный, со слезами на глазах, Неккер просил общей амнистии, на которую последовало немедленное и единодушное согласие. Собрание выборщиков и собрание представителей продемонстрировали одинаковую предупредительность: выборщики провозгласили общую амнистию, представители постановили освобождение Безенваля.
Неккер удалился в упоении. Но ему предстояло скорое разочарование: Мирабо готовил ему жестокое пробуждение. В собрании, в избирательных округах, поднялся общий крик против чувствительности министра – «извинительной, но ошибочной». Со всех сторон доказывали, что административное собрание не может ни осуждать, ни миловать. Незаконно принятая ратушей мера была отменена, а барон Безенваль оставлен в заключении. Так оправдался совет мудрого Байи, которому Неккер не захотел следовать.
Между тем партии начинали обозначаться резче. Парламенты, дворянство, духовенство, двор, которым грозил один общий разгром, слили вместе свои интересы и действовали заодно. При дворе уже не было ни графа д’Артуа, ни Полиньяков. Среди аристократии господствовали ужас и отчаяние. После того как ей не удалось помешать злу, ей хотелось, чтобы народ совершил как можно больше злодеяний, чтобы самая крайность зла привела к так называемому добру. Эта система, смесь озлобления и коварства, называемая политическим пессимизмом, появляется у партии тогда, когда она столько потеряла, что легко может отказаться и от того, что остается, в надежде всё вернуть. Аристократия стала усердно осуществлять эту систему и нередко подавать голос вместе с самыми ярыми членами народной партии.
Обстоятельства рождают людей. Опасность, грозившая аристократии, породила ее защитника. Молодой Казалес, капитан в полку драгун королевы, обнаружил неожиданную силу ума и легкость стиля. Отличаясь простотой и точностью, он говорил вовремя и изящно то, что следовало говорить, и нельзя не сожалеть, что его трезвый ум был посвящен делу, которое могло привести что-нибудь в свою пользу, только претерпев гонения. Духовенство нашло себе защитника в лице аббата Мори. Этот аббат, опытный и неистощимый софист, отличался удачными выходками и большим хладнокровием; он умел мужественно выдерживать шумные нападки и смело бороться даже против очевидности. Таково было настроение аристократии и средства, которыми она могла располагать.
Правительство не имело никаких видов и никаких планов. Один Неккер, ненавистный двору, терпевшему его поневоле, имел не то чтобы план, но желание. Он всегда мечтал об английской конституции, конечно, самой лучшей сделке между народом, престолом и аристократией; но эта конституция, предложенная епископом Лангрским до учреждения единого собрания, сделалась невозможной. Высшее дворянство не соглашалось на учреждение двух палат, потому что это было бы компромиссом; мелкое дворянство – потому что оно не попало бы в верхнюю палату; народная партия – потому что она еще слишком боялась аристократии и не хотела оставлять ей никакого влияния. Лишь несколько депутатов, одни из умеренности, другие потому, что эта мысль принадлежала им, желали английских учреждений; из них-то и состояла вся партия министра, партия бессильная, потому что предлагала расходившимся страстям одни примирительные исходы и противопоставляла своим противникам только рассуждения, а не средства действовать.
В народной партии начинались расколы, потому что победа постепенно склонялась на ее сторону. Лалли-Толендаль, Мунье, Малуэ и прочие приверженцы Неккера одобряли всё, что делалось до тех пор, потому что это привело правительство к их воззрениям, то есть к английской конституции. Теперь они находили, что довольно: они примирились с правительством, а потому хотели остановиться. Народная партия, напротив, еще не считала нужным останавливаться. Эта партия всего свирепее производила свою агитацию в Бретонском клубе. Большинством его членов руководили искренние убеждения, но всё же и тут начинали появляться личные притязания, и побуждения частных интересов уже следовали за первыми порывами патриотизма. Барнав, молодой адвокат из Гренобля, одаренный светлым, легким умом и в высшей степени обладавший талантом выражения, образовал с братьями Ламетами триумвират, который сначала заинтересовал всех своей молодостью, но скоро получил влияние благодаря своей деятельности и талантам. Дюпор, уже упомянутый молодой член парламента, тоже примкнул к их кружку. В то время говорили, что Дюпор задумывает всё, что нужно делать, Барнав говорит, а Ламеты исполняют.
Наиболее отважный из народных вождей, всегдашний застрельщик, открывавший самые смелые прения, был Мирабо. Нелепые порядки старой монархии оскорбляли справедливые умы, приводили честные сердца в негодование; не могли они также не покоробить пылкую душу, не раздразнить сильных страстей, какие были у Мирабо. С колыбели он постоянно наталкивался на деспотизм – деспотизм отца, деспотизм администрации и судов, – и вся молодость его прошла в борьбе против деспотизма и ненависти к нему. Он родился в Провансе, был знатного рода. Рано сделался известен своим беспутством, ссорами и гневным красноречием. Благодаря путешествиям, наблюдениям, своей громадной начитанности, он всему научился и всё запомнил. Когда страсть в нем молчала, Мирабо вдавался в крайности, причуды или странности, даже софизмы, но страсть его преображала. Быстро возбуждаемый кафедрой и присутствием оппонентов, ум его загорался; первые мысли выходили путаными, неясными, речь его прерывалась, он весь трепетал; но скоро всходил в нем свет, тогда голова его в одно мгновение совершала то, что дается годами труда: стоя на той же кафедре, он ежеминутно делал открытия, речь его лилась живо и совершала неожиданные повороты. Из-за противоречивости она становилась настойчивее и яснее, он представлял слушателям истину в поразительных или страшных образах. В самых затруднительных обстоятельствах, когда умы бывали утомлены продолжительными прениями или устрашены опасностью, у Мирабо вырывался вопль, решительное слово, его безобразная голова сияла гением – и собрание издавало новые законы или принимало великодушные решения.
Сам гордясь своими высокими качествами, не огорчаясь своими пороками, попеременно надменный и сговорчивый, он одних восхищал лестью, других стращал сарказмами и всех увлекал за собою странной силой притяжения. Его партия была везде – в народе, в собрании, даже при дворе, – словом, везде, где он в данную минуту говорил. Мирабо держал себя с людьми запросто, умел быть справедливым и превозносил юный талант Барнава, хотя не любил его молодых друзей; он ценил глубокий ум Сийеса и потакал его бурному нраву; в Лафайете он боялся чрезмерной чистоты, в Неккере ненавидел крайний ригоризм[38 - Ригоризм – строгое проведение какого-либо принципа, исключающее компромиссы, учет других принципов, отличных от исходного и т. д. – Прим. ред.], гордый разум и претензию управлять революцией, которая, конечно же, принадлежала ему одному. Мирабо недолюбливал герцога Орлеанского и его шаткое честолюбие и, как мы скоро увидим, никогда не имел с ним общих интересов. Один, вооруженный собственным гением, он нападал на деспотизм, который поклялся уничтожить. Между тем, если он не допускал суетностей монархии, то еще менее допускал остракизмы республик, но, не удовлетворив еще своей мести против вельмож и власти, продолжал разрушать. К тому же пожираемый безденежьем, недовольный настоящим, Мирабо шел к неизвестной будущности, подавая повод ожидать всего от своих талантов, честолюбия, пороков и своих расстроенных денежных обстоятельств и в то же время возбуждая подозрения и клевету цинизмом своих речей.
Так были разделены Франция и партии. Первые несогласия между народными представителями возникли по случаю преступлений, совершенных толпой. Мунье и Лалли-Толендаль требовали, чтобы была издана торжественная прокламация к народу с порицанием этих преступлений. Собрание, чувствуя бесполезность такой меры и не желая восстанавливать против себя поддержавшую его толпу, сначала не соглашалось, но потом, уступая настояниям некоторых членов, издало прокламацию, которая оказалась, как и предвидели, совершенно бесполезной, потому что словами не усмиряют восставшего народа.
Волнение господствовало всеобщее; всюду распространился внезапный ужас. Слово разбойники, которые появлялись во всех беспорядках, было у всех на устах, образ их – у всех в уме. Двор сваливал их злодеяния на народную партию, народная партия – на двор. Вдруг во все концы Франции полетели курьеры, возвещая, что разбойники идут и косят незрелую жатву. В несколько дней вся Франция вооружилась чем попало для встречи разбойников, а разбойников всё не было. Эта хитрость, которая сделала переворот 14 июля всеобщим, заставив всю нацию вооружиться, приписывалась в то время всем партиям, а впоследствии – главным образом народной, так как результаты оказались выгоднее всего этой партии.
Удивительно, что партии так усердно сваливали одна на другую ответственность за хитрость – скорее ловкую, нежели преступную. Ее отнесли на счет Мирабо, который гордился бы ею, а между тем отрекался от нее. Она была весьма в характере Сийеса, и некоторые полагали, что это он подсказал этот ход герцогу Орлеанскому. Еще кто-то, наконец, обвинил в ней двор на том основании, что этих курьеров задерживали бы на каждом шагу, если бы о них не знало правительство, и что двор, не считая революцию всеобщей, а только простым бунтом парижан, вздумал вооружить провинции, желая противопоставить их Парижу. Как бы там ни было, эта выдумка обратилась на пользу нации, дав ей в руки оружие и возможность самой заботиться о своей безопасности и охранять свои права.
Городское население сбросило с себя оковы – сельское захотело сделать то же. Оно стало отказываться платить феодальные налоги, начало преследовать притеснявших его господ, жечь усадьбы, жечь бумаги на владение имениями, и в некоторых местностях предавалось ужасным жестокостям. В особенности один прискорбный случай вызвал это повсеместное брожение. Некто де Мемэ, владелец поместья Кинси, давал праздник в окрестностях своей усадьбы. Весь народ собрался на этот праздник и веселился, как вдруг огонь попал в бочонок с порохом, и последовал убийственный взрыв. Впоследствии выяснили, что это была чистая случайность, следствие неосторожности, но тогда ее приписали измене со стороны де Мемэ. Слух быстро разнесся и толкнул крестьян, ожесточенных убогим житьем и продолжительными страданиями, на страшные, бесчеловечные поступки.
Все эти разнообразные бедствия случились после 14 июля. Начинался август, и следовало вновь восстановить действие законов и правительства; но чтобы приняться за дело с успехом, следовало начать с возрождения государства посредством реформ в учреждениях, наиболее оскорблявших народ и наиболее располагавших к восстаниям. Часть нации, подчиненная другой части, несла множество повинностей, называемых феодальными; одни из них, именуемые доходными, заключались в разорительных для крестьян пошлинах; другие, именуемые почетными, – в унизительных услугах и знаках почтения. Эти-то остатки средневекового варварства следовало истребить из уважения к человечеству. Эти привилегии, считавшиеся имуществом и даже названные так королем в его декларации от 23 июня, не могли быть отменены простыми прениями. Надо было, вызвав внезапное вдохновенное движение, привести землевладельцев к добровольному отречению от них.
Собрание в то время обсуждало декларацию о правах человека. Сначала обсуждался вопрос, составлять ли такую декларацию, и утром 4 августа было решено составить ее и поместить в начале конституции. Вечером того же дня комитет внес доклад о смутах и средствах к их прекращению. Виконт Ноайль и герцог д’Эгильон взошли на кафедру и стали говорить, что применять силу для усмирения народа недостаточно, что нужно уничтожить причину его страданий, и тогда волнение, последствие этих страданий, тотчас же уймется. Наконец, они предложили отменить все притеснительные повинности, которые под названием феодальных привилегий душили сельское население. Ле Гуэи де Керангаль, землевладелец из Бретани, появляется на кафедре в одежде земледельца и представляет ужасающую картину феодальных порядков. Великодушие, возбужденное в одних, гордость, задетая у других, вызвали внезапный порыв бескорыстия – каждый бросается к кафедре отрекаться от своих прав. Дворяне первыми подают пример, духовенство с неменьшим рвением спешит последовать им. Собранием овладевает какое-то опьянение; устраняя лишние прения, все сословия, все обладатели каких бы то ни было привилегий тоже торопятся со своими отречениями. Вслед за депутатами двух высших сословий являются с приношениями депутаты общин. Не имея личных привилегий, они отдают исключительные права провинций и городов. Некоторые жертвуют пенсиями, а один член парламента, не имея ровно ничего, чем мог бы пожертвовать, обещает свою преданность общему делу. На первый раз довольствуются перечислением пожертвований, а составление статей откладывается до следующего дня.
Увлечение стало общим, но среди этого энтузиазма легко было видеть, что некоторые не совсем искренние обладатели привилегий старались довести дело до опасной крайности. От действия ночи и этого толчка могло произойти всё что угодно, и Лалли-Толендаль, заметив опасность, переслал президенту записочку: «Всего можно опасаться от увлечения собрания, прекратите заседание». В ту же минуту к нему подбежал один депутат, в волнении пожал ему руку и сказал: «Отдайте нам королевское право утверждения – и мы друзья». Тогда Лалли-Толендаль, чувствуя необходимость привязать революцию к королю, предложил провозгласить его восстановителем французской свободы. Предложение это приняли с восторгом; постановили благодарственное молебствие, и собрание разошлось среди ночи.
В эту достопамятную ночь было постановлено следующее: отмена личной неволи; право выплачивать штрафы вместо отбывания повинностей; отмена подсудности помещикам; уничтожение исключительных прав касательно охоты, голубятен, содержания кроликов и прочего; выкуп десятины; равномерное распределение податей; допущение всех граждан к военным и гражданским должностям; отмена продаваемости должностей; уничтожение всех привилегий, принадлежавших городам и провинциям; преобразование цехового устройства; отмена пенсий, полученных без соответствующих претензий и заслуг.
Эти резолюции были приняты в общей форме, оставалось привести их в форму декретов; вот тут-то, когда прошел первый порыв великодушия и каждый возвратился к своим интересам, одни естественным образом должны были стараться расширить, а другие сузить сделанные уступки. Прения оживились, и запоздалое неразумное сопротивление убило всякое чувство благодарности.
Решили отменить феодальные повинности, но надо было различить, какие из этих повинностей следовало просто отменить, а от каких откупиться. Водворяясь на покоренной территории, завоеватели, первые основатели дворянства, некогда обложили земли данью, а людей – податями. Они сами заняли часть земель и возвратили ее возделывателям лишь постепенно, за постоянную плату. Так как продолжительное обладание с последующими многократными передачами составляет имущество, то все подати, наложенные на людей и земли, приняли тот же характер. Стало быть, Учредительному собранию приходилось нападать на собственность. При таких условиях оно должно было судить об этих видах имущества не с той точки зрения, справедливо ли они приобретены, а насколько они обременительны для общества. Собрание отменило личные заслуги, а так как многие из этих заслуг были обращены в денежные подати, то отменило и эти подати. В числе податей, наложенных на земли, депутаты отменили те, что являлись очевидным следствием рабства, как, например, пошлину за передачу земли, и объявили подлежащими выкупу все постоянные доходы, бывшие ценой, за которую дворянство некогда уступило земледельцам часть земли. Следовательно, ничто не может быть нелепее обвинения Учредительного собрания в нарушении права собственности, так как решительно всё было обращено в имущество, и странно, что дворянство, столь долго посягавшее на собственность, то требуя себе повинностей, то не платя податей, вдруг выказало такую щепетильность, как только дело коснулось его прерогатив. Сеньоральные суды тоже были названы имуществом, потому что много веков передавались по наследству; но собрание не устрашилось этого названия и отменило их, с тем только, чтобы они были сохранены, пока будет сделано распоряжение о замене их другими.
Исключительное право охоты тоже стало предметом оживленных прений. Несмотря на неосновательное возражение о том, что скоро всё население будет вооружено, если дать всем право охоты, таковое право было предоставлено каждому на пространстве собственных земель. Привилегированные голубятни были запрещены. Собрание решило, что каждому вольно иметь их, но во время жатвы голубей можно убивать как простую дичь, если они будут летать на чужие поля. Участки, предоставленные исключительно для королевской охоты, упразднили все, при этом постановили, что для обеспечения личного удовольствия короля будут приняты меры, совместные со свободой и собственностью.
Одна статья вызвала особенно ожесточенные прения. В ночь на 4 августа собрание объявило десятины подлежащими выкупу. Когда дело дошло до редактирования статей, депутаты хотели отменить десятины без выкупа, прибавляя, что о содержании духовенства будет заботиться государство. Конечно, в этом имелась неправильность формы, потому что это значило вернуться к уже принятому решению, чтобы изменить его. Но Тара ответил на это возражение, что, в сущности, это уже есть выкуп, только платится он не плательщиками десятины, а государством, так как оно обязывается содержать духовенство. Аббат Сийес, который оказался в числе защитников десятины и, по общему мнению, небескорыстным защитником, согласился с тем, что государство действительно выкупает десятину, но этим грабит всю нацию, возлагая на нее долг, который должен был лежать лишь на одних землевладельцах. Эти слова, сказанные очень резко, сопровождались едкой фразой, столько раз с тех пор повторенной: «Вы хотите быть свободными, а не умеете быть справедливыми!» Хотя Сийес не считал возможным искать ответ на это возражение, ответить было легко: расходы, связанные с вероисповеданием, должны лежать на всех, и следует ли возложить их исключительно на землевладельцев, об этом надлежит судить государству; оно никого не обсчитывает, распределяя расходы так, как считает лучшим. Десятина, непосильно обременяя мелких землевладельцев, убивала земледелие, значит, государство обязано было переместить этот налог, – Мирабо доказал это с неотразимой очевидностью.
Духовенство предпочитало десятину, предвидя весьма верно, что жалованье, которое перепадет ему от казны, будет соразмерно его действительным потребностям. Оно представляло себя собственником, обладавшим десятиной с незапамятных времен и в силу постоянных дарственных актов, и сильно напирало на часто повторяемый довод о продолжительности обладания, тогда как этот довод ровно ничего не доказывал: им легко было бы подтвердить и узаконить всякое продолжительное злоупотребление. Духовенству ответили, что десятина есть не имущество, а только пользование, что она не может передаваться и не имеет главнейших отличительных черт имущества, что она очевидно составляет просто подать, налагаемую в пользу духовенства, и что государство обязывается заменить эту подать другой. Духовенство возмутилось мыслью получать жалованье и заявило сильнейшее неудовольствие, а Мирабо, великий мастер решительных и метких ударов разумными доводами, приправленными иронией, ответил перебивавшим его членам, что ему известны только три способа существования в обществе: воровать, нищенствовать или получать жалованье.