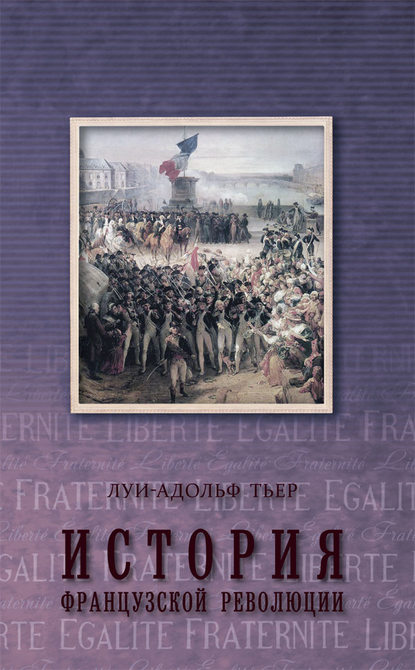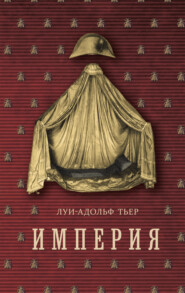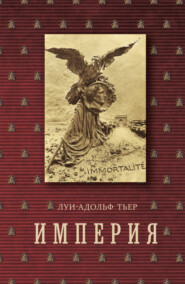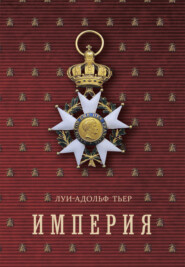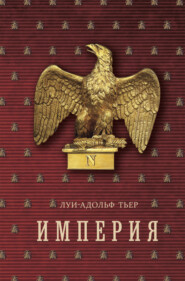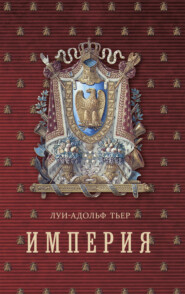По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История Французской революции. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так люди, которым следовало бы стараться общими усилиями спасти и защитить революцию – их общее творение, – не доверяли друг другу и позволяли себя компрометировать. Из-за клеветы роялистов последние дни этого славного собрания окончились среди смут и бурь.
Тальен наконец потребовал назначения комиссии из пяти членов на время перехода от одного правительства к другому. Конвент назначил его самого, Дюбуа-Крансе, Флорана Гюйо, Ру, депутата Марны, и Пон де Вердена. Целью комиссии было предотвращение роялистских интриг на выборах и успокоение республиканцев насчет состава нового правительства. Гора, исполненная рвения, вообразила, что эта комиссия осуществит все ее желания, и распустила слух, будто выборы отменены и введение в действие конституции будет отложено на неопределенное время. Монтаньяры уверили сами себя, что еще не пришло время предоставить Республику самой себе, что роялисты не совсем разбиты и нужно еще на некоторое время оставить революционное правительство, чтобы окончательно сокрушить их.
Контрреволюционеры нарочно стали распускать те же слухи. Депутат Тибодо, – до тех пор не державшийся ни монтаньяров, ни термидорианцев, ни монархистов, но остававшийся искренним республиканцем и теперь избранный тридцатью двумя департаментами, – естественно не мог относиться к состоянию умов с таким недоверием, как термидорианцы. Он думал, что Тальен и его партия клевещут на нацию, принимая против нее столько предосторожностей; ему даже представилось, что у Тальена имеются какие-то личные замыслы, что он хочет встать во главе Горы и сделаться диктатором под предлогом защиты Республики от роялистов.
Тибодо с горечью восстал против этого мнимого плана диктатуры и позволил себе неожиданный выпад против Тальена, удививший всех республиканцев, потому что они не понимали его причины. Эта выходка повредила Тибодо во мнении наиболее настороженных членов собрания и заставила их подозревать за ним намерения, которых он не имел. Тибодо напомнил, что был одним из тех, кто приговорил Людовика XVI к смерти, но участие в казни уже не казалось вполне достаточной гарантией. Итак, несмотря на твердую преданность Республике, выпад Тибодо против Тальена повредил ему во мнении патриотов и заслужил преувеличенные похвалы со стороны роялистов. Конвент перешел к очередным делам и дождался отчета, составленного Тальеном от имени комиссии пяти. Результатом трудов этой комиссии явился проект декрета, содержавший следующие положения:
1. Увольнение со всех должностей – гражданских, муниципальных, судебных и военных – эмигрантов и родственников эмигрантов впредь до заключения всеобщего мира;
2. Разрешение на выезд из Франции, с правом увезти с собой имущество, всем, кто не пожелает жить по законам Республики;
3. Отставление от службы всех офицеров, не служивших после 10 августа или возвращенных на свои места после 15 жерминаля, то есть после работы, проделанной Обри.
Все эти положения были приняты.
Затем Конвент официально, декретом, заявил о присоединении Бельгии к Франции и разделении ее на департаменты. Наконец, 26 октября 1795 (4 брюмера года IV), перед тем как разойтись, депутаты решили ознаменовать великим актом милосердия конец своей долгой и бурной деятельности: постановили, что смертная казнь будет отменена во Французской республике со дня заключения всеобщего мира; переименовали площадь Революции в площадь Согласия; наконец, объявили амнистию за все проступки, касающиеся революции, исключая бунт 13 вандемьера. Это равнялось освобождению представителей всех партий, кроме Леметра, так как он был единственным из заговорщиков, против которого имелись достаточные улики.
Приговор к ссылке, произнесенный Бийо-Варенну, Колло д’Эрбуа и Бареру, отмененный потом, с тем чтобы заново судить, то есть приговорить уже к смерти, теперь утвердили снова. Барера, который один еще не был увезен, велели посадить на корабль.
Все тюрьмы должны были раскрыть свои двери. В два часа пополудни, когда президент Конвента произнес следующие слова: «Национальный конвент объявляет, что порученное ему дело исполнено и сессия его окончена!» – тысячекратно повторяемые крики «Да здравствует Республика!» раздались отовсюду.
Так окончилась продолжительная и достопамятная сессия Национального конвента. Память о себе Конвент оставил грозную; однако в его пользу можно привести один факт – такой важный, что все упреки отпадают сами собой: Конвент спас Францию от иноземного вторжения! Предшествовавшие собрания завещали ему Францию, окруженную опасностями; он же завещал Директории и Империи Францию спасенную.
Если бы в 1793 году эмиграция вернулась во Францию – не осталось бы и следа всего, что создало Учредительное собрание: во Франции водворилась бы кровавая, отвратительная анархия, подобная той, которая так давно терзает Пиренейский полуостров. Дав отпор вторжению соседей, сговорившихся погубить Французскую республику, Конвент обеспечил революции преемственность, дал ее творениям время укрепиться и приобрести силу.
Людям, с гордостью величающим себя патриотами 1789 года, Конвент может смело ответить: «Вы начали борьбу, а мы поддержали ее и довели до конца».
Глава XLVI
Назначение пяти директоров – Вступление в силу законодательного корпуса и Директории – Затруднительное положение нового правительства – Возобновление военных действий в Бретани и Вандее – Финансовый план, предлагаемый Директорией – Последние усилия Шаретта – Результаты кампании 1795 года
Пятое брюмера года IV (27 октября 1795 года) было днем, назначенным для вступления в силу директори-альной конституции. В этот день две трети Конвента, остающиеся в законодательном корпусе, должны были соединиться с вновь выбранной третью; потом законодательный корпус должен был разделиться на два совета и приступить к назначению пяти директоров, долженствовавших принять на себя исполнительную власть. В это время прежние правительственные комитеты должны были еще продолжать свою деятельность, власть как бы вверялась им на сохранение. Члены Конвента, разосланные по армиям и департаментам, должны были продолжать свое дело до оповещения их о действительном вступлении в должность Директории.
Господствовало сильное волнение умов. Патриоты умеренные и патриоты экзальтированные выказывали одинаковое раздражение против партии, напавшей на Конвент 13 вандемьера; они были исполнены опасений и стремились к сплочению против роялизма. Они громогласно заявляли, что в Директорию и вообще всюду следует брать лишь людей, всецело преданных делу революции. Они не доверяли членам новой трети и встревожено наводили справки об их именах, прошлой жизни и убеждениях.
Секционисты, встреченные картечью 13 вандемьера, но после победы ощутившие на себе милосердие власти, опять зазнались и стали дерзки. Они показывались всюду, похвалялись своими подвигами, держали в салонах дерзкие речи про великое собрание, только что сложившее с себя власть, и делали вид, будто рассчитывают на депутатов новой трети.
Между тем эти депутаты, которым предстояло занять места среди ветеранов революции в качестве представителей нового общественного мнения, сложившегося во Франции в результате стольких бурь, не оправдывали ни опасений республиканцев, ни надежд контрреволюционеров. Между ними находились несколько членов прежних собраний: Воблан, Пасторе, Дюма, Дюпон де Немур и честный ученый Тронше, оказавший такие огромные услуги французскому законодательству. Было также много новых людей – не тех необычных людей, которые блистают в начале всякой революции, но тех талантов, которые в политике, как и в искусстве, часто следуют за гениями: такие юрисконсульты и администраторы, как Порталис, Симеон, Барбе-Марбуа и Тронсон дю Кудре.
Новые избранники, за исключением весьма немногих отъявленных контрреволюционеров, принадлежали к разряду умеренных, которые не принимали никакого участия в последних событиях, следовательно, не могли сделать ничего дурного и ни в чем ошибиться, а только уверяли в своей преданности революции, отделяя ее от того, что называли ее злодеяниями. Такие люди, конечно, должны были быть весьма склонны критиковать прошедшее, но они уже успели в значительной степени примириться с Конвентом и Республикой благодаря тому, что выбор пал на них: ведь каждый охотно прощает порядку, в котором находит себе место. Притом, чувствуя себя чужими в Париже и в политике, ощущая еще некоторую робость на этих новых для них подмостках, они искали знакомства и расположения наиболее почитаемых членов Национального конвента.
Таково было настроение умов 27 октября 1795 года. Недавно избранные члены Конвента сближались и старались договориться между собой насчет предстоящих назначений, чтобы удержать правительственную власть в своих руках. В силу знаменитых декретов 5 и 13 фрюктидора депутатов в новом законодательном корпусе должно было быть пятьсот. Если бы этого числа не оказалось, то члены, присутствующие на собрании 5 брюмера, должны были составить избирательное собрание и пополнить его. В Комитете общественного спасения был составлен проект списка, в который вошли много отъявленных монтаньяров. Список этот был одобрен не весь. Между тем в него внесли имена лишь хорошо известных патриотов. В этот день все собравшиеся депутаты образовали одно избирательное собрание. Во-первых, они пополнили две трети из членов Конвента, затем составили список всех женатых и имеющих не менее сорока лет от роду депутатов и с помощью жребия выбрали из них двести пятьдесят, чтобы составить Совет старейшин.
На следующий день Совет пятисот собрался в Манеже, в зале заседаний Учредительного собрания, и выбрал Дону своим президентом, а Ревбеля, Шенье, Камбасереса и Тибодо – секретарями. Совет старейшин собрался в зале заседаний Конвента и избрал Ларевельера-Лепо президентом, а Бодена, Ланжюине, Бреара и Шарля Делакруа – секретарями. Это был выбор весьма достойный, доказывавший, что в обоих советах большинство можно было считать искренними республиканцами. Советы объявили себя организованными, уведомили друг друга о том посланиями, временно утвердили полномочия депутатов и отложили их проверку до тех пор, когда будет организовано правительство.
Самое важное из всех избраний еще оставалось неосуществленным – избрание пяти лиц, которым собирались вверить исполнительную власть. От этого избрания зависели судьбы и Республики, и обычных людей. Обладая правом назначать должностных лиц и всех офицеров армий, директоры могли составить правительство по своему усмотрению и заполнить его людьми, преданными Республике или враждебными ей. Они сверх того обладали властью над судьбой обычных граждан, могли открывать или закрывать для них поприще государственных должностей, награждать или оставлять без поощрения талантливых людей, оставшихся верными делу революции. Влияние им предстояло громадное. Поэтому все были озабочены вопросом: кто же будет избран?
Бывшие члены Конвента сошлись для совещаний об этом вопросе. Они решили выбрать людей, участвовавших в произнесении смертного приговора Людовику XVI, чтобы заручиться гарантиями. Мнения, некоторое время колебавшиеся, наконец остановились на Баррасе, Ревбеле, Сийесе, Ларевельере-Лепо и Летурнере. Баррас оказал республике большие услуги во время событий термидора, прериаля и вандемьера; он некоторым образом ратовал против всех фракций и заговоров. Дело 13 вандемьера в особенности придало ему вес, хотя вся честь военных распоряжений принадлежала молодому Бонапарту. Ревбель, запертый в Майнце во время осады и часто призываемый в комитеты после 9 термидора, примкнул к термидорианцам, выказал способность и прилежание к делам и некоторую силу характера. На Сийеса смотрели как на первого гения созерцания того времени. Ларевельер-Лепо добровольно присоединился к жирондистам в день объявления гонений против них, 9 термидора вернулся к своим собратьям и всеми силами боролся против обеих фракций, попеременно нападавших на Конвент. Это был патриот, человек кроткий и гуманный, единственный жирондист, на которого не падали подозрения Горы и добродетелей которого не смели отрицать контрреволюционеры. У Ларевельера был только один недостаток – внешнее уродство; многие говорили, что уж очень не пойдет ему директорская мантия. Наконец, Летурнер, известный патриот, уважаемый за сильный характер, был прежде инженерным офицером и в последнее время заменил Карно в Комитете общественного спасения, но далеко отстал от него по даровитости. Некоторым хотелось, чтобы в число пяти директоров вошел кто-то из наиболее отличившихся генералов – Клебер, Моро, Пишегрю или Гош; но решили отстранить их из опасения, чтобы военные не получили слишком большого влияния.
Чтобы обеспечить выбор этих пяти лиц, бывшие члены Конвента договорились применить средство если не противозаконное, но весьма отзывавшееся хитростью и обманом. Согласно положениям конституции Совет пятисот должен был при каждом выборе представлять Совету старейшин список десяти кандидатов на каждую должность, а Совет старейшин уже из этих десяти выбирал одного. Следовательно, нужно было представить список из пятидесяти кандидатов. Бывшие члены Конвента, которые располагали большинством в Совете пятисот, договорились поставить во главе списка Барраса, Ревбеля, Сийеса, Ларевельера-Лепо и Летурнера, а затем набрать сорок пять неизвестных имен, из которых не было бы возможности сделать выбор.
Этот план был выполнен в точности; только когда в списке не хватило одного имени, прибавили Камбасереса, имя весьма удобное и новой трети, и всем умеренным. Совет старейшин, когда ему представили список, заметил уловку и остался явно недоволен. Дюпон де Немур, показавший себя уже в предыдущих собраниях отъявленным противником если не Республики, то Конвента, потребовал отсрочки. «Без сомнения, – сказал он, – те сорок пять человек, которые дополняют этот список, достойны нашего выбора, ибо, в противном случае, это значило бы стараться явно склонить решение в пользу пяти человек. Без сомнения, эти имена принадлежат людям скромным, добродетельным и тоже достойным явиться представителями великой страны; но нужно время, чтобы побольше узнать о них. Самая скромность их, причина безвестности, вынуждает нас наводить справки, чтобы оценить их достоинства, и дает нам право требовать на это времени».
Старейшины, хоть и недовольные уловкой, согласились во мнении с пятьюстами и кончили тем, что утвердили выбор, о котором те так хлопотали. Ларевельер-Лепо из 218 голосов получил 216 – до такой степени единодушно было уважение к этому превосходному человеку; в пользу Летурнера оказалось 189 голосов, в пользу Ревбеля – 176, в пользу Сийеса – 156, в пользу Барраса – 129. Баррас, принадлежа к известной партии, неизбежно должен был возбудить больше споров и получить меньше голосов.
Эти пять назначений доставили революционерам большое удовольствие: они сочли правительственную власть отныне им обеспеченной. Оставался вопрос: примут ли сами избранные свои должности? Относительно трех из них сомнений не было; но о двоих знали, что они не отличаются большой любовью к власти. Ларевельер-Лепо, человек простой, скромный, мало способный управлять делами и людьми, искал и находил наслаждение только в Ботаническом саду; весьма сомнительно было, что его удастся уговорить принять предлагаемый сан. Сийес, при своем могучем уме, способном всё постичь, был, однако, неспособен к правительственным заботам. Вдобавок он был сердит на республику, устроенную не так, как он хотел, и потому имел мало охоты занимать место во главе ее.
К Ларевельеру подступились с доводом, всесильным для его честной души: объявили, что его присутствие в числе сановников, которым поручается управлять страной, необходимо и полезно стране. Он покорился. Что касается Сийеса, его не смогли уговорить; он отказался, уверяя, что считает себя неспособным к правительственному делу.
Надо было позаботиться о замене. Был во Франции человек, который пользовался громадным уважением в Европе: Карно. Его несомненные военные заслуги увеличивались с каждой кампанией; ему приписывали все победы французов; притом все знали, что он, хоть и был членом пресловутого Комитета общественного спасения и товарищем Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона, но выступал против них с большой энергией. В Карно видели слияние военного гения со стоическим характером. Он и Сийес – вот две самых ярких деятеля того времени. В видах достоинства Директории ничего лучше сделать было нельзя, как заменить одного из этих двух мужей другим. И так имя Карно внесли в новый список, рядом с именами, которые не оставляли возможности другого выбора, то Камбасерес и в этот раз был внесен в список, а за ним – восемь совершенно неизвестных имен. Совет старейшин, однако, не задумываясь утвердил Карно; он получил 117 голосов из 213 и сделался одним из пяти директоров.
Итак, Баррас, Ревбель, Ларевельер-Лепо, Летурнер и Карно стали главными сановниками и правителями Франции. В числе этих пяти человек не было ни одного гениального или хотя бы выдающегося – за исключением Карно. Но как быть в конце кровавой революции, поглотившей за несколько лет несколько поколений даровитых людей? В собраниях не осталось более ни одного замечательного оратора; еще не явился ни один знаменитый дипломат. Только Бартелеми своими мирными договорами с Испанией и Пруссией приобрел некоторую известность; но он не внушал ни малейшего доверия патриотам. В армиях уже появились великие полководцы, но еще не было ни одного, который приобрел бы решительное первенство; притом опять-таки – военным не доверяли.
Эти сановники вступали в управление делами при условиях истинно плачевных, и, чтобы принять на себя такую задачу, одним нужно было иметь много мужества и доблести, другим – много честолюбия. Они застали страну, так сказать, на другой день после борьбы, в которой необходимость заставила призвать на помощь одну фракцию против другой. Победа 13 вандемьера была не из тех, которые влекут за собой террор и, отчасти закабалив правительство победившей партии, по крайней мере избавляют его от партии побежденной. Патриоты опять восстали, а секционисты не покорились. Париж был переполнен интриганами, волновался честолюбием и терпел страшную нужду.
Как и перед событиями прериаля, во всех больших общинах нечего было есть; бумажные деньги вносили неурядицу в торговые сделки и оставляли правительство без средств. После того как Конвент на захотел отдавать национальные имущества за цену втрое больше их стоимости по оценке 1790 года, продажи приостановились; ассигнации, которые могли вернуться в казначейство только посредством продаж, остались в обращении, и всё падало в цене с ужасающей скоростью. Тщетно придумали специальную шкалу расчетов, чтобы уменьшить потери тех, кто получал ассигнации: согласно этой шкале ценность ассигнаций уменьшалась лишь до одной пятой части номинальной цены, тогда как в действительности они не имели и сто пятидесятой доли этой цены. Казна, получая все налоги одними ассигнациями, терпела такое же разорение, как и простые люди. Половину земельного налога, правда, казна брала натурой, что доставляло ей кое-какие припасы для прокормления армий, но средств перевозки часто не хватало, и эти припасы гнили в магазинах.
Наконец, в довершение всего, казне приходилось, как известно, кормить Париж. Она раздавала пищу и брала за нее ассигнациями плату, едва покрывавшую сотую долю расходов. Это, впрочем, было единственно возможное средство снабжать хотя бы хлебом лиц, получавших ренту, и чиновников, которым жалованье платилось ассигнациями; но расходы от этого возросли до неимоверной цифры. Казна выпустила огромное количество ассигнаций, так что в несколько месяцев выпуск с 12 миллиардов дошел до 29. Вследствие прежних сумм, изымаемых из обращения и вновь постоянно получаемых, в обращении в действительности находилось 19 миллиардов – цифра, превосходящая все цифры, известные в финансовом мире. Чтобы еще не увеличивать выпуски, комиссия пяти, учрежденная в последние дни Конвента с поручением предложить полицейские и финансовые меры, внесла и заставила принять проект чрезвычайной военной контрибуции, равняющейся двадцать раз земельному налогу и десять раз пошлине с патентов, что могло дать от 6 до 7 миллиардов ассигнациями. Но это было решено только в принципе, а пока поставщикам выдавались центовые билеты, которые они получали по разорительному курсу: 5 франков ренты получали за 10 франков капитала. Кроме того, сделали попытку устроить добровольный заем по 3 %, но он был разорителен, притом подписчиков набиралось мало. Среди этой вопиющей нужды общественные должностные лица, не имея возможности существовать на свое жалованье, выходили в отставку. Солдаты уходили из армий, которые лишились таким образом трети своего действительного состава, и возвращались в города, где малодушие правительства дозволяло им проживать безнаказанно.
Итак, задача пяти сановников, призванных к верховной административной власти, сводилась к следующему: кормить пять армий и громадную столицу с правом выпускать только ассигнации, не имеющие никакой цены; набирать людей для этих армий и перестроить всё правительство, лавируя между двух враждующих фракций. В человеческих обществах так велика потребность в порядке, что они сами всячески способствуют восстановлению такового и всячески содействуют тем, кто берется заново организовать их. Но всё же нельзя не признать мужества и стараний тех, кто осмеливается принять на себя подобное дело.
Пять директоров, прибыв в Люксембургский дворец, не нашли в нем никакой мебели. Привратник одолжил им хромоногий стол, лист почтовой бумаги и чернильницу, и они сели писать первое послание, извещающее оба совета, что Директория вступает в должность. В казначействе не было ни одного металлического су. Каждую ночь печатали ассигнации на завтра. По поводу продовольствия господствовала страшная неизвестность, и в течение нескольких дней не было возможности ничего раздать народу, кроме нескольких унций хлеба или риса.
Первое, чего потребовали директоры, – денег. По новой конституции каждой трате должно было предшествовать требование нужных сумм по каждому министерству. Оба совета утверждали требование, и тогда казначейство, которое было выведено из-под зависимости от Директории, отсчитывало нужные суммы. Итак, Директория потребовала три миллиарда ассигнациями, которые ей были выданы и которые надо было немедленно обменять на звонкую монету.
Казначейству или Директории надлежало устроить эту операцию? Вот первое представившееся затруднение: казначейство, пускаясь в сделки, вышло бы из границ простого надзора. Однако затруднение разрешили тем, что операцию размена поручили самому казначейству. Три миллиарда могли дать – самое большее – от двадцати до двадцати пяти миллионов экю. Такой суммы могло хватить только на первые текущие надобности. Директория немедленно принялась разрабатывать новый финансовый план и уведомила оба совета, что представит им этот план через несколько дней. А пока надо было кормить Париж, которому буквально нечего было есть. Организованной системы реквизиции больше не было. Директория испросила разрешения потребовать от департамента Сены двести пятьдесят тысяч квинталов хлеба в счет земельного налога, который нужно было собирать в марте.
Затем Директория собиралась потребовать множества законов для подавления беспорядков всякого рода и в особенности дезертирства, от которого с каждым днем убывала сила армий. В то же время она стала выбирать людей для состава администрации. Мерлен из Дуэ был назначен министром юстиции; Обера-Дюбайе выписали из Шербурской армии, чтобы отдать ему портфель военного министра; Шарль Делакруа был призван к министерству иностранных дел; Фепу – к министерству финансов; Бенезека, блестящего администратора, назначили министром внутренних дел.
Потом Директория постаралась отобрать из осаждавшей ее толпы просителей людей, наиболее способных к отправлению общественных должностей. При такой поспешности дело, конечно, не могло обойтись без ошибок в выборе. Так, Директория раздала места многим патриотам, слишком отличившимся, чтобы быть благоразумными и беспристрастными. События 13 вандемьера сделали их необходимыми и заставили забыть внушаемый ими страх. Поэтому всё правительство – директоры, министры, агенты всякого рода – оказалось составлено в духе, враждебном той партии, которая вызвала эти события. Все пять директоров работали без устали и в эту первую пору своей деятельности выказывали такое же рвение, как члены Комитета общественного спасения в навеки достопамятные дни сентября и октября 1793 года.
К несчастью, трудность задачи увеличивалась поражениями армий. Отступление, к которому была принуждена армия Самбры-и-Мааса, давало повод к самым тревожным слухам. Благодаря нелепейшему плану и измене Пишегрю замышляемое вторжение в Германию не удалось вовсе. Имелось в виду перейти Рейн на двух пунктах и занять правый берег двумя армиями. Журдан, весьма удачно совершив переправу и подойдя из Дюссельдорфа, очутился на Лане, стиснутый между прусской линией и Рейном, и терпел недостаток во всем на этой нейтральной земле, где он не мог брать того, что ему было нужно. Эта нужда, конечно, продолжалась бы всего несколько дней, если бы он мог двинуться дальше, в неприятельские земли, и соединиться с Пишегрю, который занятием Мангейма открыл такое неожиданное и легкое средство перейти через Рейн. Этим соединением
Журдан исправил бы недостаток навязанного ему плана кампании. Но Пишегрю, который еще торговался с агентами принца Конде об условиях измены, перекинул за Рейн недостаточно сильный отряд. Он упорствовал в том, чтобы не переходить Рейн со всей своей армией, и оставлял Журдана одного, стрелой воткнутого в Германию.
Такое положение не могло продолжаться долго. Каждый, кто хоть немного смыслил в военном деле, трепетал за Журдана. И в конце концов ему пришлось переправиться через Рейн; решившись на это, Журдан поступил весьма благоразумно и заслужил общее уважение тем, как повел свое отступление.
Враги Республики торжествовали по поводу этого попятного движения и распускали самые тревожные слухи. Их злобные предсказания сбылись в самое время вступления в должность Директории. Недостаток плана, принятого Комитетом общественного спасения, состоял в том, что он разделял французские силы, предоставляя таким образом неприятелю, занимавшему Майнц, все выгоды центрального положения и внушал ему этим мысль соединить свои войска и налечь всей массой на ту или другую из французских армий. Этому положению Клерфэ был обязан счастливой мыслью, обнаруживавшей больше таланта, нежели он выказывал до сих пор.
Около тридцати тысяч французов блокировали Майнц. Клерфэ мог сделать вылазку и разбить этот блокадный корпус, не дав Журдану и Пишегрю времени прийти на помощь. Он действительно воспользовался – и весьма ловко – благоприятной минутой. Едва Журдан ушел на Нижний Рейн, Клерфэ, оставив обсервационный отряд, отправился в Майнц и сосредоточил там свои войска с намерением внезапно напасть на блокадный корпус. Этот корпус под началом генерала Шааля располагался вокруг Майнца полукругом, образуя линию приблизительно в четыре лье. Хотя она была укреплена весьма тщательно, но большое протяжение не позволяло запереть ее совсем. Клерфэ, тщательно изучив ее, обнаружил не один легко доступный пункт. Крайний конец этого полукруга, вместо того чтобы вплотную упираться в Рейн, не доставал до реки, так что между ним и рекой оставался обширный луг. Против этого-то места Клерфэ и решил направить свой главный удар.
Двадцать шестого октября (7 брюмера) он выступил из Майнца с силами значительными, но всё же недостаточными для решающей операции. Военные упрекают Клерфэ в том, что он оставил на правом берегу корпус, который неизбежно погубил бы часть французской армии, если бы его перевели на левый берег. Клерфэ отправил вдоль луга колонну, которая шла с ружьями наизготовку. В то же время флотилия канонирских лодок поднималась вверх по течению, чтобы поддержать эту колонну. Остальные войска Клерфэ двинул прямо по линии и приказал вести быструю атаку.
Французская дивизия, стоявшая в конце полукруга, увидев, что неприятель в одно и то же время идет на нее прямо, обходит с боку и грозит с тыла, испугалась и разбежалась в беспорядке. Дивизия Сен-Сира, стоявшего сразу за этой дивизией, осталась неприкрытой. К счастью, верность взгляда и присутствие духа не изменили ее командиру в эту опасную минуту. Сен-Сир повернул свою дивизию и увел ее в порядке, дав знать остальным дивизиям, чтобы и они сделали то же. С этой минуты весь полукруг был брошен; дивизия Сен-Сира отступила к армии на Верхний Рейн, дивизии Менго и Рено, занимавшие другую часть линии, будучи отрезаны друг от друга, направились к армии Самбры-и-Мааса, колонна которой под началом Марсо, к счастью, шла к горному массиву Хунсрюку. Отступление очень трудно далось этим последним дивизиям и сделалось бы невозможным, если бы Клерфэ сам понял всё значение своего искусного движения и действовал бы с большими силами и достаточной быстротой.
Пока Клерфэ разгонял Майнцские линии, Вурмзер, в это же время напавший на Пишегрю, отбил у него мост через Неккар и загнал его назад в Мангейм. Следовательно, обе французские армии, вернувшись на левую сторону, хоть и сохранили Мангейм, Нойвид и Дюссельдорф, но, разделенные Клерфэ, могли подвергнуться большой опасности, имей они дело с предприимчивым полководцем. Последнее происшествие сильно расстроило их, а крайняя нужда еще усиливала уныние, произведенное поражением. К счастью, Клерфэ не очень спешил и тратил на свои операции гораздо больше времени, нежели требовалось на то, чтобы сосредоточить свои силы.
Эти печальные вести, полученные в Париже в самую минуту вступления Директории в должность, увеличили трудности нового республиканского правительства. Другие события, в сущности менее опасные, но с виду такие же угрожающие, совершались на западе. Республике грозила новая высадка эмигрантов. После роковой высадки при Кибероне, которая была исполнена, как мы видели, лишь с частью сил, заготовленных английским правительством, остатки экспедиции перевезли на английских судах на маленький остров Уайт. Там же высадили и несчастные семейства из Морбигана, которые радушно встретили экспедицию, и остатки эмигрантских полков. На этом небольшом утесе царили болезни и страшные раздоры.