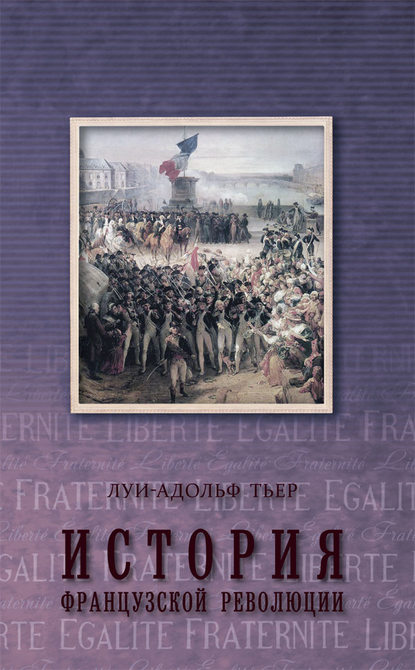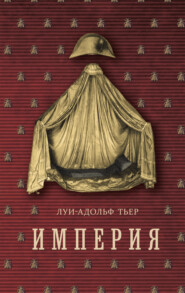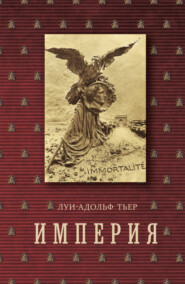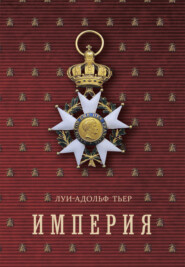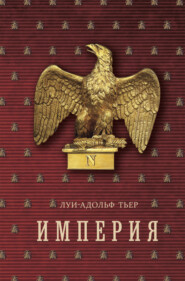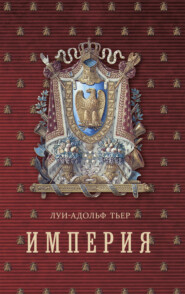По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История Французской революции. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Через некоторое время в Бретань вернулся Пюизе. Он приехал по призыву шуанов, которые приписывали бедственный исход дела при Кибероне единственно англичанам и никак не своему прежнему вождю. Пюизе тотчас же стал готовиться к возобновлению военных действий. Во время киберонской экспедиции вандейские вожди не двигались с места, потому что экспедиция собиралась не к ним; потому что парижские агенты запретили им помогать Пюизе; наконец, потому, что выжидали, на чьей стороне окажется успех, прежде чем решиться скомпрометировать себя.
Один Шаретт затеял спор с республиканскими властями по поводу беспорядков, бывших в его краю, и некоторых военных приготовлений, в которых его укоряли, и дошел почти до открытого разрыва. Он только что получил новые милости из Вероны, в том числе звание главнокомандующего в католических землях – то есть то, чего всеми силами добивался. Это назначение, охладив рвение его соперников, разожгло его усердие до последней степени. Шаретт надеялся на новую экспедицию, направленную уже в его сторону, и когда коммодор Уоррен предложил ему военные запасы, оставшиеся от киберонской экспедиции, он не стал более колебаться: произвел общую атаку по всему прибрежью, отогнал республиканские посты – и получил только немного пороха и несколько ружей. Англичане в то же время высадили на берег Морбигана злополучные семейства, которые потащили за собой и которые умирали с голода на острове Уайт. Итак, мир был нарушен, опять началась война.
Давно уже генералы Обер-Дюбайе, Гош и Канкло, командовавшие Шербурской, Брестской и Западной армиями, считали мир нарушенным не только в Бретани, но и в Нижней Вандее. Они собрались в Нанте и ничего не сумели решить. На всякий случай они приняли меры, чтобы быть в состоянии лично явиться на первый угрожаемый пункт. Толковали о новой высадке; говорили – и это было правдой, – что киберонская экспедиция была только передовым отрядом, за которым последуют другие. Уведомленное о новых опасностях, угрожающих берегам, правительство назначило Гоша начальником Западной армии. Победитель при Вейсенбурге и Кибероне действительно был достойным национального доверия в минуту опасности больше всех других. Он тотчас же отправился в Нант заступить место Канкло.
Все три армии, предназначавшиеся для того, чтобы сдерживать инсургентские провинции, постепенно получали подкрепления с юга, от армий, которыми явилась возможность располагать вследствие мира с Испанией. Гош потребовал разрешения призвать еще несколько отрядов из Брестской и Шербурской армий для усиления Вандейской, которую он таким образом довел до 44 тысяч человек. Он поставил надежно укрепленные посты на реке Севр, протекающей между обеими Вандеями и отделявшей владения Шаретта от земель Стоффле. Целью Гоша было разделить этих двух вождей и отнять у них возможность действовать сообща. Шаретт окончательно сбросил маску и снова провозгласил войну. Стоффле, Сапино, Сепо, из зависти к Шаретту, смущенные приготовлениями Гоша и притом не уверенные в помощи англичан, еще не трогались с места.
Наконец появилась английская эскадра: сначала в Киберонской бухте, потом в бухте Иль-Дьё, против Нижней Вандеи. Она привезла 2 тысячи английских пехотинцев, 500 всадников, офицеров для эмигрантских полков, оружие, заряды, провиант, мундиры на целую армию, большой запас денег и наконец – столь давно ожидаемого принца. В случае успеха должны были прийти новые силы, особенно если бы принц доказал, что искренне готов стать во главе роялистов.
Как только показалась эскадра, все роялистские начальники послали эмиссаров уверять принца в своей преданности, добиваться чести видеть его у себя и согласовывать дальнейшие действия. Шаретт владел берегом; он располагался выгоднее всех, чтобы содействовать высадке; а его репутация и желания всей эмиграции направляли высадку к нему. Он также послал своих агентов, чтобы условиться о плане действий.
Между тем Гош готовился к делу со своей обычной решительностью. Он решил выступить тремя колоннами из Шалона, Клиссона и Сент-Эрмина, трех пунктов, расположенных по окружности страны, и идти по направлению к Бельвилю, главной квартире Шаретта. Эти три колонны, числом до 22 тысяч человек, должны были сдерживать Вандею, разорить главный пункт Шаретта и сильным натиском отбросить его подальше от берега, чтобы он не мог помочь высадке эмигрантов.
Колонны встретились в Бельвиле безо всяких препятствий. Шаретта, которого Гош надеялся разбить, в Бельвиле не было: он с девятью или десятью тысячами человек направился к Дюсону, чтобы перенести войну к югу и удалить от берегов республиканские отряды. План был задуман очень ловко, но не удался вследствие энергичного отпора. Пока Гош со своими колоннами входил в Бельвиль, Шаретт оказался против форта Сен-Сира, прикрывающего дорогу из Дюсона в Ле Сабль. Он напал на укрепление со всеми своими силами. Двести республиканцев засевшие в церкви, оказали такое сопротивление, что дали время Люсонской дивизии, услыхавшей перестрелку, прийти к ним на помощь. Шаретт был совершенно разбит ударом во фланг; войска его разбежались и возвратились к себе, в Маре. Гош, не обнаружив перед собой неприятеля и понимая настоящую причину его движения, вернул колонны по местам и устроил укрепленный лагерь в Сулане, возле самого берега, чтобы быть готовым встретить высадку.
Между тем принц, окруженный целым штабом советников, посланных от разных бретонских и вандейских командиров, продолжал совещаться о плане высадки и оставил Гошу довольно времени для приготовлений. Английские паруса, находившиеся всё время в виду, не переставали возбуждать опасений республиканцев и надежд роялистов.
Таким образом, с первых дней Директории поражение при Майнце и неминуемая высадка в Вандее стали причинами страхов, которыми враги правительства пользовались с большой ловкостью. Были изданы объявления и опровержения различных слухов, распускаемых насчет положения обеих границ. Поражение, понесенное при Майнце, скрыть было невозможно, но правительство ответило всем беспокоившимся, что Дюссельдорф и Нойвид остаются у него в руках, так же как и Мангейм; что, стало быть, армия Самбры-и-Мааса владеет двумя мостами, а Рейнская – одним, чтобы в удобное время перейти реку. Умалчивалось, однако же, о том, что австрийцы могли точно так же отнять Нойвид и Мангейм и укрепиться на пространстве между Вогезами и Мозелем. Что касается Вандеи, то правительство подробно обнародовало всё то, что делал Гош. Известия были утешительные для умов спокойных, но экзальтированные патриоты продолжали бояться, а реакционеры продолжали распускать всевозможные зловещие слухи.
Среди множества трудностей Директория всеми силами старалась преобразовать правительство, администрацию и в особенности финансы. Было получено разрешение на выпуск ассигнаций на 3 миллиарда, но их продажа дала только 20 миллионов с небольшим. Добровольный заем, открытый по 3 % в последние дни Конвента, был приостановлен, потому что за капитал, вносимый бумажными деньгами, правительство давало действительную ренту и договор оказывался разорительным. Экстраординарная военная такса, предложенная комиссией пяти, еще не начинала взиматься, а на нее уже жаловались как на последний революционный акт Конвента. Во всех отраслях финансов начинались задержки, и частные лица, получавшие деньги по пропорциональной таксе, жаловались так горько, что пришлось остановить выплаты. Почты, получавшие вознаграждение
ассигнациями, объявили, что вынуждены прекратить свою деятельность, потому что правительственная помощь не покрывала их потерь; а без почт должно было прекратиться всё сообщение во всей Франции. Финансовый план, обещанный через несколько дней, требовался как можно скорее; в этом заключалась настоятельнейшая государственная надобность и первая обязанность Директории.
Масса ассигнаций, находившаяся в обращении, равнялась приблизительно 20 миллиардам. Поскольку ценность ассигнаций равнялась сотой доле их номинальной цены, выходила сумма в 200 миллионов. Ясно, что обладатели их не могли считать себя имеющими сумму выше этой. Можно было начать принимать ассигнации по той цене, какую они в самом деле имели: в сделках между частными лицами, при уплате податей или выплате за национальные имущества. В таком случае мгновенно исчезла бы эта страшная масса бумаги. Правительство владело еще 7 миллиардами франков (столько стоили национальные имущества), считая в том числе королевские дворцы и национальные леса. Это составляло достаточную сумму, чтобы извлечь из обращения 20 миллиардов, обращенных в 200 миллионов, и приготовиться к новым расходам. Но правительство с трудом могло решиться на такой смелый шаг. В самом деле, честные люди находили, что это будет означать банкротство, а патриоты утверждали, что таким образом будет подорвано всякое доверие к ассигнациям.
И те и другие не совсем понимали, в чем дело: если это было банкротство, то оно было неизбежно и позже все-таки совершилось бы; пока же следовало только уменьшить общее замешательство и восстановить порядок в финансовой части. Правительство обязано было сделать это по отношению ко всем и каждому. Конечно, с первого взгляда прием за один франк ассигнации, выпущенной в 1790 году с надписью «100 франков» и обещавшей общественных земель на 100 франков, – это было банкротство. Но тогда приходилось принять 20 миллиардов бумажных денег за 20 миллиардов франков. Национальные имущества едва могли покрыть третью часть этой суммы. Следовало, однако, понимать: сколько правительство получило, выпуская эти 20 миллиардов? Может быть, 4 или 5 миллиардов, не больше. Стало быть, в высшей степени несправедливо было бы считать ассигнации по их номинальной цене; приходилось признавать за ними ценность меньшую, и это уже начали делать, установив пропорциональную таксу.
Можно предположить, что были еще люди, имевшие на руках первые выпущенные ассигнации и удержавшие их, не разменяв ни разу; они понесли бы огромные потери. Но этого быть не могло; никто не копил ассигнации просто так, все старались передавать их и каждый нес некоторые потери. Таким образом предполагаемое банкротство уже распространилось на очень большое число жителей государства; стало быть, банкротством оно не являлось.
И умно, и справедливо было тогда возвратиться к реальности, то есть принимать ассигнации по курсу. Патриоты уверяли, что это значило подорвать ассигнации, которые спасли революцию, и что это выдумки врагов Республики – роялистов; другие говорили, что при упадке бумажных денег прекратится всякая торговля, без этих денежных знаков и при отсутствии металлических денег остановится всё. Последствия доказали, что это было ошибочное мнение; металл, как и всякий товар, появляется там, где он нужен, и при уменьшении бумажных денег, металлические пускаются в оборот гораздо чаще.
Комиссия финансов, по соглашению с Директорией, постановила следующее.
В ожидании поступления металлических денег от продажи национальных имуществ и от налогов следует временно использовать ассигнации. Ограничить выпуск ассигнаций 30 миллиардами с безусловным обязательством не выпускать больше ни франка. Гравировальные доски, предназначенные для печатания ассигнаций, разбить с большой торжественностью (так общество успокаивалось касательно дальнейших выпусков). На покрытие 30 выпущенных миллиардов отдать национальных имуществ на один миллиард. Другую часть национальных имуществ, еще в один миллиард, отдать для наград республиканским воинам.
Из 7 миллиардов оставалось, таким образом, 5; это была стоимость национальных лесов, движимой собственности эмигрантов, королевских дворцов и имущества бельгийского духовенства. Трудность состояла только в том, как распорядиться этими ценностями. Ассигнации давали возможность пустить национальные имущества в обращение прежде, нежели они были проданы; но с упразднением ассигнаций какими знаками заранее выразить ценность имущества? Придумали ипотечные обязательства, о которых говорилось еще за год перед тем. По прежнему плану это был заем, и люди, отдавшие свои деньги, получали закладные листы на имущество, с точностью в этих листах обозначенное.
Чтобы найти деньги, пришлось образовать финансовые общества, которые приняли бы на себя распространение закладных листов. Короче, вместо бумаг, имевших обязательный курс и обеспечение общей ипотекой на все национальные имущества, предлагались ипотечные листы на земли или дома, в них поименованные, так что их ценность могла меняться только с изменением ценности предметов, ими представляемых. Собственно говоря, это были не бумажные деньги; падать в цене они не могли, потому что курс их не был обязателен; но, с другой стороны, могло случиться, что некому будет их продать. Одним словом, затруднение оставалось то же, что в начале революции: непонятно, каким образом, с обязательным или добровольным курсом, пустить в обращение национальные имущества. Первое средство было испытано, оставалось попробовать другое.
Решили выпустить закладных листов на 5 миллиардов, но исключить из них национальные леса ценностью приблизительно в 2 миллиарда. Финансовые компании, которые взялись бы помещать закладные листы, покупали возможность известное время эксплуатировать эти леса.
Вследствие этого проекта, основанного на уменьшении ценности ассигнаций до их курса, бумажные деньги стали приниматься легче прежнего; беспорядок в торговле исчез, и всякая злоумышленная сделка становилась невозможной. Государство рассчитывало получать налоги звонкой монетой, и этих поступлений было довольно для обыкновенных расходов; национальные имущества должны были оплачивать только экстренные военные расходы. Ассигнации должны были приниматься по номинальной цене только при уплате недоимок, а их было до 13 миллиардов. Таким образом, плательщикам податей представлялся очень легкий способ освободиться от недоимок, с условием, однако же, чтобы они это сделали тотчас же. Тридцать миллиардов, которые предполагалось уплатить национальными имуществами, уменьшались на 13 миллиардов.
После продолжительных споров план этот был принят в Совете пятисот и тотчас перенесен в Совет старейшин. В то же время возникли вопросы о призыве на службу солдат, ушедших из-под знамен, а также о назначении судей и всякого рода чиновников, которых избирательные собрания не имели ни времени, ни охоты назначать. Директория работала без устали и задавала работу обоим советам.
Финансовый план, внесенный в Совет старейшин, основывался на правильных началах; Франция имела еще множество средств. К несчастью, план не побеждал настоящей трудности, то есть не делал движимыми недвижимые имущества. План мог удаться впоследствии, но в настоящем все-таки царило безденежье. Совет старейшин не думал скоро отказаться от ассигнаций. Десяти миллиардов новых бумажных денег, представлявших собой 100 миллионов франков, было недостаточно даже до поступления наличных денег, ожидавшихся вследствие осуществления плана. Никто пока не предлагал своих услуг для дисконта закладных листов. Не понимая, каким образом пользоваться национальными имуществами, правительство не решалось отказаться от прежнего способа их тратить, то есть от ассигнаций с обязательным курсом. Совет старейшин, очень строго относившийся к постановлениям Совета пятисот, воспользовался своим правом вето и отверг финансовый проект.
Возникло заметное беспокойство умов. Революционеры, очень довольные происшедшим недоразумением, уверяли, будто положение так затруднительно, что из него выйти невозможно и Республика должна погибнуть от финансовых неустройств; боялись этого люди даже самые просвещенные, которые, как известно, не всегда бывают самыми решительными. Патриоты, дойдя до высшей степени раздражения и видя, что правительство хочет уничтожить ассигнации, кричали, будто бумажные деньги, в свое время спасшие Францию, одни могут спасти ее и теперь, и требовали восстановления ценности ассигнаций способами 1793 года: реквизициями и казнями.
К довершению несчастья события на Рейне становились всё более запутанными. Клерфэ не сумел воспользоваться победой, но все-таки приобрел кое-какие выгоды; он вызвал к себе корпус Латура, двинулся против Пишегрю, атаковал его на канале у города Франкенталь и мало-помалу оттеснил до самого Ландау. Журдан с трудом передвигался по гористой местности, принимал все возможные меры, чтобы освободить Рейнскую армию, но все его усилия только слегка задерживали неприятеля, не вознаграждая потерь. Линия Рейна оставалась в руках французов на всем пространстве нидерландской границы, но на высоте Вогезских гор была потеряна, и, сверх того, большой полукруг около Майнца оказался в неприятельских руках.
В таком положении Директория передала Совету пятисот спешное послание с предложением экстраординарных мер, напоминавших самые трудные времена революции. Речь шла об обязательном займе в 600 миллионов, металлическими деньгами или ассигнациями по курсу, со взятием всей суммы с самых богатых людей. Начинался новый ряд самовольных действий, вроде займа у богачей, который организовал в свое время Камбон. Но так как новый заем требовался немедленно, то проект сделался законом: ассигнации принимались по сотой доле своей ценности, 200 миллионов займа поглощали таким образом 20 миллиардов бумажных денег. Все поступившие ассигнации сжигались, и возникла надежда, что таким образом почти совершенно извлеченные из обращения бумажные деньги дадут возможность выпустить ассигнации. Оставалось получить из 600 миллионов займа 400 миллионов металлических денег, которых было бы достаточно на два первых месяца, так как расходы текущего года определялись в 1500 миллионов (год IV, 1795–1796).
Некоторые противники Директории заботились не о состоянии своей страны; они хотели только во что бы то ни стало помешать новому правительству и предъявляли бесконечные возражения. Этот заем, говорили они, отнимет у Франции все наличные деньги, не останется капиталов, чтобы его внести, как будто государство, взимая 400 миллионов металлических денег, не отдавало их сейчас же в обращение посредством покупки хлеба, сукна, кожи, железа и т. д. Вопрос был только в том, может ли Франция сейчас же найти 400 миллионов продуктами и товарами и сжечь на 200 миллионов ассигнаций, пышно называвшихся 20 миллиардами? Она могла это сделать, без сомнения; неудобство состояло только в способе взимания. Не зная, на что решиться, предложили собирать деньги насильно.
Посредством обязательного займа, говорили тогда, в казну попадет хоть часть бумажных денег, соберется также известное количество звонкой монеты, а знаменитые гравированные доски останутся все-таки целы и еще выиграют вследствие уничтожения большого количества ассигнаций. Предполагались также и другие меры. Составление закладных листов требовало много времени, потому что в закладном листе следовало подробно описать каждый отдельный объект собственности. На основании этих листов должен был вестись торг с финансовыми компаниями. Для начала предполагалось продать дома, построенные в городах, поземельные имения размером меньше ста десятин и все без исключения имения бельгийского духовенства; решили также продать все королевские дворцы, кроме Фонтенбло, Версаля и Компьеня; движимое имущество эмигрантов также поступало в продажу немедленно. Торги допускались только аукционные.
Директория не смела пока установить свободного курса ассигнаций, а это прекратило бы самое большое зло, и частные лица и правительство перестали бы терпеть крайнюю нужду. Этой простой и правильной меры боялись. Решили, что при обязательном займе ассигнации будут приниматься по 100 франков за франк; что недоимки будут выплачиваться по номинальной цене; что уплата государством занятых капиталов будет всё еще приостановлена; но все возможные доходы и проценты нужно будет платить из расчета по 10 франков за один, что тоже было очень тяжело. Уплату поземельного налога и государственной аренды оставили на прежних основаниях, то есть половина платилась натурой, а половина ассигнациями. Таможни брали половину ассигнациями, половину – металлическими деньгами. Такое исключение для таможен было сделано потому, что на границах имелось много металлических денег; исключение сделали также и для Бельгии. Ассигнации туда еще не проникали и потому обязательный заем и налоги выплачивались там звонкой монетой. Таким образом, Директория приступила к делу довольно робко, не решаясь одним ударом прекратить затруднительность своего положения.
Важнейшие за этими меры относились к дезертирам и к назначению чиновников. Пора было восстановить состав армий и окончательно организовать общины и суды. В тех случаях, когда солдат бежал за границу, а это случалось очень редко, такое преступление наказывалось смертью. Возник оживленный спор касательно наказания за призывы к побегу, и за это тоже потребовали смертной казни. Постановили, что все отпуска прекращаются по истечении десяти дней. Преследование молодых людей, оставивших знамена, поручили корпусам жандармов. Реквизиция августа 1793 года дала огромное количество рекрутов; в течение трех лет армия сохраняла весьма внушительные размеры. Новый закон, просто продолжающий исполнение прежнего, посчитали достаточным и приняли единогласно.
Некоторые избирательные собрания, в виду декретов 5 и 13 фрюктидора, потеряли много времени и не закончили выборы местных администраций и судов. В западных провинциях этого не сделали по случаю междоусобной войны; в других просто действовали вяло. Большинство депутатов Конвента требовали, чтобы Директория сама определяла чиновников. Ясно, что правительство получало все права, от которых отказывались граждане, то есть недостаточные действия отдельных лиц заменялись действиями правительства. По этой причине везде, где собрания пропустили установленные сроки, назначения, естественно, зависели от Директории.
Созывать новые собрания значило бы нарушить конституцию, наградить за действия против законов и вообще дать повод к новым смутам; к тому же в конституции уже содержались указания, разрешавшие вопрос в пользу Директории. Она должна была назначать чиновников в колониях и замещать места умерших или вышедших в отставку в промежутках между выборами.
Оппозиция восстала против этого толкования. Дюмоляр в Совете пятисот, а Порталис, Дюпон де Немур и Тронсон дю Кудре в Совете старейшин утверждали, что это значит предоставлять Директории королевскую власть. Это меньшинство, тайно склонявшееся скорее в пользу монархии, чем республики, поменялось ролями с республиканским большинством и усиленно развивало демократические взгляды; впрочем, спор, очень оживленный, не был нарушен скандалом. Директория получила право назначать чиновников с одним условием: выбирать их между людьми, которые были уже однажды избраны народом. Это было очень удачное решение, потому что избавляло от необходимости новых выборов, и в результате администрации получала большую однородность.
Директория решила проблему с поступлением денег, пополнила войска, закончила организацию администрации и юстиции; за нею осталось большинство в обоих советах; присутствовала и оппозиция, но умеренная и спокойная. Казалось, все уважали необычайное положение директоров и их мужественные труды. В самом деле, в этом правительстве, избранном Конвентом, проявляла себя Революция, всемогущая и суровая; пятеро директоров делили все труды: Баррас заведовал личными назначениями, Карно – передвижениями войск, Ревбель – внешними сношениями, Летурнер и Лепо – внутренними делами. Но они постоянно совещались между собой о важнейших мерах.
Долгое время они собирались в весьма жалкой обстановке, но наконец собрали из дворцов предметы, необходимые для украшения Люксембурга. Их приемные были постоянно наполнены просителями, между которыми нелегко было делать выбор. Директория, верная своему происхождению, выбирала всегда людей с ясным, определенным образом мыслей. После восстания 14 вандемьера организовали защиту Парижа и правительства от нового покушения. Молодой Бонапарт, заправлявший защитой 14 вандемьера, был назначен главнокомандующим этими силами, названными Внутренней армией. Он преобразовал состав этой армии и расположил ее в Гренельском лагере. Особый отряд под названием полицейского легиона составили из патриотов, предложивших 14 вандемьера свои услуги. Эти патриоты принадлежали большей частью к жандармам, распущенным 9 термидора. Затем Бонапарт организовал конституционную гвардию Директории и обоих советов. Военные силы были велики, управлялись, как известно, искусной рукой и удерживали все партии в границах уважения к порядку.
С большой твердостью Директория приняла множество мелких, но тем не менее важных мер. Она продолжала отказываться от объявления о своем вступлении в должность депутатам Конвента, имевшим поручения в провинции. Все директора театров получили приказания дозволять пение только одной арии, «Марсельезы». «Пробуждение народа» было запрещено. Такую меру нашли ребяческой; Директория поступила бы лучше, запретив всякое пение, но она хотела немного подогреть республиканский энтузиазм.
Несколько роялистских газет, продолжавших писать с той же резкостью, как в вандемьере, подвергли судебным преследованиям. Хотя свобода прессы была не ограничена, но прежние постановления Конвента против писателей, желавших возвращения королевской власти, оставались в руках полиции достаточным оружием. Преследованиям подвергся Рише, начался процесс против Леметра и Бротье, сношения которых с Вероной, Лондоном и Вандеей доказывали, что они роялистские агенты и существенно повлияли на события вандемьера. Леметр был приговорен к смерти как главный агент, а Бротье освобожден от суда. Было доказано, что два секретаря Комитета общественного спасения сообщали им весьма важные сведения. Саладен, Ломон и Ровер, депутаты, арестованные 13 вандемьера, но вновь избранные в Париже, получили свои места под тем предлогом, что уже были депутатами, когда были арестованы. Корматен и шуаны, арестованные вместе с ним за нарушение спокойствия, были преданы суду. Корматена приговорили к ссылке за то, что он тайным образом содействовал междоусобной войне; прочие были освобождены, к величайшему неудовольствию патриотов, которые горько жаловались на излишнюю снисходительность судей.
В случае с посланником флорентийского двора Директория доказала, что в ней еще живо республиканское чувство: с Австрией наконец договорились, что ей возвратят дочь Людовика XVI, заключенную в Тампле, с условием, что депутаты, выданные изменником Дюмурье, будут доставлены на французские аванпосты. Принцесса выехала из Тампля 19 декабря (28 фримера). Министр внутренних дел сам приехал за ней и проводил со всевозможными выражениями почтения; ей дали возможность выбрать кого-нибудь из своей прежней прислуги, проводили до заставы и выдали на расходы достаточно денег.
Роялисты не упустили случая написать стихи по поводу несчастной судьбы пленницы, наконец возвращенной свободе. Граф Карлетти, посол Флоренции, присланный в Париж по случаю своей преданности Франции и революции, попросил у Директории позволения увидеться с принцессой в качестве посланника союзного двора. В ответ на эту просьбу Директория предложила графу немедленно оставить Париж, но в то же время объявила, что эта мера принята относительно него лично, а с флорентийским двором Французская республика остается в дружеских отношениях.
Директория управляла всего только полтора месяца, но уже начала укореняться: партии стали привыкать к тому, что у них имеется установившееся правительство; уже не заботились о том, чтобы его свергнуть, а готовились к борьбе в пределах, установленных конституцией.
Патриоты, не отказываясь от своих любимых клубов, стали собираться в клубе «Пантеон»[3 - Бывший Клуб якобинцев. – Прим. ред.]; их накопилось более четырех тысяч, и сборища их очень походили на собрания якобинцев. Исполняя, однако же, требования конституции, они не организовывались в политическое собрание: у них не было бюро, члены не получали дипломов, присутствующие не разделялись на зрителей и членов, не было никаких сношений с другими подобными обществами.
Члены секций собирались в кружки сообразно своим вкусам и нравам; как во времена Конвента, между ними имелись тайные роялисты, но их было немного; большая часть из страха или из моды выказывала себя врагами сторонников террора и порицала то, что таковые еще встречаются в новом правительстве. Образовались общества, где читали газеты; со всей присущей аристократическим гостиным вежливостью вели политические диспуты; танцы и музыка перемежались с чтением и беседами. Наступила зима, и французы предались удовольствиям, выражая этим оппозицию той революционной системе, которую уже никто не хотел возобновлять.
Обе партии имели свои газеты. Патриоты в своих клубах и газетах казались очень раздраженными, хотя правительство высказывало большую преданность Революции. Правда, они были раздражены скорее против событий, нежели против правительства; потери на Рейне, новое движение в Вандее, страшный финансовый кризис – всё это стало поводом к возвращению их любимых идей. Если проигрывалось сражение, если ассигнации падали в цене, по их мнению, всё это происходило оттого, что Директория слишком снисходительна, что она не умеет принимать великих, революционных мер. Особенно новая финансовая система, склонявшаяся к изъятию ассигнаций из обращения, казалась им возмутительной. Противники их считали достаточным поводом для своих жалоб именно это раздражение; по их мнению, террор готов был возвратиться, потому что его сторонники были неисправимы.
Таково было положение дел в течение ноября и декабря 1795 года (фримера года IV).
Военные операции продолжались, несмотря на время года, и уже обещали лучшие результаты: Журдан совершил чрезвычайно трудный поход среди невообразимых лишений, и это несколько поправило дела на Рейне. Австрийские генералы, войска которых были почти так же утомлены, как и французские, предлагали перемирие, в течение которого имперские войска сохраняли бы свои настоящие позиции. Перемирие было принято бессрочно, с тем чтобы за десять дней до открытия военных действий об этом возвестил главнокомандующий. Обе армии, французская и австрийская, разделялись Рейном, от Дюссельдорфа до Нойвида; затем от Бингена до Мангейма линия проходила у подошвы Вогезских гор, доходила до Рейна выше Мангейма и рекой тянулась до Базеля. Таким образом, французы потеряли весь полукруг на левом берегу; но эта потеря могла быть возращена ловко задуманным маневром. Наибольшее зло состояло пока в том, что потеряны были моральные силы, даваемые победой. Утомленные войска заступили на зимние квартиры, и правительство начало деятельные приготовления, чтобы весной открыть решительную кампанию.
На итальянской границе время года не мешало военным операциям: армия с Восточных Пиренеев перешла на Альпы. Поход от Перпиньяна до Ниццы потребовал очень много времени, потому что не заготовили провианта и солдаты были без обуви; наконец в ноябре появился Ожеро со своей дивизией, прославившейся на равнинах Каталонии. Келлерман, как мы видели выше, вынужден был отодвинуть свое правое крыло и отказаться от непосредственного сообщения с Генуей; левое крыло его стояло в Альпах, центр – в Коль-ди-Тенда, правое – позади линии Боргетто, которую Бонапарт назначил еще в прошлом году на случай отступления. Генерал Де Винс, гордясь своей маленькой победой, отдыхал в долине Генуи и мечтал о различных проектах, ни одного из них не исполняя.
Келлерман нетерпеливо ожидал подкреплений с испанской границы, чтобы перейти в наступление и вернуть сообщение с Генуей; он хотел закончить кампанию блистательным сражением, которое открыло бы французам проход в Италию и оторвало пьемонтского короля от коалиции. Французский посланник в Швейцарии Бартелеми беспрестанно писал, что победа в Приморских Альпах тотчас даст возможность заключить мир с Пьемонтом; французское правительство соглашалось с Келлерманом касательно необходимости атаковать, но не спешило исполнить его план и назначило на его место Шерера, прославившегося сражением в Каталонии. Шерер прибыл с армией во второй половине брюмера и решил попытать счастья в битве.
Известно, что в том месте, где Альпы переходят в Апеннины, они очень близко подходят к Средиземному морю, так что между морем и горами – крутые обрывы; напротив, с другой стороны, то есть там, где начинается долина реки По, склоны спускаются очень полого и занимают большее пространство. Французская армия стала между горами и морем; пьемонтская под началом Колли располагалась в укрепленном лагере у города Чева и оберегала дорогу в Пьемонт против левого крыла французской армии; австрийские войска, расположенные частично на хребте Апеннинских гор в Рокка-Барбена, а частично на приморском склоне этих же гор, правым крылом доставали до Колли, а левым отделяли французов от Генуи. В таком положении у французов появилась следующая мысль: выступить с большими силами против правого крыла и центра австрийской армии, атаковать ее, сбросить с Апеннинских гор и занять горные проходы. Таким образом австрийцы отделялись от пьемонтцев и быстрый переход вдоль моря к Генуе должен был довершить победу. План этот придумал Массена, один из дивизионных генералов. Шерер принял этот план и решил выполнить.
Де Винс, занимая французскую линию в Боргетто, отказался в этом году от решительной атаки; он был болен, и на его место назначили генерала Валлиса. Французские офицеры весьма приятно проводили время на зимних квартирах; Шерер добыл для своей армии немного продовольствия и 24 тысячи пар башмаков и решил двинуться 23 ноября (2 фримера). С 36 тысячами солдат он должен был напасть на 45 тысяч, но удачный выбор пункта атаки вознаграждал неравенство сил. Шерер приказал Ожеро ударить в левое крыло неприятеля, в Лоано; Массена он приказал нападать на центр в Рокка-Бар-бена и завладеть вершиной горы; Серюрье должен был сдерживать генерала Колли, стоявшего на противоположном склоне горы. Ожеро следовало действовать медленно, Массена, напротив, должен был идти как можно скорее и запереть левое крыло австрийцев в Лоано; Серюрье было приказано обманывать Колли фальшивыми атаками.