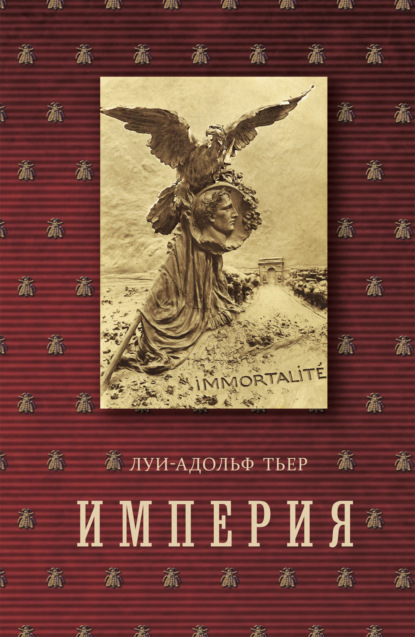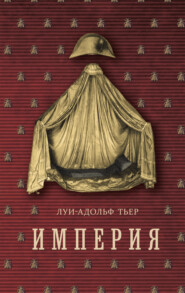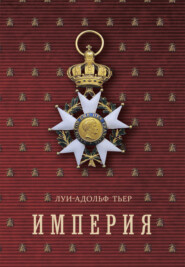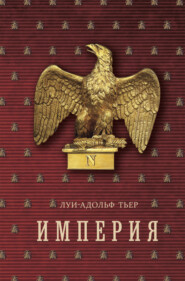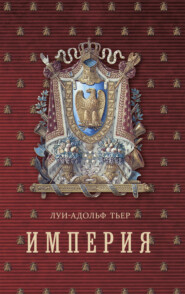По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Империя. Том 4. Часть 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Весьма нуждаясь друг в друге, обе стороны старались договориться, и Пий VII назначил конгрегацию кардиналов для исследования вопроса об отзыве Конкордата и разрешения прочих трудностей. Требование французского двора значительно увеличить количество кафедр бесконечно устраивало римский двор, и Рим согласился на эту меру, не отозвав Конкордат, а просто увеличив количество епархий.
Оставался вопрос Неаполя. С удивлением Мюрата от того, что он всё еще сидит на неаполитанском троне, могло сравниться разве что удивление, которое испытывала при этом зрелище вся Европа. Когда в начале 1814 года коалиция еще сомневалась в победе, Австрия гарантировала Мюрату неаполитанский трон, дабы отделить его от Наполеона, и Англия подтвердила эту гарантию. Теперь, после окончательной победы, она, конечно, раскаивалась в своих преждевременных обязательствах. Державы, не участвовавшие в переговорах, порицали поспешность Австрии и Англии, которые сами находились в замешательстве от содеянного и, не решаясь упразднить трон своими руками, были не прочь позволить проделать это кому-нибудь другому.
Все итальянские государи отказались признать Мюрата, в том числе и папа, за что Мюрат отомстил, как мы сказали, заняв Папскую область и Марке. Кроме столь грозного в моральном отношении соседа, Мюрат имел и другого, столь же грозного: то был Фердинанд IV, оставшийся королем в Сицилии и взиравший на Мюрата как на авантюриста, которого Европа по рассеянности ненадолго оставила на узурпированном троне. Как и следовало ожидать, законный наследник Бурбонов всеми средствами пытался вернуться в свою вотчину.
Таким образом, Мюрат в Неаполе (как и Мармон в Париже) мог оценить, чего стоит выигрыш от измены своему естественному пути, как бы ни были обоснованы обиды на несправедливость. Сожаления вели к угрызениям совести, и Мюрат раскаивался, что оставил дело Наполеона. Однако он не хотел давать собравшимся в Вене державам обоснованный предлог для низвержения его с трона, выказав неверность своим обязательствам. Послав на остров Эльба слова раскаяния, Мюрат воздержался от каких-либо компрометирующих действий и продолжал вести себя с державами как член коалиции, весьма довольный своим вкладом в победу над тираном Европы. Но он принимал искавших у него прибежища пьемонтских и ломбардских офицеров; принимал и французских, предлагавших ему свои услуги, хотя приказ Людовика XVIII призывал последних во Францию. Мюрат, к тому же, хорошо платил и тем и другим, ибо его финансы пребывали в весьма недурном состоянии. Он укреплял свою армию, составлявшую уже 80 тысяч человек, и проявлял о ней большую заботу, ибо в глазах Венского конгресса она являлась самым прочным основанием его прав. У него имелись в Неаполе сторонники среди знати и буржуазии, опасавшиеся возврата всего того, что нес с собой Фердинанд IV, но Мюрат не пользовался поддержкой лаццарони, тосковавших по прежним хозяевам, хотя нередко и рукоплескавших своему миловидному королю. То есть Мюрат еще получал некоторую поддержку, но уже не являлся тем, кем был в течение нескольких месяцев, – героем Италии.
Герой находился совсем в другом месте – на острове Эльба. Мечтавшие поначалу только об избавлении от droits rJunis и конскрипции, итальянцы вскоре начали жалеть о Наполеоне и теперь видели в нем идеального борца за их дело, побежденного и привязанного к скале, подобно Прометею. Не считая Тосканы, вся Италия от Альп до Мессинского пролива единодушно желала, чтобы правитель Эльбы покинул свой остров, встал во главе армии и двинулся на Милан.
Одна страна была удовлетворена меньше всех других и при этом справедливо возмущена и разочарована тем, как отплатили за ее усилия. То была Испания. Испанцы пролили потоки крови и выдержали героическую борьбу за возвращение своих королей, а в награду получили только кровавую и недалекую тиранию.
Фердинанд VII, по приказу Наполеона доставленный к границе и переданный испанским войскам, вступил в Херону 24 марта. Из Хероны он направился в Сарагосу, где нашел представителей регентства и Кортесов, которые потребовали, чтобы он сначала присягнул Кадисской конституции, то есть поступили почти так же, как Сенат в отношении Людовика XVIII. Фердинанд отказался объясняться с ними и из Сарагосы отправился в Валенсию, принимая по пути почести от населения, радовавшегося его возвращению и наступлению мира. Валенсия встретила короля ликованием. Войска принесли ему присягу, энтузиазм народа продолжал нарастать, и вскоре Фердинанд счел себя достаточно сильным, чтобы объясниться с мадридскими властями начистоту. Умные люди считали, что он не может принять без изменений конституцию, еще более неполную, чем наша Конституция 1791 года. Но генерал Кастаньос, самый влиятельный человек в Испании того времени, победитель Байлена, и Севальос, самый просвещенный из министров, советовали королю внести в конституцию лишь небольшие изменения и не рвать с людьми, защищавшими его трон ценой собственной крови. Однако на тех, кто притязал ограничить его королевскую власть, Фердинанд VII гневался еще больше, чем на тех, кто пытался похитить ее у него навсегда, заперев в Валансе, и не пожелал идти по пути примирения. Вожди Кортесов были, к несчастью, столь же безрассудны и так же не склонны к уступкам, и согласие, из которого могло воспоследовать учреждение в Испании разумных институтов, стало невозможным. Получив через депутата регентства архиепископа Толедского просьбу объясниться насчет конституции, Фердинанд объявил, что не намерен ее признавать, отослал архиепископа в Мадрид, отменил все декреты Кортесов, принял всю полноту власти и выдвинул на столицу войска.
Народ и армия видели в нем короля, за которого так долго сражались, почти не понимали его теоретических споров с Кортесами и даже удивлялись, что ему отказывают во власти, сохраненной ценой стольких усилий. Своим воодушевленным повиновением они подтолкнули Фердинанда к вступлению в Мадрид в качестве абсолютного монарха, вольного предаться злоупотреблениям, которые грозили его погубить. Не успев водвориться во дворце, он удалил или заключил в тюрьму людей, самым энергичным образом боровшихся за спасение его короны, отослал архиепископа Толедского – главу регентства, всеми силами поддерживавшего исключительное королевское право, – в его епархию, восстановил инквизицию и усугубил нелепость реставрации самой черной и жестокой неблагодарностью.
Однако в Испании еще оставались люди, на которых либеральные доктрины Кортесов произвели впечатление, и хотя они не вполне таковые разделяли, свершившуюся реакцию они сочли нелепой и были готовы ей противостоять. Таких людей было особенно много в Каталонии. Некоторые члены Кортесов примкнули к ним, и, казалось, начало организовываться сопротивление. Видя подобное поведение сына Карла IV, испанцы подумывали призвать старого короля, которого помнили как мягкого, хоть и непросвещенного монарха.
Осложнения множились на глазах, и Фердинанд VII, приписывавший брожение умов интригам князя Мира, удалившегося в Рим к Карлу IV, потребовал, чтобы Святой престол выслал бывшего министра в Пезаро. Старый король, неизменно верный своему фавориту, жестоко разгневался, услышав эту новость, и выказал намерение покинуть Рим и отправиться в Барселону или в Вену, дабы просить Испанию или Европу вернуть ему трон и отомстить его бесчеловечному сыну. Успокоить его удалось с большим трудом, понадобилось вмешательство папы.
Описанную нами картину дополнит краткое изложение отношений Испании с кабинетом Тюильри. В июле был, наконец, подписан мирный договор, и дело ограничилось взаимным возвратом пленных. Но Франция тайно обещала Испании добиться в Вене возвращения Пармы королеве Этрурии, а неаполитанского трона – Фердинанду IV, уже восемь лет владевшему одной Сицилией. Впрочем, французский двор было нетрудно убедить поддержать подобные требования, ибо он мог выдвинуть их и от собственного имени. Но в то же самое время Испания заключила с Англией тайное соглашение не возобновлять семейного пакта с Бурбонами и внезапно, по непонятной причине, порвала дипломатические отношения с Францией. Дело в том, что вождь герильясов Мина, который доставил нам столько хлопот и которым Фердинанд VII мог бы гордиться, также оказался в числе тех, кого реставрированный монарх преследовал за сопротивление своей абсолютной власти. Знаменитый партизан скрывался в Байонне, и испанский консул с согласия французских властей арестовал его на французской территории. Людовик XVIII и герцог Беррийский возмутились оскорблением, нанесенным французской короне, пожелали, чтобы Мину отпустили, выдали французского агента, сообщника беззакония, и потребовали у испанского двора репарации. Когда Фердинанд VII отказал в репарации и вдобавок потребовал ее сам, дипломатические отношения между странами были разорваны.
Такой была ситуация в Европе, избавившейся от Наполеона, но претерпевшей своего рода повсеместную контрреволюцию, и это были еще не все беды, ей грозившие. Казалось, после пятнадцати лет страданий, причиненных чрезмерными притязаниями Наполеона, крах ненасытного завоевателя должен был послужить уроком и научить всех умерять свои притязания. Ничуть не бывало, – своей безудержной жадностью державы-победительницы, казалось, старались скорее оправдать Наполеона, нежели заставить благословлять его падение. Прискорбное зрелище представляли они в ту минуту в Вене, где назначили встречу на 1 августа.
В соответствии с 32-й статьей Парижского договора, которой назначалось открыть будущий конгресс через два месяца, следовало собраться 1 августа. Но поскольку срок был слишком небольшим, учитывая всё, что предстояло сделать, сбор конгресса договорились перенести на сентябрь.
Король Пруссии, несмотря на присущую ему скромность, отправился принимать чествования подданных. Император Александр, в свою очередь, отправился в Варшаву, чтобы расположить поляков к так называемому восстановлению Польши, им задуманному, и оба монарха вернулись в Вену лишь 25 сентября. Они совершили великолепный въезд в город, достойный их радости и побед. Император Франц, идущий на эти представления ради союзников, а не ради себя, вышел навстречу монархам, обнял их в присутствии своего народа и вернулся с ними в столицу среди толп воодушевленных жителей.
Постепенно прибыли короли Баварии, Вюртемберга, Дании, а за ними и все германские, итальянские и голландские принцы, которым предстояло отстаивать свои интересы на будущих переговорах. К венценосным особам присоединились генералы и дипломаты, горевшие нетерпением поздравить друг друга с военными и политическими победами. Одни прибыли, чтобы только послушать хвалебные речи и насладиться всеобщим триумфом, другие – чтобы заседать в конгрессе от имени своих правительств. Все эти люди, жадные до наград, увеселений, удовольствий и новостей, составляли самое ослепительное и шумное собрание в мире. Недоставало только несчастного короля Саксонии, томившегося в берлинском плену за то, что он последним оставил Францию, и Марии Луизы, томившейся в Шёнбрунне, откуда она с некоторой завистью прислушивалась к доносившемуся шуму празднеств. Озабочена она была не тем, как присоединиться к мужу на Эльбе, а тем, как отстоять герцогство Пармское у Бурбонов. Защищать свои интересы Марии Луизе помогал Нейперг, приставленный к ней недавно видный офицер, сведущий в военных делах и в дипломатии, сообщавший ей все полезные новости и постепенно превращавшийся из советника в защитника и друга.
Посвятив несколько дней развлечениям всякого рода, следовало перейти от праздничного веселья к серьезным делам, но никто не хотел торопить наступление этой минуты. Постоянно твердя о том, как важно сохранить согласие, не объяснялись ни по каким вопросам, за исключением пунктов, улаженных Парижским договором. Так, уже было решено, что Англия получит Бельгию и Голландию и составит из них Королевство Нидерландов; Австрия получит Италию до Тичино и По; Пруссия будет восстановлена и вернется к состоянию 1805 года; Россия избавится от Великого герцогства Варшавского и полюбовно разделит его с соседями. Никто не спешил портить всеобщее счастье раздорами и обговаривать долю каждого в распределении незанятых территорий, откладывая переговоры по спорным и сомнительным пунктам до осеннего собрания.
Сомнительные пункты не касались ни Италии, ни Нидерландов; они касались центра Европы, то есть территорий, заключенных между Россией, Пруссией и Австрией, и их распределение было способно возбудить серьезные затруднения и даже бури.
Александр и Фридрих-Вильгельм питали надежды, о которых едва ли подозревали их союзники, но которые уже полностью сформировались: получить целиком Польшу и Саксонию. Они дали друг другу слово о взаимной поддержке и прибыли в Вену в убеждении, что получат и то и другое.
Возможно ли, что Англия и Австрия не подозревали об этих планах, а если и подозревали, то приняли бы их без возражений? Это, несомненно, справедливый повод для удивления, когда думаешь о бурном сопротивлении, которое разразится вскоре. Но, как мы сказали, объяснений избегали из страха нарушить единство и говорили даже о восстановлении Польши как одном из дел, которое может обсуждаться на конгрессе. Однако в последние пятьдесят лет столько соединенных разными способами земель назывались Польшей, что это слово можно было произносить, не имея в виду определенных границ. Поэтому все оставались в удобной неизвестности, и к тому же насущные заботы отвлекали от забот более абстрактных. Англия, помнившая о континентальной блокаде и думавшая только о том, как помешать ее возобновлению, создавала Королевство Нидерландов, трудилась над восстановлением Королевства Ганновер, хотела обеспечить тому и другому Пруссию в качестве союзницы и готова была ради этого уступить что угодно.
Австрия, куда более проницательная, чем Англия, догадывалась о планах Фридриха-Вильгельма и Александра, ибо не хотела позволить Пруссии водвориться во всех ущельях Саксонии, а волнам славян – докатиться до подножия Карпатских гор. Однако эти тревоги были не единственными заботами Австрии: при всем нынешнем благополучии у нее никогда не было так много серьезных проблем. Хотя на востоке и севере ее тревожили Пруссия и Россия, следовало еще восстановить Германию и определить в ней свое конституционное место. Следовало больше заниматься Италией, сдерживать Мюрата, присматривать за узником Эльбы и Францией и следить, чтобы заботы об одних не повредили другим. Австрия была полна решимости пустить в ход все имевшиеся у нее средства – терпение, хитрость, бдительность, а при необходимости и силу. Из 300 тысяч человек, которыми она располагала, 250 тысяч собрались в Богемии и Венгрии, а 50 тысяч остались в Италии, хотя Австрии и грозили осложнения с Мюратом, итальянцами и, возможно, с узником Эльбы. Трудности Австрия хотела победить единством и согласием четверки, то есть Англии, Австрии, Пруссии и России, ибо считала, что привлечение Франции и мелких германских государств приведет только к хаосу, из которого снова вынырнет Люцифер. Он еще не ушел из людской памяти и наверняка не желал уходить, хоть и притворялся, что впал в глубокий сон. И потому первыми словами, произнесенными в Вене, были слова о единстве, которое нужно сохранить даже ценой величайших жертв, и о нем говорили тем больше, чем ближе становился день, когда оно должно было распасться.
С такими настроениями ехали в Вену. Именно в ту минуту, когда Европа неизбежно должна была разделиться, бросалась в глаза ошибка Франции, слишком поспешно подписавшей Парижский договор. Если бы Франция прибыла в Вену, не имея твердо начертанных границ, ее положение, бесспорно, серьезно отличалось бы от того, каким оно было в Париже в мае. Та из сторон, которая получила бы поддержку Франции, приобрела бы столь решающее превосходство, что ради него могли пойти на всё и, очевидно, не пожалели бы уступок. Державами, наиболее склонными к уступкам Франции, были, конечно же, Россия и Пруссия, ибо их интересы были сосредоточены на Висле и Эльбе, а не на Рейне и Шельде. И потому, если бы Франция встала на их сторону, то наверняка добилась бы лучших границ, нежели те, что были определены Парижским договором.
Взгляды Людовика XVIII во внешней политике, как и во всем другом, были умеренны и довольно разумны, но ограниченны, как и его желания. Довольный возвращением в свое королевство и обретением его в целости, даже с парой крепостей в придачу, он не испытывал желания его увеличивать. Ему не приходила в голову простая мысль, что если другие государства увеличиваются, а Франция остается тем, чем была в 1792 году, она оказывается умаленной, и если ей удастся вновь завоевать превосходство, то только благодаря деяниям Революции, которых он не ценил. Людовик XVIII обладал достоинством, но не обладал амбициями, стремился к миру, дорожить которым его заставляли возраст, немощь, перенесенные невзгоды и мучения Франции, и не хотел легкомысленно рисковать. Мания чрезмерно вмешиваться во внешние дела являлась императорской традицией, которая была ему не по душе, и Людовик желал, чтобы в Вене Франция играла достойную, мирную роль и добивалась лишь одного – избавления от Мюрата на неаполитанском троне. Оставить на одном из европейских тронов мелкого узурпатора, когда великий узурпатор пал, казалось ему позорной непоследовательностью и настоящей опасностью для Франции. Он боялся, что Наполеон в любую минуту может высадиться в Неаполе, выдвинуться с 80 тысячами человек на Альпы и начать оттуда возмущать Францию. Приписывая трудности в управлении королевством интригам и деньгам Наполеона, Людовик отказывался платить ренту в два миллиона, оговоренную трактатом от 11 апреля, и хотел, чтобы Наполеона перевезли на Азорские острова. Он желал также, чтобы Марии Луизе не оставляли герцогства Пармского и вернули его дому Бурбонов – Пармскому. Наконец, как сын саксонской принцессы, Людовик XVIII находил приличным для своей короны спасти короля Саксонии, но ставил эту цель на последнее место. Однако и ради этих целей он не пошел бы на серьезные осложнения и выразил эти скромные пожелания своему переговорщику, предоставив ему свободу вести себя как ему вздумается и едва взглянув на объемистую памятную записку под названием Инструкции, составленную в департаменте внешних сношений. Он подписал ее, почти не читая.
Переговорщиком, естественно, стал Талейран. К нему приписали герцога Дальберга, обладавшего редкой проницательностью и обширными связями в Германии, а потому весьма полезного. Впрочем, умеренность пожеланий Людовика XVIII облегчила задачу его представителей в Вене. Ведь было очевидно, что Мюрат, пребывавший в противоречии с нынешней ситуацией в Европе и опиравшийся только на Австрию, имевшую в его отношении обязательства до совершения им первой ошибки, вскоре избавит ее от обязательств каким-нибудь опрометчивым поступком и падет усилиями двух объединившихся домов Бурбонов. Правда, труднее будет на конгрессе, подчиненном императору Францу, низложить ради Пармского дома Марию Луизу. Но на просторах Италии найдется какая-нибудь компенсация и для нее. Что до Саксонии, Австрия, очевидно, не позволит пруссакам водвориться в Дрездене, а русским – у подножия Богемских гор; все второстепенные государства Германии возмутятся при одном предложении уничтожить Саксонию; Англия не сможет не прислушаться к их жалобам: британский парламент взорвется при мысли, что Россия может занять всю Польшу; и если ко всем возражениям присоединит свой голос Франция, России и Пруссии придется уступить. Тем самым, чтобы исполнить умеренные желания Людовика XVIII, оставалось довериться силе вещей. Вместе с тем оставалась одна сложность: крайнее нежелание Европы показывать нам свои разногласия и позволять вмешиваться в ее дела. При такой ситуации нам следовало выжидать, набраться терпения, не высовываться, дождаться разделения интересов и обращения к нам за помощью; словом, заставить возжелать нашего вмешательства, но не предлагать его самим. Терпение и гордость были единственной допустимой позицией, с наибольшей вероятностью ведущей к успеху.
И Талейран, безусловно, наилучшим образом подходил для выполнения подобной задачи. Однако темперамент порой уступает страстям, и тот, кто кажется самым флегматичным из людей, становится и самым напористым, едва ощутит укол самолюбия или амбиций. И Талейран на этот раз должен был явить тому примечательный пример.
На протяжении пятнадцати лет он играл главную роль на всех европейских собраниях и неизменно подчинял своей воле представителей тех держав, с которыми теперь ему предстояла встреча как с послами победившей Европы. Во времена Империи Меттерних был в Париже скромным послом побежденного и угнетенного двора; Нессельроде был простым секретарем посольства. Должно быть, Талейрану казалось мучительным не оставаться хотя бы на одном уровне с этими лицами, некогда незначительными и почтительными, и он не мог не чувствовать неловкости, способной, однако, повредить его поведению в Вене. Он только и задавался вопросом, как будет выглядеть в Вене Франция, столь долго побеждавшая и теперь побежденная, и как будет выглядеть он. В конце концов Талейран решил, что, после того как он был представителем всемогущего гения, теперь он станет представителем права (которое он обозначил удачным выражением наследственное право, имевшим огромный успех), и такая роль будет не ниже той, какую он играл прежде.
Итак, Талейран ехал в Вену, вооружившись талисманом наследственного права, который годился для многого, но не для всего. Чтобы добиться низложения Мюрата и внушить почтение к королю Саксонии, выражение было самым подходящим, но ведь если бы его стали учитывать постоянно, пришлось бы вести переговоры не с Бернадоттом, которому державы старались угодить, а со скитавшимся по Европе Густавом IV; не допускать представителя Фердинанда VII, ставшего королем вопреки воле отца, Карла IV, вовсе не отказавшегося от своих прав и готового их предъявить; позвать представителей Генуи, Венеции и Мальты, бывших курфюрстов Кельна, Трира и Майнца и многих других, чьи земли теперь намеревались поделить. Пришлось бы наполнить конгресс призраками и удалить реальных и всемогущих властителей. Несмотря на всё истинное и почтенное, что содержало выражение наследственное право, оно не могло в ту минуту послужить защите наиболее серьезных интересов Франции; оно вызывало улыбку практических людей, которые собирались на конгресс в Вене; неприятной стороной этого понятия было то, что оно делало нас приверженцами Австрии и Англии, менее всего склонных помогать нам оправиться от поражения: оно привязывало нас к их политике и лишало того, что составляло нашу главную силу, – свободы выбора.
Как бы то ни было, отбыв 15 сентября из Парижа, Талейран прибыл в Вену 23-го. Государи должны были прибыть через день, но их канцелярии и главные штабы опередили их на несколько дней, и в ожидании прибытия монархов языки развязались. Многое начало проясняться. Русские и пруссаки, осведомленные о решениях своих повелителей, решений этих не скрывали. Русские во всеуслышание и с необычайным бахвальством заявляли, что им нужна вся Польша; пруссаки, выказывая не больше осмотрительности и скромности, говорили, что им нужна Саксония. И те и другие, казалось, не допускали и мысли, что им могут отказать.
Желания, высказанные столь уверенно, с первого дня конгресса возбудили всеобщее волнение. Властители небольших княжеств были возмущены готовившимся уничтожением одного из их государств по воле амбициозного соседа и в наказание за общую для всех вину – союз с императорской Францией. Представители всех государств были напуганы тем, что Россия, в начале века находившаяся на Висле, выдвигается, благодаря сообщничеству Пруссии, к Варте и Одеру. Говорили, что не стоило труда сбрасывать иго Наполеона, чтобы столь быстро и полно сменить его на другое. Не меньше задевала всех претензия России, Пруссии, Австрии и Англии сосредоточить руководство делами в своих четырех миссиях, исключив остальных. Поэтому прибытия французской миссии ожидали с крайним нетерпением и, хотя Францию не любили, готовы были примкнуть к ней, если она, не притязая ни на что для себя, придет на помощь угнетенным, исключенным и обиженным.
Конец сентября ушел на празднества. Наконец настало время официально открыть конгресс в той или иной форме, всеобщим или частичным собранием. Нессельроде, Гарденберг, Меттерних и Каслри (или, как их называли, четверка), прибывшие первыми и стремившиеся решить все дела между собой, тайно пришли к согласию относительно наилучшего, с их точки зрения, способа действий. Всеобщее собрание было невозможно, и наиболее естественным стало бы, если бы подписанты Парижского договора, условившиеся встретиться в Вене, взяли на себя роль, которую играли на предыдущих конгрессах посреднические державы, и провозгласили себя посредниками, а при необходимости и арбитрами между заинтересованными сторонами. Восемь подписантов Парижского договора могли открыть конгресс, подтвердить полномочия, сформировать по каждому вопросу комитеты, состоявшие из главных заинтересованных участников, сделаться арбитрами в сложных делах, добиться соглашений по всем вопросам и затем, подготовив отдельные договоры по всем пунктам, соединить их в один всеобщий договор, который подпишут все государства без исключения. Правда, двое из восьми подписантов, Португалия и Швеция, облекались тем самым не соответствующей их действительной силе ролью великих держав. Но это было не столь важно, коль скоро находился законный предлог допустить вмешательство только восьми подписантов.
Такая форма была осуществимой и вполне подходящей, при условии, что некоторые державы не станут злоупотреблять ею, чтобы присвоить себе всё влияние. Решив вопрос формы, оставалось решить два важнейших вопроса по содержанию: раздела огромных освободившихся территорий и устройства Германии. Договорились, что подписанты Парижского договора откроют конгресс и создадут два комитета: по разделу территорий и общеевропейским делам и по конституции Германии. В первый комитет прежде всего должна была войти четверка, но невозможно было не включить в него и Францию, а вместе с Францией, представлявшей один из двух домов Бурбонов, и Испанию, представлявшую второй дом. Несмотря на включение в комитет шести держав, договорились все важные вопросы предварительно решать вчетвером, дабы сохранить руководство делами, для видимости разделив его с другими.
Германские дела решили поручить Австрии и Пруссии, которым предстояло играть в отношении этих дел такую же роль, какую четверка намеревалась играть в отношении дел европейских, то есть втайне решать их между собой, а затем для проформы предлагать на рассмотрение державам второго порядка, таким как Бавария, Вюртемберг и Ганновер. В состав германского комитета решили не вводить Саксонию, более или менее обреченную в глазах четверки, оба Гессена, еще не восстановленные, и Баденский дом, который сочли слишком незначительным.
Таков был результат первых совещаний послов четырех великих дворов. Странно и даже смехотворно, что державы четверки присвоили себе верховенство над всеми, уповая на единство между собой, каковое было невозможно из-за жадности и должно было разбиться вдребезги, как только обнаружатся первые взаимные притязания. Между тем их предложения, как только о них догадались, а для этого понадобилось лишь несколько дней, вызвали всеобщее возмущение. Все, кто узнал о своем исключении из совещаний и заподозрил, что исключение есть лишь способ пожертвовать его интересами, стали громко возмущаться и спрашивать, почему хотят всё делать вчетвером, вшестером или даже ввосьмером и не созывают всеобщий конгресс. Французская миссия, задетая тем, что ее не позвали на тайные совещания, также ратовала за созыв всеобщего конгресса и получила поддержку исключенных, то есть почти всех. Усердного приверженца она нашла и в лице дона Лабрадора, представителя Испании, человека разумного, который счел неуместным, несмотря на отсутствие взаимопонимания между дворами Мадрида и Парижа, привезти конфликт в Вену и захотел, чтобы оба дома Бурбонов, которым предстояло защищать общие интересы, заняли единую позицию. Он во всем следовал Талейрану, принимал его идеи и вторил его речам. Так под влиянием французской миссии в салонах Вены заговорили только об одном: когда и как соберется конгресс.
Всеобщее собрание при нынешнем состоянии умов пугало четверку. Однако следовало подать признаки жизни и объявить, наконец, что-нибудь многочисленным дипломатам, находившимся в Вене уже три-четыре недели и напрасно ожидавшим хоть какого-нибудь сообщения. И четверка решила, что восемь подписантов обнародуют декларацию, в которой объявят, основываясь на статье 32-й этого договора, что они прибыли и заняты первым изучением подлежавших решению вопросов, но еще не пришли к полному согласию и потому откладывают общее решение на месяц. В течение месяца для сближения интересов и примирения позиций ими будут использоваться неофициальные сношения, а по истечении этого срока будет созван и сам конгресс, дабы облечь достигнутые результаты в официальную и достоверную форму.
Был принят документ, датированный 8 октября и содержавший, в частности, такой пассаж: «…В интересах всех участвующих сторон отложить всеобщее собрание своих полномочных представителей до того времени, когда решения по рассматриваемым вопросам созреют достаточно, чтобы результаты отвечали принципам общественного права, соглашениям Парижского договора и справедливым ожиданиям современников».
Никто в Вене не обманулся относительно смысла слов принципы общественного права, все захотели увидеть в них первое преимущество, достигнутое в пользу Саксонии. Для германцев этот факт стал предметом большого удовлетворения. Даже среди пруссаков находилось немало таких, кто считал, что Саксония – слишком дорогое приобретение, если за нее придется отдать русским Польшу.
Внимание германцев отнюдь не было усыплено. Малые германские государства выказывали чрезвычайное возмущение против, как они говорили, жадности Пруссии, тирании России, неуклюжести Англии и слабости Австрии. Возглавляла протесты Бавария. Ведь она имела множество причин, чтобы не позволить принести в жертву Саксонию, существование которой было необходимо для поддержания германского равновесия и единственное преступление которой состояло в том, что она вынуждена была терпеть союз с Францией, тогда как Бавария добивалась его, а не терпела. Было очевидно, что после уничтожения Саксонии Бавария окажется слишком слаба, чтобы противостоять влиянию Австрии и Пруссии. Помимо веских причин защищать Саксонию, Бавария располагала к тому и средствами. Она имела сильное представительство в Вене: помимо короля, который прибыл в Вену лично, Бавария располагала в качестве посла на конгрессе князем Вреде, который был, несмотря на многие военные ошибки, одним из наиболее уважаемых генералов коалиции, пользовавшимся большим влиянием. Вреде без колебаний говорил (и баварский король Максимилиан его не опровергал), что ради спасения Саксонии следует дойти даже до войны, отставить ложную щепетильность в отношении Франции, принять ее поддержку, если она захочет таковую предоставить, и воспользоваться ею, чтобы оттеснить Пруссию в Бранденбург и отбросить Россию за Вислу.
Еще одно германское государство привнесло свое участие в такую политику: это был Ганновер, вновь ставший независимым с 1813 года. Король Англии, некогда бывший курфюрстом Ганновера, не пожелал иметь в Германии титул более низкий, чем государь Вюртемберга, получивший от Наполеона титул короля, и также принял королевское достоинство. На конгрессе интересы Ганновера представлял Мюнстер, категорически выступавший за сохранение Саксонии. Но, как обычно, взгляды ганноверского посла не во всем совпадали с воззрениями британского, который двигался своим курсом, предопределенным интересами Англии и интересами кабинета в парламенте. Однако Ганновер мог оказать Германии важную услугу, заставив принца-регента воздействовать на английских министров, дабы расположить их в отношении Саксонии более благоприятно, и это влияние, как мы увидим позже, могло оказаться полезным.
Гессен, Баден и другие княжества были готовы присоединиться к Баварии, Вюртембергу и Ганноверу и только ждали знака от главных государств. Дабы занять германских государей, сформировали комитет для обсуждения устройства Германии, состоявший из Австрии, Пруссии, Баварии, Вюртемберга и Ганновера. Председательствовать в комитете должна была Бавария: ее хотели вознаградить за исключение из общеевропейского комитета. И теперь этот германский комитет всеми возможными способами выказывал решимость защитить независимость германских государств от прихотей могущественных и амбициозных членов союза.
Наконец, ко всему пылу германцев добавлялся пыл австрийцев, который сдерживали члены правительства, но безудержно выказывали нация, двор и армия. В австрийском Главном штабе испытывали и выражали подлинный гнев по поводу планов Пруссии и России, ибо планы эти были весьма тревожны для Австрии. Австрийские военные заявляли, что послужили европейскому делу не меньше, чем остальные армии коалиции, ибо без них русские и пруссаки, прижатые к Одеру после поражения при Лютцене и Бауцене, были бы вскоре отброшены на Вислу. И теперь они беспокоились, не поставят ли их, в награду за пролитую кровь, в положение худшее, чем при владычестве Наполеона, подпустив к Богемским горам справа русских, а слева пруссаков, и не сдадут ли общим врагам ущелья, важность которых доказана Фридрихом Великим и Наполеоном. Хотя австрийские генералы и не хотели войны, они без колебаний заявляли, что готовы к ней, и лучше воевать теперь, чем позднее, дабы помешать двойной узурпации.
Тем самым, позволяя этим чувствам бродить и даже их не подогревая, Франция могла быть уверена, что вскоре сыграет большую и решающую роль. Однако два человека, призванные распутать запутанные нити европейской политики, лорд Каслри и Меттерних, хотели развязать этот гордиев узел, не прибегая к мечу, ибо мечом мог быть только меч Франции, а призывать в Германию французские армии казалось им делом бессмысленным и опасным. К тому же, согласные в цели, они не соглашались относительно средств. Меттерних не хотел уступать ни Пруссии, ни России, продолжая оказывать сопротивление с необычайной терпеливостью, дабы избежать разрыва. Лорд Каслри, напротив, хотел удовлетворить Пруссию, привлечь ее на свою сторону и использовать против России, что приводило его к оставлению Саксонии ради спасения Польши. Такое расположение лорда Каслри происходило от его понимания британских интересов, которое нуждается в объяснении, чтобы быть правильно воспринятым.
Континентальная блокада вызывала у англичан такой ужас, что они беспрестанно дрожали при мысли о ее возможном возобновлении, если не руками Наполеона, то руками Бурбонов. Такие воззрения были не более разумны, чем любые другие, вызванные страхом. Озабоченные этими опасениями, англичане вверили северное побережье Оранскому дому и припасли ему в союзники Ганновер, который предполагали усилить, и саму Пруссию, которой буквально навязали рейнские провинции, чтобы обязательно сделать ее врагом Франции. Опасаясь, что недостаточно привлекли Пруссию, англичане готовы были отдать ей даже Саксонию. Не надеясь, однако, заставить парламент вынести и оставление Польши, они были полны решимости противодействовать России, хотели ради этого разделить Польшу с пруссаками, уступив им Саксонию, и изолировать Россию настолько, чтобы ей пришлось выпустить добычу из рук.
Такая сложная политика не нравилась Меттерниху, который желал защитить и Саксонию, и Польшу. Но англичан нелегко образумить, когда они понимают свои интересы определенным образом, и Меттерних, чувствуя, что лорда Каслри может научить только неудавшаяся попытка, предоставил ему действовать. Он был уверен, что довольно защитить одно из двух дел, чтобы обеспечить спасение обоих. Отказ отдать всю Польшу означал отказ отдать и Саксонию; спасение первой означало спасение второй. Прекрасно сознавая эту связь, Меттерних и не пытался удерживать лорда Каслри, ибо был уверен, что более грозного противника Александру противопоставить невозможно. Помимо цельности характера, лорд Каслри обладал тем преимуществом, что представлял державу, менее всего заинтересованную в разделе территорий на континенте, к тому же платившую всем остальным. Превосходство того, кто дает, над тем, кто получает, всегда сквозило в отношениях Англии с союзниками.
Итак, действуя по-своему, лорд Каслри попросил у Александра аудиенции и тотчас ее получил. Александр лично посетил английского посла, чем тот был весьма тронут и выказал должную признательность и почтительность, но остался англичанином, то есть был категоричен. Прежде всего он попытался показать царю, что Англия во всем старается ему угодить; что в 1812 году она помогла ему заключить Бухарестский мир с турками и приобрести Бессарабию; убедила Персию уступить ему лучшую границу у Каспийского моря; согласилась наперекор своим интересам отдать Норвегию Швеции, чтобы окончательно обеспечить России завоевание Финляндии. Установив, таким образом, свои права на благодарность России, лорд Каслри указал, что Калишский, Райхенбахский и Теплицкий договора, заключенные в феврале, июне и сентябре 1813 года, предписывают трем континентальным державам разделить герцогство Варшавское между собой, и это не означает, что одна из них заберет его себе целиком. Затем лорд Каслри перешел к общим соображениям и указал, что Россия внушает тревогу всей Европе и сеет смятение среди союзников и, если не поостеречься, Венский конгресс, который призван положить начало господству умеренности и справедливости, вскоре будет представлять картину таких притязаний, что заставит сожалеть о Наполеоне. Английский посол высказал все эти соображения простым языком, ничего не преувеличивая, но ничего и не смягчая и только делая более ощутимой серьезность положения.
К сожалению, ни одна из четырех держав не могла преподать другой урок морали так, чтобы та тотчас ей его не вернула, и если бы Александр захотел начертать картину английских притязаний от оккупации Мальты до оккупации Мыса и Иль-де-Франса, то жестоко смутил бы британского посла. Император сдержался, хоть и был глубоко задет, однако не хотел оставаться раздавленным бременем услуг, которые Англия, по ее словам, ему оказала, и с тонкой усмешкой заметил Каслри, что Англия, конечно, облегчила России заключение мира с Персией и Турцией, но только для того, чтобы освободить русские армии для войны против Франции; а Норвегию, конечно, отдали Бернадотту, но только для того, чтобы освободить его от обязательств в отношении Наполеона;
и что мотивы благодетеля несколько облегчают для России бремя оказанных ей благодеяний. Затем, перейдя к упомянутым договорам, Александр заявил, что они были заключены в положении, к которому более не применимы;
что при подписании этих договоров надеялись положить неограниченному могуществу Наполеона хоть какой-нибудь предел, но не надеялись отвести его к Рейну и тем более сбросить с трона. И потому будет несправедливо, когда после неожиданной победы коалиции Австрия получит Инн, Тироль и Италию, Англия – Голландию и Бельгию, а Россия и Пруссия, подвергшиеся наибольшим опасностям, не получат своей доли.
К тому же, сказал Александр, в отношении Саксонии он связан обязательством перед своим другом королем Пруссии, а в отношении Польши – перед самими поляками. Он считает, что раздел Польши был посягательством, моральные последствия которого не перестают обременять Европу, и будет честнее и дальновиднее их исправить. Только Россия располагает средствами совершить таковое исправление, ибо владеет наибольшей частью польских провинций. Отказавшись от провинций, которыми владеет, и приняв легчайшую жертву со стороны Пруссии, Россия сможет восстановить Польшу в качестве отдельного королевства, снабдить ее свободными институтами, умерить ее в их использовании – словом, осуществить дело, которое составит славу Европы и Венского конгресса. Александр поставил себе эту благородную цель, ныне близок к ее достижению и не намерен отступать. Он не из тех государей, кто при необходимости с легкостью дает слово и с легкостью от него отказывается, когда нужда в том проходит. И он полагает, что оказал Европе достаточно весомые услуги, чтобы и она, в свою очередь, выказала к нему некоторое снисхождение.
Романтическая экзальтированность соединялась в императоре Александре с хитростью, что никогда не позволяло отделить в его действиях и мотивах искренность от честолюбия. Слава восстановителя Польши в самом деле затрагивала самые благородные стороны его души, и он почти убедил себя, что идет на жертву, уступая Литву и Волынь для создания Польского королевства, будто это королевство должно было принадлежать не ему, а кому-то другому. И потому, наталкиваясь на сопротивление, он почти чистосердечно негодовал.
Негодование это ничуть не тронуло лорда Каслри, и он вернулся к своей задаче, прибегая к подходящим и неподходящим доводам, предоставляемым ситуацией. Он не нашел серьезных возражений в отношении трех договоров 1813 года, ибо они были заключены в перспективе успеха и Россия, как и другие, имела право на огромные и неожиданные результаты. Лорд Каслри мог привести Александру только доводы об умеренности и равновесии, которые были превосходны, но имели вес в его устах лишь в том случае, если бы Австрия отказалась от Италии, а Англия от Бельгии. Что касается восстановления Польши, доводов у англичанина было множество, и он энергично привел их все.
Англия, сказал он царю, склонна согласиться на восстановление Польши, если оно будет полным и искренним и будет произведено на подобающих условиях. Если, к примеру, Австрия вернет все части Польши, которыми владеет; если Россия и Пруссия согласятся на такие же реституции; если будет учреждено отдельное королевство, не зависящее ни от кого из соседей; если дадут ему польского или любого независимого от участников раздела короля;