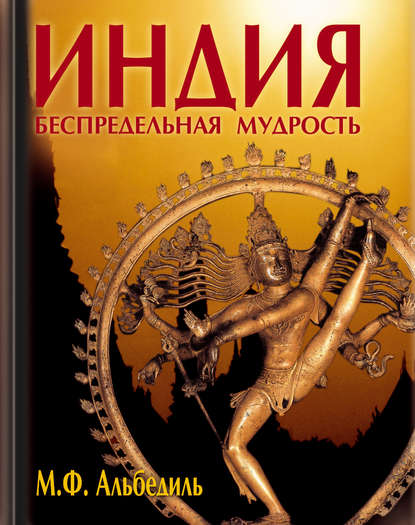По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Индия: беспредельная мудрость
Жанр
Год написания книги
2003
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В конце концов Валли уступила настояниям прекрасного юноши, и начались их свидания за пределами деревни. Однако период «тайной любви» завершился, когда наступило время сбора урожая и девушке пришлось вернуться в свое селение. В разлуке с возлюбленным она худеет, томится и страдает. Мать Валли приглашает прорицательницу, которая заявляет, что все беспокойства происходят из-за недостаточного почитания Муругана – покровителя этой местности. В честь него устраивается умилостивительный ритуал; Муруган является на просяное поле, но, не найдя там Валли, приходит в деревню. Молодые любовники устраивают побег, но на следующее же утро мать обнаруживает исчезновение дочери, а разгневанный отец пускается в погоню. Когда преследователи настигают беглецов и готовятся пустить в Муругана стрелу, павлин, сопровождающий его, вдруг издает пронзительный крик, и все преследователи падают замертво. Безутешная Валли оплакивает смерть родителей, но Муруган быстро оживляет их и является перед ними в своем истинном божественном облике. Отец Валли оказывает ему почести, достойные божества, смиренно просит вернуться в деревню и совершить свадебный обряд в соответствии с обычаями племени. Обряд этот очень прост: молодая пара садится на тигровую шкуру, отец Валли соединяет руки жениха и невесты и провозглашает их мужем и женой.
Таков вкратце брачный миф. Какие же существенные идеи, представления и ассоциации здесь запечатлены? Центральная роль в нем, как и в других мифах такого рода, отведена богине. Ее имя и весь образ чаще всего отмечены чертами вегетативной символики. Обычно она – темного цвета, как плодородная земля Индии, и ее описание изобилует различными «растительными» метафорами и ассоциациями, подчеркивающими красоту ее тела. Так, имя Валли означает ползучее растение со съедобными клубнями типа сладкого картофеля. Имя же мужского божества, Муруган, означает «юность, аромат, красота» и ассоциируется с состоянием расцветающей и благоухающей природы, с ароматом цветов и трав земли, возрождающейся с приходом дождей. Юный бог, таким образом, олицетворяет прежде всего производительную силу и мощь природы.
Илл. 11. Радха и Кришна. Миниатюра Раджастанской школы, XVIII в.
Однако богиня-супруга связана не только с идеей плодородия, блага и обилия, что очевидно благодаря ее ассоциациям с землей. Эти же ассоциации соотносят ее и с идеей смерти, и связь между этими идеями – смерти и материнства (плодородия) – принадлежит к числу весьма распространенных мифологических представлений: земля – чрево, откуда жизнь порождается и куда она уходит.
Одной из сущностно важных характеристик богини является ее приуроченность к определенному месту: святыне, храму или какому-нибудь иному сакрализованному пространству. В нем она пребывает и из него магически правит окружающим пространством; сюда же в ритуалах символически «прибывает» ее божественный супруг, и здесь происходит брачное таинство. Тесная связь богини с определенным местом или пространством не случайна: она передает идею стабильности, твердой и прочной основы, на которой зиждется жизнь. В сознании индийца эта идея апеллирует к цепи ассоциаций, согласующих, с одной стороны, твердь земную среди первозданного хаоса и мрака, с другой стороны – незыблемость и прочность домашнего очага среди житейских бурь и невзгод. Кстати, даже в этом частном примере проявляется тот космически-универсальный масштаб, который свойственен индийской культуре, когда ценности человеческой жизни наиболее полно раскрываются в космическом контексте.
Что же касается различия в пространственных характеристиках божественных супругов, то они передают помимо прочего и представления о разделении сфер мужского и женского: сфера женского обращена вовнутрь, в «свое» пространство, сфера же мужского – вовне, в «чужое» пространство. И если богиня связана по преимуществу с определенным местом, пространством, то в образе бога-супруга доминируют связи со временем, чаще всего с периодически повторяющимися временными циклами.
Божественное эротическое соединение символически передает идею плодородия, оплодотворения земли в сезон дождей. Развитие же их отношений, переход от одной фазы к другой даны в параллель с соответствующими состояниями природы; их глубокое сущностное сходство постоянно подчеркивается. Так, любовное соединение Валли и Муругана происходит ночью, в ее середине (сутки – временной отрезок, наиболее тесно связанный с мифологическим уровнем). Эквивалентом дня, дневного света выступает Муруган; солнечные ассоциации буквально «пронизывают» его облик. Ночной холод и мрак, как бы отграниченные любовным союзом, сменяются дневным светом и теплом. Однако богатые ассоциации этим не исчерпываются; они образуют всеохватывающую дихотомию, отсылающую брак Валли и Муругана к изначальным временам преобразования хаоса. Параллельно этому состояние тайной добрачной любви (естественное, природное) сменяется супружеским (культурным, социально регламентированным).
Илл. 12. Богиня Ума. Южноиндийская бронзовая статуэтка раннего Чольского периода (ок. X в.) из храма Мадхьярджуны в Тирувидаймарудуре
Брак богов строго соотнесен и с определенным временным периодом: обычно указывается время суток и сезон, когда он происходит; а в праздничном календаре сакральный брак – один из важнейших ритуалов годового сельскохозяйственного цикла. Чаще всего он связан с Новым годом или с другим крупным биокосмическим циклом. Тем самым в брачных мифах актуализируется фундаментальная мифическая модель, сочетающая сакральное, изначальное время творения и эмпирическое текущее время. Так временная приуроченность брачного ритуала получает глубокую смысловую мотивировку во взаимообуславливающих темах природного времени, сельскохозяйственных трудовых циклов и возрастных стадий человека, – все эти циклические времена в мифах как бы пульсируют друг в друге, и пульсация эта показана на фоне извечных мировых устоев, когда элементы космического уровня пронизывают элементы уровня человеческого, как бы подкрепляя их.
В мифе указана и предпочтительная форма брака, до сих пор популярная на дравидском юге, – кросскузенная. Мать Муругана, богиня войны Коттравай, является сестрой Маля, «черного бога», отца Валли. Таким образом, Валли – двоюродная сестра Муругана, и их союз отражает помимо всего прочего нормативную форму брачного обмена.
На глубинном уровне мифа запечатлено представление об энергии анангу, носительницей которого является богиня. Эротическая по характеру, эта сила ассоциируется с жаром, накалом страсти и таится в женской груди. Она может накапливаться и может тратиться; она может быть созидательной и может быть разрушительной. Иконографически двойственный характер богини иногда передается изображением ее тела, разделенным на две половины: темную, зловещую и светлую, благостную. Соответственно, в некоторых мифах бог-жених женится дважды, и две его жены символизируют два взаимодополняющих аспекта богини; сама же она олицетворяет их нераздельное единство.
Понимаемая в аспекте женской сексуальной энергии, анангу может приносить благостные плоды и способствовать всяческому процветанию лишь в том случае, если она контролируется и правильно расходуется. Если же она выходит из-под контроля, то может стать разрушительной, как в дравидском эпическом произведении «Повесть о браслете», где разгневанная супруга, потеряв мужа, сжигает город Мадурай вырвавшимся из ее груди смертоносным пламенем.
Илл. 13. Богиня-мать. Поздний период Маурья, II в. до н. э.
Заключение этой силы в определенные границы, ее постоянный контроль и осуществляется в брачном ритуале, что составляет его главный смысл и цель. Необходимость такого постоянного контроля-охлаждения подразумевал двойственный характер женской энергии, жара, поэтому суть отношений супругов сводится к тому, чтобы каждый из них, будучи охвачен пылом страсти, мог служить источником прохлады для другого. Это глубинное представление-предписание относится к уровню межличностных отношений противоположных полов.
Что же касается социального уровня, то здесь предписываются специальные правила и обязательства, которые накладываются на женщину, с тем чтобы ее энергия находилась в благом, сдержанном состоянии. Эти правила называются по-тамильски карпу (производное от глагола кал — «учиться») и означают «обученность», «умение» женщины владеть и распоряжаться своей энергией, что считается высшей женской добродетелью. Ключевая роль в семейной ячейке принадлежит именно женщине, носительнице энергии, а вся ячейка, схематически изображенная, являет собой как бы каркас, где женщина помещена в центр и окружена близкими ей родственными мужчинами (отец, сын, брат, муж), скрепляя весь блок. Этот круг, созданный мужчинами, замыкает, «окружает», сдерживает и контролирует женскую энергию, тем самым как бы вынуждая ее быть благостной и «работать» для своей семьи; вырвавшись же из-под контроля, она может стать разрушительной. Таким образом обосновывается необходимость бережного отношения мужчины к женщине и преданности женщины мужчине.
Глубоко и многопланово символичный брак богов соотносится, говоря словами М.М. Бахтина, «с идеей мировой целокупности, с полнотой космического и человеческого универсума». Для примера подобной соотнесенности в этих смысловых сцеплениях можно выделить две фундаментальные темы. Первая из них – тема жертвы, жертвоприношения. Вся жизнь ортодоксального индуиста – это нескончаемый цикл жертвоприношений, и брак – одно из важнейших звеньев в этой цепи. Правильное, упорядоченное совершение жертвоприношений воспроизводит регулярное чередование в явлениях природы. Согласуя человеческий, следующий божественным образцам и природный циклы, жертвоприношение призвано поддерживать ту всеобъемлющую трансцендентную гармонию, пристрастием к которой, как уже сказано, отмечена вся традиционная индийская культура. В некоторых брахманистских текстах брак недвусмысленно трактуется как жертвоприношение, а не вступивший в брак считается не совершившим жертвоприношения, что само по себе недопустимо. В «Брихадараньяка-упанишаде» в символическом наставлении о «пяти огнях» женщина уподобляется жертвенному огню, на котором совершается жертвоприношение семени, и из этого приношения рождается человек.
Илл. 14. Храмовое дерево и змеиное святилище под ним с алтарями, на которых изображены змеи. Алтари покрыты ритуальными красной и шафрановой красками. Поклонение змее – одна из форм культа плодородия. Фото А.М. Дубянского
Тема брака как жертвы смыкается с космогоническими мотивами – второй фундаментальной темой. Некоторые мифы о первотворении демонстрируют связь с сакральным браком, то завуалированную, то очевидную. Проанализировав ведийские гимны, в которых повествуется о том, как демиург пронзил ваджрой плавающий в изначальных водах холм и приковал его ко дну, Ф.Б.Я. Кейпер заключил: «Вряд ли можно, конечно, отрицать, что индийские мифы о начале мироздания обнаруживают некоторое сходство с зачатием человеческого существа».
В некоторых архаичных вариантах мифа связь первотворения с сакральным браком вполне очевидна и безусловна. Так, согласно одному из дравидских мифов, богиня Ума возродилась на земле, чтобы искупить свое прегрешение, которое она совершила когда-то, закрыв глаза своему божественному супругу Шиве, пребывавшему в медитации. Богиня почтила бога, обосновавшегося в селении Канчи и принявшего форму каменного лингама – фаллического символа. Бог же решил испытать Уму: он собрал все воды мира, сосредоточил их в реке и обрушил ее на селение, затопив все вокруг. Но богиня крепко обняла лингам, чтобы спасти его от сокрушительного потока, и тот стал мягким в ее объятиях.
Процесс творения, периодически повторяющийся в беконечных временных циклах, в брачных мифах подчинен универсальной мифической схеме. Она связана с понятием конца определенного мирового временного периода и начала следующего, разделенных полосой мрака и водного хаоса, потопа. Разрушение в этом случае не трагично и не безысходно, так как оно обеспечивает залог новой жизни; в мифах этот залог чаще всего символизируется мужским семенем или, как в приведенном примере, фаллическим символом. Так же, через хаос и тьму, возникает новая жизнь, которой неизбежно предшествует смерть, и этот параллелизм связывает воедино в мифах о сакральном браке обе темы – жертвоприношения и космогонии.
Ритуалы, связанные с брачными мифами, построены на символических отождествлениях жизни и горячей крови, которая олицетворяет мужское производительное начало. В противоположность этому молоко с его очищающим, умиротворяющим и охлаждающим действием входит в ряд отождествлений, объединяющих женское начало, материнство и другие соответствия, связанные с богиней. В свою очередь, с представлениями о крови и молоке (мужском и женском началах) связаны буквально и метафорически большие ряды символов и понятий: красный и белый цвета, ритуальные чистота и нечистота, мужская и женская телесная образность и т. п. Все эти символы «проигрываются» в ритуале в самых разных контекстах: на уровне символических объектов, слов, жестов, действий, отношений между исполнителями ритуалов. Таким образом, одно и то же содержание мифа передается разными кодами, в чем и состояла во все времена одна из причин действенной силы мифов, связанных с ритуалами в составе единого комплекса: как известно, одной из основных единиц психической деятельности является не столько ассоциирование, сколько сопоставление и сравнение.
Таким очевидным способом брачная поведенческая стратегия вводилась в контекст мироздания, и этим обосновывалась ее непреложная ценность в восприятии индийцев. Разумеется, сами они ни в прошедшие, ни в настоящие времена не обременяют себя излишними рефлективными усилиями по поводу причин и особенностей своего поведения: это удел людей, находящихся вне традиции. Для носителей же традиции самодостаточным аргументом является ссылка на подобный прецедент с мифическим предком, на мир богов и эпических героев: чем ближе действие к мифическому архетипу, тем оно правильнее и ценностно-значимее.
Так миф задавал нормативный стандарт брачных и иных норм. Но само по себе существование нормы предполагает наличие неизбежных отклонений от нее. Как писал в свое время Л.С. Выготский, «все наше поведение есть не что иное, как процесс уравновешивания организма со средой. Чем проще и элементарнее наши отношения со средой, тем элементарнее протекает наше поведение. Чем сложнее и тоньше становится взаимодействие организма и среды, тем зигзагообразнее и запутаннее становятся процессы уравновешивания». «Зигзагообразные» варианты брачного поведения также приводятся в мифах, причем, как складывается впечатление, с исчерпывающей полнотой. Так, например, в них учтены варианты, когда невеста отказывается вступить в брак, считая себя и без того счастливой; когда невеста, снедаемая страстным желанием, жаждет поскорее заключить брачный союз и впадает в неистовство в случае его расстройства; когда невеста злонамеренна и коварна и убивает своего жениха; когда невеста недоступна, находится в заточении и жених должен ее добывать, например, из царства мертвых; когда невеста – мать, которая убивает мужа-ребенка для сохранения своей добродетели; когда невеста – мать сына, иногда – сестра брата (инцестуозный вариант брака). Предусмотрены также варианты полового травестизма и андрогинного объединения двух полярных начал.
Даже это краткое перечисление само по себе выразительно: оно убеждает, что мифы играли роль надежных блоков памяти, храня свидетельства о самых разных ситуациях, которые могли складываться во взаимоотношениях противоположных полов, и предлагали соответствующие этим ситуациям стратегии поведения. Возможно также, что мифы хранили не только программы-стереотипы, одобряемые обществом, но и помогали заглянуть в наше подсознание, так как, говоря словами того же Л.С. Выготского, «наше осуществившееся поведение есть ничтожная часть того, которое реально заключено в виде возможности в нашей нервной системе и уже вызвано даже к жизни, но не нашло себе выхода». Приведенная модель брачного поведения оказалась не только действенной, но и весьма прочной и устойчивой; об этом свидетельствуют многочисленные примеры из литературы и из жизни.
Каков же механизм действия мифологической модели? Он вполне рационален и сводится в общих чертах к психологическому самопрограммированию. Еще Л. Леви-Брюль отмечал, что мифологическую модель запускал в действие механизм саморегуляции, суть которого состоит «в том, чтобы находить в действиях мифических существ „прецеденты", подражание которым обеспечивает нынешнему действию его эффективность, устанавливая партиципацию между ним и его образцом, так что оно оказывается столь же удачным, как и действия мифического героя».
Речь идет о том, что люди, верящие мифам, отождествляют себя с его героями: не мы, как они, а мы – это они. Очень важно, что они знают миф и знают имена мифических героев: для них это означает, что они сопричастны этому божественному прототипу. Девушка, зная миф о Валли, и поведет себя как она, полностью отождествляя себя с богиней, а юноша будет отождествлять себя с Муруганом и подражать ему.
Миф и заключенный в нем смысл прежде всего переживается, а не обдумывается, то есть имеет сенсорную модальность. Мифические тексты воздействуют не только смысловым содержанием, но и ритмической структурированностью, которая также играет не последнюю роль. Не стоит забывать и о том, что сознание индийца практически мгновенно воспринимает все смысловое поле и все множество связей целиком: в отличие от нас он не нуждается в расчленяющем анализе.
Таким образом, миф дает как бы матрицу уподобления, которой остается только следовать, с тем чтобы свести к минимуму проявления разрушительных качеств женской энергии и иных поведенческих стратегий и максимально увеличить их благоприятные проявления. Каждый индиец старается реализовать заданный сакральный образец на собственном психологическом уровне, стремясь к максимальному тождеству с божественным идеалом.
Пожалуй, такому человеку, сохраняющему традиционный образ жизни, можно искренне позавидовать: у него есть поведенческие программы на любой случай жизни, которые избавляют его от мучительных раздумий и колебаний, так как он имеет готовое руководство в жизни. Ему остается лишь воспроизводить в своем настоящем, профанном времени то, что в священные времена первотворений и первособытий совершали боги, а об этом он знает из мифов, хорошо знакомых ему с детства. Русский читатель может составить приблизительное впечатление о чувствах индийца, следующего предписанным правилам, вспомнив слова о Вронском из романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина»: «Жизнь Вронского тем была особенно счастлива, что у него был свод правил, несомненно определявших все, что должно и не должно делать. Свод этих правил обнимал очень малый круг условий, но зато правила эти были несомненны, и Вронский, никогда не выходя из этого круга, никогда ни на минуту не колебался в исполнении того, что должно… Все эти правила могли быть неразумны, но они были несомненны, и, исполняя их, Вронский чувствовал, что он спокоен и может высоко носить голову».
История без хронологии
В Индии не было и не могло быть своего Геродота, Сыма Цяня или какого-либо иного «отца истории», как и вообще долго не было своей историографии. Более того, Индия с непозволительной с нашей точки зрения расточительностью «забывала» своих героев и даже целые исторические эпохи и была совершенно равнодушна к тому, что мы называем ценными историческими источниками, важными историческими памятниками и интересными историческими событиями. Равнодушие индийцев к истории поразило Аль-Бируни: «Индийцы не уделяют большого внимания исторической последовательности событий; они не соблюдают хронологической последовательности, описывая царствование своих правителей, и когда у них требуют сведений по этому поводу, они теряются, не зная, что сказать, и непременно начинают рассказывать сказки».
Внимательному читателю уже понятно, почему это происходило и какие «сказки» рассказывали индийцы: человек, ощущающий свою неразрывную связь с космосом и его ритмами, будет совершенно равнодушен к истории в нашем смысле этого слова – как к последовательности событий, объединенных только общей хронологической шкалой. Нельзя категорически утверждать, что для него вообще не существует никакой истории. Нет, история мира есть, но лишь постольку, поскольку она является творением богов, и никак иначе, а она, эта священная история, подробнейшим и достовернейшим образом запечатлена в мифах, которые Аль-Бируни и назвал уничижительно «сказками».
Здесь уместно вспомнить ключевое слово предыдущей главы, посвященной мифам, – «вечность», а вечность и историческая хронология – понятия несовместимые. «Зачем пишется история?» – спрашивал К.-Г. Юнг, почувствовавший в Индии на всем «печать вечного бытия». И отвечал: «В такой стране, как Индия, не особенно ощущается ее отсутствие… В Индии будто и нет ничего такого, что уже сотни раз не существовало бы ранее. Будто каждый, кто живет сегодня, жил уже множество раз в прошлых временах. Сам мир есть не что иное, как возобновление существования, которое уже многократно повторялось». Это явственно ощутимое чередование космических ритмов заставило индийцев постоянно чувствовать переливы майи – иллюзорность и преходящесть этого мира, а «могучая монотонность бесконечно повторяющейся жизни», по Юнгу, кажется в Индии почти осязаемой, и человек здесь как нигде может осознать внеисторичность своего бытия.
В самом деле, индийцы убеждены, что каждый человек приходит в этот мир не один раз и совсем не обязательно в облике человека, а потому так ли уж важно, в какой именно из своих многочисленных жизней он сделал что-либо, заслуживающее запоминания и передачи потомкам! Да и для чего запоминать? Ведь в грандиозном космическом масштабе и люди, и события теряются в своей незначительной малости. Вот почему до мусульманского завоевания в XIII в. Индия не знала и таких излюбленных на западе исторических жанров, как хроника или летопись, и совершенно не интересовалась хронологией. Мусульманские же ученые с их пристальным интересом к фактам оставили много исторических сочинений разного рода, связанных с Индией, но их больше интересовала не собственно страна, а ее завоевание приверженцами «истинной веры».
По этим и по сходным причинам история Индии, по крупицам восстановленная учеными, никак не может быть полной. Она фрагментарна, мозаична и ускользающа. Ее трудно представить в виде стройных хронологических таблиц, обширного корпуса исторических сочинений и подробных описаний фактов и событий, достоверность которых подкреплена документами. Она скорее напоминает старинную фреску, на которой одни детали изображения четко видны, другие лишь слегка угадываются, а третьи безжалостно стерты неумолимым временем. Бельгийский ученый, исследователь буддизма и истории Индии де ла Валле Пуссен – и не он один – неслучайно сетовал: «Индолог в том, что касается периодов, не освещенных эпиграфикой, удовлетворяется „фактами", которые в других научных дисциплинах вряд ли были бы признаны даже вероятными предположениями. Сведения, которыми он пользуется, плохо датированы, мало понятны, зачастую еле осязаемы…»
Но даже и эти «еле осязаемые» сведения относятся к истории по преимуществу политической, в меньшей степени – к истории экономической и социальной, да и то далеко не ко всем периодам. Однако история, как утверждал один из крупнейших европейских историков М. Блок, – это наука о людях во времени, и, безусловно, самое интересное в ней – это сам человек во всей неисчерпаемой полноте его бытийственности и во всех сферах жизни, но этот идеал европейской науки для истории Индии пока недостижим.
Вполне возможно, что самим индийцам он и не нужен. «История имеет смысл в европейских странах, – писал Юнг, – где на фоне еще близкого варварского, внеисторического прошлого вещи начали приобретать форму. Возведены замки, храмы и города. Построены улицы и мосты. Народы открыли для себя, что они имеют имена, что они где-то живут, что у них стало больше городов и с течением времени их мир расширяется. Заметив, что во всем этом присутствует какое-то развитие, люди заинтересовались происходящими изменениями. Труд по описанию начала и дальнейшего движения показался им плодотворным…»
Индийцы же едва ли сочли бы такой труд плодотворным и тем более необходимым. Наша историчность связана с чувством уникальности и неповторимости во времени, а оно чуждо индийскому образу мысли. Согласно ему, исторические события – не точки на хронологической линии, а, скорее, точки на вращающемся круге. Какой же смысл их описывать? Да и как? «Труд по описанию начала» уже совершен: все, что нужно знать людям, уже запечатлено в мифах – руководствах к действиям и путеводителях по жизни, так что требуется только следовать этим указаниям.
Читатель вправе задать вопрос: если не было хронологии, то что же было? А была – традиция, которая наилучшим образом и воплощает в себе правду человеческого бытия, и потому миропонимание всегда было по сути своей традиционно, то есть ориентировано прежде всего на традицию. Пожалуй, это нам трудно понять, поскольку традиция, кажется, уже почти полностью устранена из нашей жизни: вся история европейской культуры Нового времени выглядит как неуклонное и последовательное ее отрицание.
Вследствие этого термин «традиция» нужно пояснить особо, так как обычно он наполняется весьма разнообразным смыслом, но чаще всего к традиции относят чуть ли не каждое явление, имевшее место в прошлом, понимая ее как нечто застывшее и косное. Обычно под словом «традиция» подразумевается устойчивый, веками кристаллизовавшийся быт, неизменные поведенческие стереотипы или канонические художественные стили. Но традиция – это прежде всего последовательное и цельное миросозерцание, связанное с потаенно-глубинным течением жизни.
Р. Генон в одной из своих работ определил традицию как термин, имеющий отношение прежде всего к сакральному: «Все, к чему приложимо название традиции, если не во внешних проявлениях, то хотя бы по своей сути, осталось таким же, каким было первоначально; речь идет о том, что было передано, если можно так сказать, от предыдущего состояния человечества его нынешнему состоянию». В самом деле, настоящая традиция несет в себе некую изначальную истину и обеспечивает нынешнему состоянию вещей определенную прочность, и человек, следующий традиции, увереннее ориентируется в мире.
Итак, здесь речь пойдет о традиции духовной, до XIX в. бывшей в Индии единственным способом существования и развития духовной культуры, в которой существует безусловный примат внутреннего над внешним, а также обязательно присутствует идея преемственности, и о ней также стоит сказать подробнее. Индия – страна уникальная в том отношении, что здесь тысячелетиями сохранялась подлинная непрерывность традиции и продолжали существовать издревле установленные основы и законы жизни. «Цепь времен» здесь никогда не рвалась, а бережное отношение к прошлому, к заветам предков было одной из самых устойчивых национальных характеристик. «Я видел нечто исключительное в том, что на протяжении пяти тысячелетий истории вторжений и переворотов Индия сохранила непрерывную культурную традицию – традицию, широко распространенную среди масс и оказавшую на них огромное влияние. Только Китай знает такую же непрерывность традиций и культуры», – писал Дж. Неру.
Таким образом, жизнь лицом к традиции, к тому, что задано от века и что передается из поколения в поколение, – одна из максим индийского сознания, в то время как современная технократическая цивилизация антитрадиционна по своей сути. Поэтому и история в Индии – не в нашем, а в их смысле слова – всегда осознавалась не столько как последовательность событий, сколько как последовательность поколений. Вот почему революция, то есть тотальное отрицание всего прошлого, богов, предков и их традиций в Индии едва ли возможна. Осознание истории именно как преемственности поколений имеет очень глубокие корни: в индийской мифологии мы не найдем конфликта между разными поколениями богов, как, например, в греческой; она разворачивается иначе. И сейчас прошлое занимает в структуре сознания индийцев первостепенное значение, а вовлеченность их в собственную традицию создает «глубину» времени, общую культурную память, чувство хорошо обеспеченного тыла, то есть психологическое ядро нормальной здоровой личности, не устремляющейся в светлое будущее, забыв о сегодняшнем дне.
Так что К.-Г. Юнг совершенно прав: наша привычная «история имеет смысл в европейских странах», но не в Индии. Дело осложняется еще и тем, что ритмы индийской истории не совпадают с известными нам ритмами западной, главным образом европейской истории с ее традиционным делением на древность, средневековье и новое время. И хотя такое деление у нас принято и даже приспособлено к общемировой хронологической шкале, оно ощущается в значительной степени как насильственное. Как бы мы ни старались, мы не обнаружим в Индии ни эпохи Возрождения, ни периода Великих географических открытий, ни века Просвещения, ни иных неизбежно ожидаемых знакомых эпох и вех.
На эту временную непривычную для нас неоднородность накладывается еще и географическое, пространственное многообразие: Индия простирается от экватора до «холодного сердца Азии», от тропиков до умеренного пояса, и, как уже отмечалось на страницах этой книги, индоариец северо-запада во многом не похож на южного дравида: «Черные дравиды еще не напоминают Веды и Махабхарату», – записал Н.К. Рерих в своем дневнике.
Ну что ж, здесь нет поводов для огорчений, скорее наоборот: исторические, как и другие, несовпадения всего лишь заставляют нас пересмотреть привычные стереотипы и раздвинуть тесные горизонты. Как отмечал Ромен Роллан, мы привыкли запираться в своем этаже Жилища человека, и поэтому остальная часть дома кажется нам необитаемой. Между тем «в мировом концерте все века, прошлые и настоящие, составляют оркестр и играют в одно и то же время», и, добавим, индийская мелодия в этом концерте весьма красива и полнозвучна.
Какие же шаблоны нашего исторического восприятия в наибольшей степени оказываются под угрозой при знакомстве с духовными традициями Индии?
Мы привыкли связывать историю прежде всего с двумя модусами человеческого существования: временем и памятью. Но со временем у нас, с точки зрения индийцев, «что-то не так», как сказал Саша Соколов в «Школе для дураков». Объяснить это можно тем, что мифы задают совсем другое восприятие времени, отличное от привычной нам ньютоновско-картезианской парадигмы линейного, необратимого, однородного и однонаправленного, текущего из прошлого в будущее времени, нейтрально-равнодушного по отношению к нам, у которого единственным критерием для сравнения оно само и является. И хотя еще в начале XX в. А. Эйнштейн вдребезги разбил это абсолютное и равномерное ньютоновское время, все же привычная парадигма продолжает господствовать в наших умах, и именно ею продиктованы наши общепринятые представления о времени.
Мифологическая же модель времени предполагает совсем другую картину, а именно – противопоставление изначального священного и повседневного профанного времени: «вневременье распалось в дождь веков». Эта модель была дополнена, а потом и переросла в другую – циклическую модель времени, которая отражала природные, биологические, космопланетарные ритмы. В ее основу легли представления о природном круговороте, круговращении и о круге как о емком и весьма распространенном мифологическом символе, выражающем идею и бесконечности, и законченности: ведь круговое движение потенциально бесконечно, а линия круга в любой точке ориентирована на центр.
Психологически такое циклическое, обратимое и неоднородное время кажется более «уютным». Его самые жесткие свойства – необратимость и линейность, связанные с разомкнутостью, с открытостью в неизвестное, – как бы приглушены и смягчены: всегда легче отправляться в путь, зная, куда ты вернешься, чем вставать на прямую дорогу, ведущую в никуда и не предполагающую возврата. А если известно, что человек появляется на свет из небытия и в небытие же уходит, что его жизнь как бы пролегает между двумя пустотами, соотносимыми с миром предков и богов, то это обстоятельство и служит мерилом для восприятия ценности его жизни, а время при этом становится еще и качественно прочным.