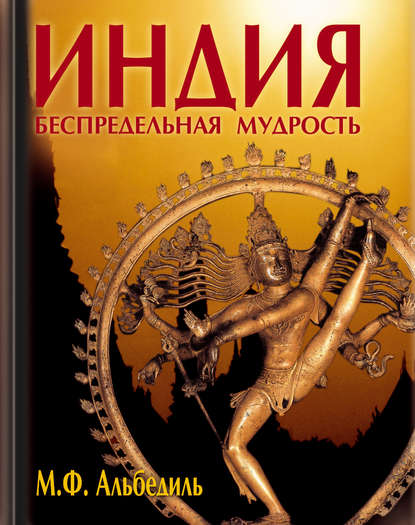По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Индия: беспредельная мудрость
Жанр
Год написания книги
2003
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И древнее мифологическое, и современное сознание роднит общее отношение ко времени как к непостижимой тайне. Проблему времени, как, впрочем, и пространства, индийские мудрецы рассматривали в разных ракурсах. Но во всех случаях они придавали ему всесильную власть. В мифологии циклическое время воплощалось в образе божества Кала, первоисточника вселенной. Времени приписывается демиургическая роль; через него выявляется мир, то есть время выступает как синоним проявленности феноменального мира. Имя его происходит от индоевропейского корня со значением вращения. Оно, как «великий океан творений», заключает в себе все живые существа, которые из него исходят и в него же возвращаются, «на круги своя».
Согласно специальному учению о времени, калавада (то есть «времясловие»), время объемлет собой весь мир, оно – бесконечный и безначальный поток, главная причина изменчивости и бренности этого многокрасочного и быстротечного мира, и оно же – главная порождающая сила, доводящая до зрелости людей и других живых существ. Но оно же – и сила, ненасытно поглощающая все во вселенной, несущая гибель и смерть. Время играет людьми и может безжалостно сжигать все, как огонь. Перед всесильной властью этого ненасытного и всепожирающего времени меркнет все, и любые усилия кажутся тщетными, бессмысленными, потому что как главный деятельный принцип время все равно превосходит силу человеческих деяний.
Можно ли «растянуть» такое время по привычной нам хронологической шкале, располагая на ней цепь внешних событий и фактов, связанных друг с другом лишь тем, что они происходили в одно и то же или близкое время?! Можно, но при этом что-то сущностно важное неизбежно пропадет.
Как же строят индийцы свою традиционную временную перспективу?
Начиная с глубокой древности время отождествлялось с кругом как с наиболее совершенным пространственным образом, а в качестве основного, базового цикла времени выделялся год – в соответствии с природными закономерностями. В основе мифической «хронологии» лежит сопоставление неизмеримой божественной вечности и человеческого периода времени, измеряемого видимым движением солнца. Исходным же ее пунктом можно считать приравнивание одного календарного – человеческого – года к одним божественным суткам. Тогда один месяц богов окажется равным 30 годам человека, а один год богов 360 годам человека. Из этих единиц складываются большие циклы, которые подразделяются на более мелкие периоды.
Самая «мелкая» единица, юга, подразделяется на время «дня», «ночи» и «сумерек». Четыре юги составляют одну махаюгу, или манавантару, то есть время существования одного мира, подвластного первочеловеку Ману, причем длительность юг постепенно убывает. Каждая махаюга равна 12 тысячам лет. Юги обозначены терминами для игры в кости: крита, трета, двапара и кали – и соответствуют костям в 4, 3, 2 и 1 очко; каждая последующая юга на четверть короче предыдущей, и это ускорение времени свидетельствует об ухудшении состояния мира, приводящем в конечном итоге к его гибели.
12 тысяч человеческих юг составляют одну божественную югу, а тысяча божественных юг – одну кальпу, или день Брахмы, равный, по мнению индийцев, 4320 миллионам лет. Но и этот великий бог не бессмертен в абсолютном смысле этого слова. И его дни, сколь бы велики они ни были, тоже сочтены. Он живет 100 лет – по своему божественному исчислению, которое не равно человеческому, – а затем умирает. Итак, бесконечная вселенная состоит из множества миров, и каждый из них имеет свое начало, расцвет и конец. Подобно тому как человек ночью спит, а днем бодрствует, в жизни вселенной также чередуются периоды покоя и деятельности. Период деятельности – день Брахмы – сменяется периодом покоя – его ночью; жизнь Брахмы – это время существования универсума, а с его смертью вселенная погружается в великий хаос, который на санскрите называется пралая или махапралая.
Илл. 15. Вишнучакра (X в. н. э.) – боевой диск, атрибут и оружие бога Вишну отражает символику пространственно-временных отношений
Но все сущее не гибнет безвозвратно, оно лишь освобождает место следующему творению в новом цикле, в следующем «веке» нового Брахмы – и так повторяется бесконечно: индуистская «оптика» показывает жизнь вселенной как непрерывную цепь возникающих и вновь распадающихся миров. Все наше грандиозное, необъятное и непостижимое мироздание со всем сущим в нем – лишь ничтожно малое звено; космогонические же циклы бесконечны, как бесконечен сам мир.
В целом такой временной свод производит грандиозное впечатление всеохватной целостностью и своими сложно сплетающимися циклами, уходящими в космическую бесконечность. Складывается поистине захватывающая дух картина, сродни той, которую гений бытия разворачивал перед гетевским Фаустом:
Я – океан,
И зыбь развитья,
И ткацкий стан
С волшебной нитью,
Где, времени кинув сквозную канву,
Живую одежду я тку божеству.
Выразительной иллюстрацией подобных представлений является легенда о древнем мудреце Маркандее, который многие тысячи лет странствовал и предавался размышлениям, желая узнать тайну существования мира. Стоило ему подумать об этом, как он тотчас же очутился в кромешной тьме, а вокруг него простирался водный хаос. И вдруг он увидел человека, который спал на этих водах и тело которого светилось собственным светом. Маркандея понял, что перед ним великий Вишну, а тот, вдохнув во сне, вобрал в себя мудреца. И Маркандея тут же очутился в привычном мире, с полями, лесами, городами и селениями. И он решил, что он просто заснул, и опять отправился странствовать по земле. Протекли еще тысячи лет. Однажды снова он увидел удивительный сон: на ветке баньяна среди пустынного безмолвия спал мальчик, и от него исходило сияние. Он опять проглотил Маркандею, и тот опять очутился в знакомом мире. И теперь уже он не знал, что было сном, а что явью…
Илл. 16. Слон, возглавляющий праздничную процессию во время традиционного праздника в г. Гангоур (штат Раджастан)
Для человека бытие в этих бесконечно повторяющихся кругах времени грозит устрашающей перспективой многократных, если не бесконечных перерождений, и потому главные ценности жизни всегда выносились за пределы времени и овладение ими было связано с преодолением времени во всех его проявлениях. Вот почему для индийцев время двуипостасно: оно делится на эмпирическое, относительное, измеряемое (годы, месяцы, недели, дни, мгновения), удобное в практической ориентации, и на вечное, неделимое и неизмеримое – всепроникающую субстанцию. Астрономическое время непосредственно воспринимается и может быть измерено; другое же время, вечное, божественное, находится вне бытия, но служит его организующим началом. Вот почему традиционный индийский календарь или, точнее, календари были не только способом счисления времени, но и свидетельствовали о преемственности всех циклов космического процесса. Календарь в индийском обществе диктовал весь уклад жизни; он оформлял годовой круг хозяйственных и прочих работ; устанавливал праздники, определял благоприятные и неблагоприятные дни для совершения разных дел.
Если же обратиться к ритуалу, то складывается впечатление, что индус жил и живет в ощущении теснейшего взимодействия мира земного, профанного и божественного, сакрального. Переход божественного в земное и земного в божественное возможен в любой точке пространства и в любой момент времени: так повседневная рутинность бытия возвышается до уровня божественной вечности.
Что же касается второго модуса, с которым мы связываем историю, – памяти, то здесь дело обстоит ничуть не проще, чем в случае со временем. Впрочем, они взаимосвязаны и в западной, и в индийской культурах. Вспомним хотя бы начало геродотовской «Истории»: «Нижеследующие сведения… сообщаются для того, чтобы от времени не изгладились из нашей памяти деяния людей…» Нести память, сохранять в нетленности и уберегать от мертвящей силы забвения всегда было важным и для индийской традиции, но вопрос в другом: что считать подлежащим запоминанию? А это, в свою очередь, обусловливает формы памяти.
Мы привыкли главной формой памяти считать письменность. Для нас, людей культуры «книжного типа», осознанно или, скорее, бессознательно существует непререкаемый стереотип, согласно которому письменность мы воспринимаем как явление безусловно прогрессивное, а с признаком бесписьменности обычно связываем негативное содержание, полагая, что бесписьменное общество живет в условиях постоянного «информационного голода». «Без слова, без письменности и книги нет истории, нет самого понятия человечества», – писал Герман Гессе.
Илл. 17. Улица Амритасара
Между тем еще мудрый Сократ в диалоге Платона «Федр» сделал парадоксальный с нашей точки зрения вывод о бесспорных недостатках письменности и о немалом вреде, который она причиняет памяти. Отношение Сократа к письменности прямо противоположно нашему устоявшемуся стереотипу: беспамятным и аномальным он считает общество, основанное на письменности; бесписьменное же, напротив, по его мнению, и есть нормальная структура с прочной коллективной памятью. Письменность, по его мнению, вселяет в души забывчивость и дает «мнимую, а не истинную мудрость», так как «припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою», «будут многое знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами… мнимомудрыми вместо мудрых».
Таким образом, Сократ с письменностью связывает отнюдь не прогресс культуры, а утрату ею высокого уровня, достигнутого бесписьменным обществом. Более того, он говорит о «дурной особенности письменности: ее порождения стоят, как живые, а спроси их – они величаво и гордо молчат… Они всегда отвечают одно и то же… Всякое сочинение, однажды записанное, находится в обращении везде – и у людей понимающих, и равным образом у тех, кому вовсе не подобает его читать, и оно не знает, с кем оно должно говорить, а с кем нет. Если им пренебрегают или несправдливо его ругают, оно нуждается в помощи своего отца, само же неспособно ни защититься, ни себе помочь». Противопоставляет же Сократ письменному то сочинение, которое «по мере приобретения знаний пишется в душе обучающегося».
Следуя Сократу, можно попытаться по-новому (не с позиций людей «книжной культуры», для которых письмо – атрибут обычной рутинной повседневности) взглянуть на проблему письменности и языка. Письменность как форма памяти зависит прежде всего от того, что подлежит запоминанию, то есть в конечном итоге от структуры и ориентации культуры. Привычное нам отношение к памяти подразумевает, что запоминанию подлежат события исключительные, экстраординарные, из ряда вон выходящие: именно они попадают в хроники, летописи, газеты и т. д.
В индийской же традиции память издревле была ориентирована иначе: она стремилась сохранить сведения о порядке, о том извечном вселенском порядке – дхарме, который в некие изначальные времена был установлен богами и завещан предками и которому нужно стараться неукоснительно следовать, а не менять все «до основанья». О таком порядке возвещают прежде всего священные тексты, которые и являются основой индийской традиции (одно не может существовать без другого и не может быть понято без другого).
Илл. 18. Сидящий Брахма. Южная Индия, XI в. Брахма – один из трех богов индуизма, творец и прародитель других богов
Вот почему традиционная индийская культура не была – и не могла быть – ориентирована на бесконечное умножение числа текстов, как, скажем, наша позднеевропейская. Напротив, она старалась сохранять и воспроизводить ограниченное число сакральных текстов, передавая их, по возможности, без искажений, а это требовало совсем иного устройства коллективной памяти; прежде всего – связи ее с ритуалом, что и сохраняется незыблемо в индуизме, главном стержне и основе индийской культуры, как, впрочем, и в других индийских религиях.
С такой ориентацией памяти связана ее сакрализация и необычайно длительная сохранность устной традиции. Многие культурно значимые индийские тексты, несмотря на длительную и устойчивую письменную традицию, были записаны довольно поздно и бытовали в устной передаче. Так, например, первое упоминание о рукописи «Ригведы» в Кашмире встречается у Бируни в XI в., но и после появления рукописей текст продолжал передаваться устно, сохраняясь именно в устной традиции жреческих школ.
Чем же это было вызвано? Почему жрецы, заучивавшие ведийские гимны и иные священные тексты наизусть (а это огромные массивы!), не торопились записывать их, а продолжали терзать свою память? Почему они не захотели обрести ту свободу, какую дала бы им письменность? Может быть, они не осознавали ее возможностей? Или дело здесь в том, что они по инерции отдавали дань традиции? Ответ, вероятно, должен быть таким: они не спешили записывать тексты потому, что были мудрее нас (вспомним Сократа; с ним, кстати, перекликается индийский мудрец Бодхидхарма, проповедник буддизма, который учил, придя в Китай, «не опираться на иероглифы», то есть искать путь просветления не в книгах, а очищать собственную природу). По всей вероятности, индийские мудрецы не торопились прибегать к помощи письменной традиции потому, что понимали: текст записанный будет отличаться от устного так же, как фотография от живого оригинала. Ведь текст – это графический образ, и в нем невозможно увидеть ту сокровенную материю, которую можно только услышать и почувствовать. Такой феномен имманентной слышимости Гадамер, занимающийся проблемами герменевтики, определял как «идеальный языковой образ».
Этот ответ, однако, порождает следующий вопрос: может быть, не каждый текст можно записать без потери смысла или еще каких-то важных для понимания текста вещей? (Перефразируя Тютчева, можно спросить иначе: «мысль изреченная есть ложь» или мысль записанная есть ложь?) Вероятно, так оно и есть: между языком, речью и письмом существует сложная зависимость, и это утверждение верно не только для индийской культуры, но, скажем, и для нашей, российской, современной. Приведу пример из современного сборника научных статей: «В лекциях Мамардашвили мы постоянно имеем дело с как бы принципиально незаписываемым… Здесь разработана новая и одновременно, видимо, очень архаическая техника передачи мыслей как способа философствования. Это – устное говорение».
Видимо, подобное «устное говорение» как способ передачи знания и ценили древние мудрецы, прекрасно понимавшие, что обучение содержанию традиции должно охватывать всю личность человека: и интеллектуальную, и эмоциональную, и деятельностную, и поведенческую сферы – и что главное содержание традиции всегда является личностно-связанным, а будучи таковым, оно плохо приспособлено для претворения в текстовую форму. С этим связана хрупкость традиции: если цепь поколений прерывается, то полностью восстановить утраченное невозможно. Но этим же обусловлен и высочайший профессионализм и необычайно высокий уровень развитости истинного адепта традиции.
Предпочтение устной речи письменному слову в Индии можно объяснить, таким образом, несколькими причинами: и священным отношением к живому слову, и монополией на ученость касты брахманов, и неграмотностью подавляющей массы сельского населения, и трудоемкостью переписки. Не последнюю роль сыграли и особенности климата: в жарких тропиках плохо сохраняются основные материалы для письма: пальмовые листья, березовая кора и бумага, которая появилась в Индии с приходом мусульман.
Как бы то ни было, большинство дошедших до нас рукописей, как правило, не старше XVIII в. При этом они датируются не только приблизительно, но и предположительно. Однако подобный антиисторизм обусловил совершенно особое отношение к прошлому – оно отнюдь не музейное и не покрытое «хронологической пылью». Выражается же оно прежде всего в том, что древние и не очень древние мыслители, философы, поэты – не «классики», изучаемые в школе, и их сочинения – не раритеты и архаизмы, а неотъемлемая часть духовного мира и современной культуры. Неоднократно подмечено, что современный индиец сочетает в своем сознании «век нынешний и век минувший», причем один не вытесняет и не отрицает другой, а они вполне нормально уживаются, иногда конфликтуя, но чаще мирно соседствуя друг с другом.
Таким образом, индийская культура демонстрирует не привычную нам картину, когда письменная традиция сменяет бесписьменную как высшая стадия низшую, а совсем другое положение вещей: она находит некий гармоничный баланс, когда обе традиции сосуществуют и дополняют друг друга, сохраняя при этом типологические ориентации на разные виды памяти, а тем самым и разные виды сознания.
Совершенно прагматическая цель – потребность сохранить чистоту и неизменность священного языка – вызвала к жизни развитие сложной и утонченной науки о языке. Ее основные отрасли были выделены как чхандас (фонетика), нирукта (этимология) и вьякарана (грамматика). При этом грамматика, ориентированная на священный текст, воспринималась как некая основа науки вообще. Крупнейший лингвист Индии Бхартрихари (VI в.) назвал ее «вратами к бессмертию» и «освятительницей всех знаний», а Анандавардхана, автор знаменитого трактата о поэтике (IX в.), назвал ее «основанием всех прочих наук». Наука блестяще выполнила свою задачу, сохранив священные тексты с беспрецедентной полнотой и точностью в течение тысячелетий. В свою очередь, существование этой науки было бы невозможным без особого отношения к слову, речи, о чем пойдет речь в следующей главе.
О языке и мудрости индусов
Под таким названием в 1808 г. вышел в Германии труд Фридриха Шлегеля, главы романтической школы. Возросший интерес к молодой компаративистской индоарийской филологии вывел тогда на первый план санскрит как предмет пристального изучения. «В словах, в грамматических формах, в синтаксисе запечатлевает свой образ душа данного народа; как следы на окаменевших песках от волн давно не существующих морей, закреплены в нем стремления, склонности, неприязни, верования, предрассудки, первобытные знания о человеке», – отмечал замечательный польский писатель Ян Парандовский, и эти слова в полной мере приложимы к санскриту.
Его название означает «обработанный», «отделанный» в отличие от прочих разговорных и письменных форм, представлявших дальнейшие стадии языкового развития и получивших названия «пракриты». Нормы санскрита устанавливались, надо полагать, не одним поколением грамматистов, пока не нашли блестящее завершение в трактате Панини, называемом «Восьмикнижие», предположительно датируемом IV в. до н. э. Борьба между санскритом и практритами за господство в основных сферах культуры длилась не один век, но закончилась победой санскрита, так что на него пришлось перейти даже буддистам и джайнам, чьи священные тексты первоначально были составлены на пракритах.
В трактате Панини содержится более четырех тысяч грамматических правил, изложенных в виде кратких и отточенных афоризмов, трудных для понимания без сопроводительного комментария. Его грамматика предписывала строгие нормы для санскрита, и с этого времени язык принял свою классическую форму. Отныне в нем прекратились любые случайные изменения, свойственные обычным живым языкам, хотя некоторые из них все-таки происходили. Дальнейшая эволюция санскрита напоминала рост редкого и ценного садового дерева, которое заботливо пестуют и подстригают садовники: он становился лексически богаче и разнообразнее, сохраняя при этом свою «сделанность», «искусственность». В итоге он стал совершенным инструментом для выражения любого смысла, от тончайших поэтических нюансов до глубин аналитической философии. Строго говоря, нужно различать два санскрита, существенно различающиеся, – ведийский и классический. Именно последний связан с грамматикой Панини и является застывшим языком. Ведийский же – язык вед, был по-настоящему живым.
Илл. 19. Образец санскритского текста
Санскрит использовался для большинства религиозных, философских, литературных и научных сочинений древней и средневековой Индии. Он остается в употреблении и сейчас; на нем издают книги и журналы; на него даже переводят современные западные литературные произведения, и он вполне адекватно передает и шекспировские страсти, и политические рассуждения, хотя для выражения обычных потребностей он, безусловно, избыточен.
Индийский мыслитель Шри Ауробиндо, в 20-летнем возрасте вернувшийся из Англии и только тогда начавший учить родной бенгальский язык, считал, что санскрит «является одним из наиболее великолепных, совершенных и удивительно адекватных литературных инструментов, созданных человеческим разумом; одновременно величественный, благозвучный и гибкий, выразительный, четко организованный, полнокровный, живой и утонченный; уже сами его качества и особенности могли бы достаточно характеризовать народ, выразителем сознания и культуры которого он послужил».
Знать санскрит и понимать написанное по-санскритски стало, говоря современным языком, едва ли не главным признаком культурного человека. «Самый же способ обучения санскриту делал его орудием культуры: одним из основных элементов этого обучения, начинавшегося с детского возраста, когда память, еще ничем не обремененная, особенно свежа, – а индийская память, с нашей, европейской точки зрения, совершенно изумительна: индиец знает целые книги наизусть, причем знает их так, что может начать с любого места, – было выучивание наизусть словаря санскритских синонимов. Это выучивание, являясь известным педагогическим приемом, раскрывало перед учеником тысячами слов-терминов большую часть того сложного и богатого культурного мира, к которому он приобщался; он как бы сразу получал некоторое энциклопедическое образование при помощи этих синонимов. Так было даже для менее способных, а для более талантливых и пытливых здесь был, несомненно, неисчерпаемый источник для удовлетворения их пытливости», – писал выдающийся отечественный индолог С.Ф. Ольденбург.
Иногда значение санскрита для Индии сравнивают со значением древнегреческого и латинского языков для культуры Европы, но в действительности оно более значимо. Санксрит знали, понимали и творили на нем во всей Южной Азии и за ее пределами в течение многих веков, так что санскритская словесность – едва ли не самая объемная и долговечная в мире. Современный голландский индолог Я. Гонда пишет: «Сказать, что санскритская литература превосходит по объему литературы Греции и Рима, – это ошибка. Санскритская литература почти безгранична, то есть никто не знает ее подлинных размеров и числа составляющих ее сочинений».
Язык и мудрость в названии работы Ф. Шлегеля сополагаются, и это неслучайно: язык всегда был связан в Индии с глубинными, бытийственными аспектами. Он является, говоря словами М. Хайдеггера, «домом бытия», он творит и моделирует мир. Имя Хайдеггера приведено здесь не случайно: в европейской философии именно его отношение к языку близко к индийскому. В работе «На пути к языку» он выдвинул основополагающий тезис, очень «индийский» по духу: «Слово есть указание, а не знак в смысле простого обозначения». Отстаивая герменевтический подход к языку и считая, что «язык – единственное, что действительно говорит», Хайдеггер рассматривал его не просто как обозначение реальности, но и как ее самораскрытие.
С ним трудно не согласиться: язык и в самом деле как будто нам подсказывает, и нужно только уметь чутко прислушиваться к его подсказкам. В самой сущности языка есть нечто, что подталкивает к раскрытию этой вечно ускользающей реальности; и в самих словах, и в их фонетических рисунках, и в «боковых смыслах», как в эхе, можно уловить ее отзвуки. Отсюда, кстати, и происходит пристрастие индийской традиции к метафорам, притчам, загадкам, иносказаниям, намекам, афоризмам, анекдотам и даже к тому, что мы назвали бы народной этимологией. Понятно, что высшие состояния бытия связаны с глубокими и неуловимыми переживаниями, которые невозможно ни объяснить, ни описать. Но на них можно только намекнуть, указать, подсказать…
Новое отношение к языку и тексту, вызывающее в памяти древнеиндийские традиции, сейчас складывается в западной науке – прежде всего усилиями семиотиков, этнологов, культурологов и психолингвистов. Происходит постепенное осознание того, что в те или иные периоды тексты не только создавались людьми, но и творили историю. Это новое отношение выразил Ж. Деррида: «Так как язык служит основой бытия, то мир – это бесконечный текст. Все текстуализируется. Все контексты, будь они политическими, экономическими, социологическими, психологическими или теологическими, – становятся интертекстами, то есть влияния и силы внешнего мира текстуализируются. Вместо литературы у нас текстуальность, вместо традиции – интертекстуальность. Что же из себя представляет текст? Это цепочки различающихся следов. Серии подвижных означающих. Множество пронизывающих знаков, которые влекут за собой в конечном счете нерасшифруемые интертекстуальные элементы».
Индийское восприятие языка и слова созвучно высказываниям Хайдеггера и Дерриды. Слово было самостоятельной реальностью; оно имело высокий онтологический статус. Чувство реальности и власти слова над человеком, на самом деле, изначально. Память об этом сохранялась всегда, но нередко в определенные культурные эпохи оказывалась вытесненной куда-то на периферию. Индийцы же никогда не забывали, что были времена, когда «солнце останавливали словом, словом разрушали города», как писал Н.С. Гумилев. За подобным отношением стоит особая, мифологическая по сути своей концепция языка, который, кстати, в отличие от нашего, назван не по органу говорения. (В Индии такого быть не могло!) Согласно этой концепции, язык, слово – не только и не столько результат говорения, сколько творческая сила, созидательная энергия, нить, на которой держатся миры, сущностный океан бытия, принцип мироздания. Именно так они воспринимались с глубокой древности: язык – не номенклатура или множество наименований, и не система знаков, а вид творческой деятельности. Речь же считалась не только и не столько продуктом говорения, сколько внутренним стержнем, нервом соответствующего действия, и ей никогда не ставили «пределом скудные пределы естества».
Древнеиндийский афоризм гласит: «Все определяется словом, коренится в слове, вышло из слова. Кто лжет в слове, тот лжет во всем». Не боясь впасть в преувеличение, можем сказать, что традиционная индийская культура всегда была словоцентричной и всегда осознавала свою глубинную зависимость от слова: «вначале было слово», и оно неукоснительно воспринималось как высшая реальность. Неслучайно язык, речь воплощены в образе божественной Речи (Вач), которая почиталась как важный космогонический принцип. В древних ведийских гимнах о ней говорится, что она двигается с другими богами, «несет» их и из своего лона «расходится по всем существам», «охватывая» их.
Речь соседствует с жертвоприношением: «С помощью жертвы пошли они (риши) по следу Речи. Они обнаружили ее, вошедшую в слагателей гимнов. Принеся ее, они разделили ее между многими», – говорится в одном из ведийских гимнов. Она способна принимать разные формы, поскольку является пищей всех и все ею живут, а потому элементы речи оказываются тождественны частям космоса, например, согласные уподоблены ночам, гласные – дням; есть и другие серии отождествлений.