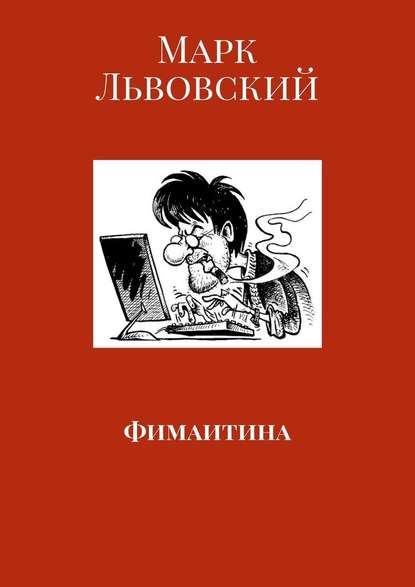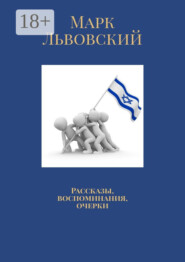По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фимаитина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Например?
– Пушкин. Поэт, сотворивший новый русский язык. До него, кроме редких всплесков талантов, – болото. После него такой взлёт искусства, – музыка, поэзия проза, живопись, – что и сейчас не дано полностью осмыслить.
– А Маяковский?
– И что – Маяковский? Сталин подобрел от его стихов? Или от его призывов в стране стало меньше или больше убийц и стукачей? Или кроме немногих его друзей, матери, сестёр и трёх любимых им женщин, народ пролил слезу о нём? И даже пролившие слёзу старались как можно быстрее вытереть её, так как не знали, как отнесётся к гибели поэта «великий вождь и учитель». Друзья мои, поэт живёт в своём, никому, кроме него, неведомом мире. Он может, порой, должен откликаться на то или иное событие, но только из своего мира. Об этом очень просто сказал Мандельштам:
Как облаком сердце одето
И камнем прикинулась плоть,
Пока назначенье поэта
Ему не откроет Господь.
И раздался сильный голос писателя и поэта Юрия Карабчиевского:
– И в этом отличие поэзии от прозы.
– Совершенно верно, Юра, – отозвался Липкин. – Ибо поэзия – крик души, проза – итог раздумий. Но, пожалуйста, не принимайте эти определения за истину в высшей инстанции.
– Какие у вас были отношения с Мандельштамом?
– Не могу сказать, что сердечные. Он был снисходителен ко мне. Не более того.
– Он был хоть немного евреем?
– Думаю, да. Он считал себя человеком христианской цивилизации. Но не был христианином, хотя и принял лютеранство. Как это некогда сделал любимый им исконно русский человек Чаадаев. Надежда Яковлевна Мандельштам всё время подчёркивала, что он перешёл в христианство идейно, но в действительности этого не было. Он принял христианство, чтобы поступить в университет, но, в отличие от Пастернака, ощущал себя евреем. Интересно, что после того, как он прочёл Пастернаку знаменитое, судьбоносное «Мы живём, под собою не чуя страны», тот, в ужасе воздев к небу руки, сказал Надежде Яковлевне Мандельштам: «Как он мог написать эти стихи – ведь он еврей!».
Отчуждения от еврейства у него не было. Если, конечно, не понимать еврейство только как быт. Мандельштаму не нравилось, что его семья была отгорожена от русской культуры. Но он имел полное право написать про себя: «Среди священников левитом молодым…»
И заканчивая наше маленькое исследование еврейских корней Мандельштама, вспомним, что он сам говорил об этом в «Шуме времени»: «Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь. О, какой это сильный запах!»
– А каковы были ваши отношения с Ахматовой?
– С Ахматовой было по-иному. В 1961 году я написал главную свою стихотворную работу – поэму «Техник-интендант». Я читал ее в доме поэтессы Нины Манухиной, вдовы Георгия Шенгели, читал ей и жившей в то время у нее Ахматовой. Я заметил слезы на глазах у Анны Андреевны. Пришло лето, Анна Андреевна подарила мне свою маленькую книжицу в черном переплете с надписью: «С. Липкину, чьи стихи я всегда слышу, а один раз плакала». У меня несколько книг с добрыми надписями Ахматовой. Но эта – самая драгоценная. Она стала не только моей гордостью – она для меня право на существование, особенно в те годы, когда на родине я не существовал.
– Вам приходилось в своём творчестве кривить душой?
– Да, и не раз. Я много переводил не только для души, но и для заработка. По заказу. И там были вирши, которые переводить было довольно противно. Но иного заработка у меня не было. По этому поводу у меня однажды вышел такой разговор с Василием Гроссманом. Он писал главу о Сталине. Я заметил, что мне было бы противно писать о нём. Гроссман вспылил: «А сколько ты сам напереводил стихов о нём»? В ответ я привёл поговорку моего отца: «Можно ходить в бардак, но не надо смешивать синагогу с бардаком». На самом деле, главу о Сталине, дабы улучшить имидж книги, «заставил» его написать Твардовский. Но, к чести Гроссмана, он в ней не лижет сапоги Сталина.
Должен вам сказать, что нигде, как в писательской среде тех времён, трудно было оставаться человеком. В день 27 декабря 1958 года, когда исключали из Союза писателей Бориса Леонидовича Пастернака, в Москву, запыхавшись, примчалась хорошая писательница Вера Панова, дом которой был увешан фотографиями её любимого поэта Бориса Пастернака. Ей, как члену правления, крайне важно было проголосовать за исключение. Среди писателей активно осуждался поступок Корнея Чуковского, который поздравил Пастернака с получением Нобелевской премии. А писатели, сохранившие хоть немного порядочности, сидели дома, врали, что больны. Другое дело, что Бориса Слуцкого, секретаря парторганизации поэтической секции, буквально заставили выступить, его специально вызывали в ЦК, в случае отказа от выступления могли лишить партбилета, и он сдался… А потом жестоко корил себя и писал:
Уменья нет сослаться на болезнь,
Таланту нет не оказаться дома,
Приходится, перекрестившись, лезть
В такую грязь, где не бывать другому.
Но самое, на мой взгляд, страшное предательство совершил Илья Сельвинский, который за каких-то полгода до этого судилища публично благодарил: «…всех учителей моих от Пушкина до Пастернака». Далее расскажу своими словами из рассказанного мне Ольгой Всеволодовной Ивнинской. В критический момент жизни своего учителя, Сельвинский прислал ему из Ялты, где тогда отдыхал, письмо:
«Дорогой Борис Леонидович! Сегодня мне передали, что английское радио сообщило о присуждении Вам Нобелевской премии. Я тут же послал Вам приветственную телеграмму. Вы, если не ошибаюсь, пятый русский, удостоенный премии: до Вас были Мечников, Павлов, Семенов и Бунин – так что Вы в неплохой, как видите, компании.
Однако ситуация с Вашей книгой «Доктор Живаго» сейчас такова, что с Вашей стороны было бы просто вызовом принять эту премию. Я знаю, что мои советы для Вас – ничто, и вообще Вы никогда не прощали мне того, что я на 10 лет моложе Вас, но всё же беру на себя смелость сказать Вам, что игнорировать мнение партии, даже если Вы считаете его неправильным, в международных условиях настоящего момента равносильно удару по стране, в которой Вы живете. Прошу Вас верить в мое, пусть не очень точное, но хотя бы «точноватое» политическое чутье».
Но на этом Сельвинский не успокоился: вдруг его письмо останется неизвестным? Тридцатого октября он совместно с Виктором Шкловским отправился в редакцию местной «Курортной газеты» – как вам нравится этот орган печати? – и оставил там следующее заявление:
«Пастернак всегда одним глазом смотрел на Запад, был далек от коллектива советских писателей и совершил подлое предательство».
Не хуже выступил и сам Виктор Шкловский: «Книга Пастернака не только антисоветская, она выдает также полную неосведомленность автора в существе советской жизни, о том, куда идет развитие нашего государства. Отрыв от писательского коллектива, от советского народа привел Пастернака в лагерь оголтелой империалистической реакции, на подачки которой он польстился».
Сельвинский «Курортной газетой» не ограничился – в «Огоньке» №11 за 1959 год он опубликовал такое стихотворение:
А вы, поэт, заласканный врагом,
Чтоб только всласть насвоеволить,
Вы допустили, чтоб любая сволочь,
Пошла плясать и прыгать кувырком.
К чему ж была и щедрая растрата
Душевного огня, который был так чист,
Когда теперь для славы Герострата
Вы Родину поставили под свист?
Резолюция об исключении великого писателя и поэта из Союза писателей была принята под торжествующий рев зала. Писатели орали: «Предатель!», «Надо выслать!» Помню, как реагируя на этот кошмар, Гроссман воскликнул «Господи! Отчего так велик твой зверинец?!»
Отмечу, что на это позорное судилище не пришли Паустовский и Каверин, а Эренбург и Евтушенко во время голосования ушли из зала… Ольга Берггольц долгие годы хранила «тайные» строки:
На собраньи целый день сидела —
то голосовала, то лгала…
Как я от тоски не поседела?
Как я от стыда не померла?
Увы, как сказал Генрих Гейне, «Везде, где великий дух высказывает свои мысли, есть Голгофа». Я вам больше скажу – все эти писатели были искренны! Они ненавидели Пастернака, потому что завидовали ему! Нобелевский лауреат! Известен на весь мир! А их книги безнадежно пылятся в складских помещениях книжных магазинов. Ах, господа, грустно об этом, тема неисчерпаема…
– Семён Израилевич, вы ощущаете себя евреем?
– Меня заставляют ощущать себя евреем. Ладно… Я поддаюсь этому давлению. Мне легче, чем другим, потому что я человек верующий. И ещё потому, что была Катастрофа… Я много писал о ней, может, кто-нибудь и читал… Никто не читал…
Глаза его стали грустными.
– Ничего страшного. Я прочту вам стихотворение «Моисей»:
Тропою концентрационной,
Где ночь бессонна, как тюрьма,
Трубой канализационной,
Среди помоев и дерьма,
По всем немецким и советским,
И польским, и иным путям,
По всем плечам, по всем мертвецким,
По всем страстям, по всем смертям
Я шел. И грозен, и духовен
Впервые Бог открылся мне,
– Пушкин. Поэт, сотворивший новый русский язык. До него, кроме редких всплесков талантов, – болото. После него такой взлёт искусства, – музыка, поэзия проза, живопись, – что и сейчас не дано полностью осмыслить.
– А Маяковский?
– И что – Маяковский? Сталин подобрел от его стихов? Или от его призывов в стране стало меньше или больше убийц и стукачей? Или кроме немногих его друзей, матери, сестёр и трёх любимых им женщин, народ пролил слезу о нём? И даже пролившие слёзу старались как можно быстрее вытереть её, так как не знали, как отнесётся к гибели поэта «великий вождь и учитель». Друзья мои, поэт живёт в своём, никому, кроме него, неведомом мире. Он может, порой, должен откликаться на то или иное событие, но только из своего мира. Об этом очень просто сказал Мандельштам:
Как облаком сердце одето
И камнем прикинулась плоть,
Пока назначенье поэта
Ему не откроет Господь.
И раздался сильный голос писателя и поэта Юрия Карабчиевского:
– И в этом отличие поэзии от прозы.
– Совершенно верно, Юра, – отозвался Липкин. – Ибо поэзия – крик души, проза – итог раздумий. Но, пожалуйста, не принимайте эти определения за истину в высшей инстанции.
– Какие у вас были отношения с Мандельштамом?
– Не могу сказать, что сердечные. Он был снисходителен ко мне. Не более того.
– Он был хоть немного евреем?
– Думаю, да. Он считал себя человеком христианской цивилизации. Но не был христианином, хотя и принял лютеранство. Как это некогда сделал любимый им исконно русский человек Чаадаев. Надежда Яковлевна Мандельштам всё время подчёркивала, что он перешёл в христианство идейно, но в действительности этого не было. Он принял христианство, чтобы поступить в университет, но, в отличие от Пастернака, ощущал себя евреем. Интересно, что после того, как он прочёл Пастернаку знаменитое, судьбоносное «Мы живём, под собою не чуя страны», тот, в ужасе воздев к небу руки, сказал Надежде Яковлевне Мандельштам: «Как он мог написать эти стихи – ведь он еврей!».
Отчуждения от еврейства у него не было. Если, конечно, не понимать еврейство только как быт. Мандельштаму не нравилось, что его семья была отгорожена от русской культуры. Но он имел полное право написать про себя: «Среди священников левитом молодым…»
И заканчивая наше маленькое исследование еврейских корней Мандельштама, вспомним, что он сам говорил об этом в «Шуме времени»: «Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь. О, какой это сильный запах!»
– А каковы были ваши отношения с Ахматовой?
– С Ахматовой было по-иному. В 1961 году я написал главную свою стихотворную работу – поэму «Техник-интендант». Я читал ее в доме поэтессы Нины Манухиной, вдовы Георгия Шенгели, читал ей и жившей в то время у нее Ахматовой. Я заметил слезы на глазах у Анны Андреевны. Пришло лето, Анна Андреевна подарила мне свою маленькую книжицу в черном переплете с надписью: «С. Липкину, чьи стихи я всегда слышу, а один раз плакала». У меня несколько книг с добрыми надписями Ахматовой. Но эта – самая драгоценная. Она стала не только моей гордостью – она для меня право на существование, особенно в те годы, когда на родине я не существовал.
– Вам приходилось в своём творчестве кривить душой?
– Да, и не раз. Я много переводил не только для души, но и для заработка. По заказу. И там были вирши, которые переводить было довольно противно. Но иного заработка у меня не было. По этому поводу у меня однажды вышел такой разговор с Василием Гроссманом. Он писал главу о Сталине. Я заметил, что мне было бы противно писать о нём. Гроссман вспылил: «А сколько ты сам напереводил стихов о нём»? В ответ я привёл поговорку моего отца: «Можно ходить в бардак, но не надо смешивать синагогу с бардаком». На самом деле, главу о Сталине, дабы улучшить имидж книги, «заставил» его написать Твардовский. Но, к чести Гроссмана, он в ней не лижет сапоги Сталина.
Должен вам сказать, что нигде, как в писательской среде тех времён, трудно было оставаться человеком. В день 27 декабря 1958 года, когда исключали из Союза писателей Бориса Леонидовича Пастернака, в Москву, запыхавшись, примчалась хорошая писательница Вера Панова, дом которой был увешан фотографиями её любимого поэта Бориса Пастернака. Ей, как члену правления, крайне важно было проголосовать за исключение. Среди писателей активно осуждался поступок Корнея Чуковского, который поздравил Пастернака с получением Нобелевской премии. А писатели, сохранившие хоть немного порядочности, сидели дома, врали, что больны. Другое дело, что Бориса Слуцкого, секретаря парторганизации поэтической секции, буквально заставили выступить, его специально вызывали в ЦК, в случае отказа от выступления могли лишить партбилета, и он сдался… А потом жестоко корил себя и писал:
Уменья нет сослаться на болезнь,
Таланту нет не оказаться дома,
Приходится, перекрестившись, лезть
В такую грязь, где не бывать другому.
Но самое, на мой взгляд, страшное предательство совершил Илья Сельвинский, который за каких-то полгода до этого судилища публично благодарил: «…всех учителей моих от Пушкина до Пастернака». Далее расскажу своими словами из рассказанного мне Ольгой Всеволодовной Ивнинской. В критический момент жизни своего учителя, Сельвинский прислал ему из Ялты, где тогда отдыхал, письмо:
«Дорогой Борис Леонидович! Сегодня мне передали, что английское радио сообщило о присуждении Вам Нобелевской премии. Я тут же послал Вам приветственную телеграмму. Вы, если не ошибаюсь, пятый русский, удостоенный премии: до Вас были Мечников, Павлов, Семенов и Бунин – так что Вы в неплохой, как видите, компании.
Однако ситуация с Вашей книгой «Доктор Живаго» сейчас такова, что с Вашей стороны было бы просто вызовом принять эту премию. Я знаю, что мои советы для Вас – ничто, и вообще Вы никогда не прощали мне того, что я на 10 лет моложе Вас, но всё же беру на себя смелость сказать Вам, что игнорировать мнение партии, даже если Вы считаете его неправильным, в международных условиях настоящего момента равносильно удару по стране, в которой Вы живете. Прошу Вас верить в мое, пусть не очень точное, но хотя бы «точноватое» политическое чутье».
Но на этом Сельвинский не успокоился: вдруг его письмо останется неизвестным? Тридцатого октября он совместно с Виктором Шкловским отправился в редакцию местной «Курортной газеты» – как вам нравится этот орган печати? – и оставил там следующее заявление:
«Пастернак всегда одним глазом смотрел на Запад, был далек от коллектива советских писателей и совершил подлое предательство».
Не хуже выступил и сам Виктор Шкловский: «Книга Пастернака не только антисоветская, она выдает также полную неосведомленность автора в существе советской жизни, о том, куда идет развитие нашего государства. Отрыв от писательского коллектива, от советского народа привел Пастернака в лагерь оголтелой империалистической реакции, на подачки которой он польстился».
Сельвинский «Курортной газетой» не ограничился – в «Огоньке» №11 за 1959 год он опубликовал такое стихотворение:
А вы, поэт, заласканный врагом,
Чтоб только всласть насвоеволить,
Вы допустили, чтоб любая сволочь,
Пошла плясать и прыгать кувырком.
К чему ж была и щедрая растрата
Душевного огня, который был так чист,
Когда теперь для славы Герострата
Вы Родину поставили под свист?
Резолюция об исключении великого писателя и поэта из Союза писателей была принята под торжествующий рев зала. Писатели орали: «Предатель!», «Надо выслать!» Помню, как реагируя на этот кошмар, Гроссман воскликнул «Господи! Отчего так велик твой зверинец?!»
Отмечу, что на это позорное судилище не пришли Паустовский и Каверин, а Эренбург и Евтушенко во время голосования ушли из зала… Ольга Берггольц долгие годы хранила «тайные» строки:
На собраньи целый день сидела —
то голосовала, то лгала…
Как я от тоски не поседела?
Как я от стыда не померла?
Увы, как сказал Генрих Гейне, «Везде, где великий дух высказывает свои мысли, есть Голгофа». Я вам больше скажу – все эти писатели были искренны! Они ненавидели Пастернака, потому что завидовали ему! Нобелевский лауреат! Известен на весь мир! А их книги безнадежно пылятся в складских помещениях книжных магазинов. Ах, господа, грустно об этом, тема неисчерпаема…
– Семён Израилевич, вы ощущаете себя евреем?
– Меня заставляют ощущать себя евреем. Ладно… Я поддаюсь этому давлению. Мне легче, чем другим, потому что я человек верующий. И ещё потому, что была Катастрофа… Я много писал о ней, может, кто-нибудь и читал… Никто не читал…
Глаза его стали грустными.
– Ничего страшного. Я прочту вам стихотворение «Моисей»:
Тропою концентрационной,
Где ночь бессонна, как тюрьма,
Трубой канализационной,
Среди помоев и дерьма,
По всем немецким и советским,
И польским, и иным путям,
По всем плечам, по всем мертвецким,
По всем страстям, по всем смертям
Я шел. И грозен, и духовен
Впервые Бог открылся мне,