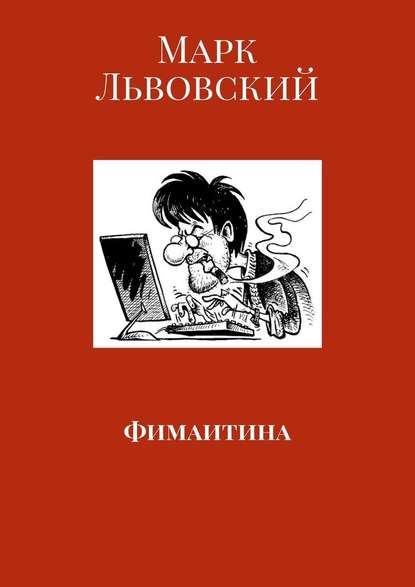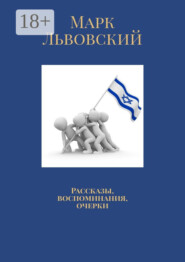По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фимаитина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Теперь не промахнёмся мимо.
Мы знаем кого – мети!
Ноги знают, чьими трупами
нам идти.
Или такое:
А мы – не Корнеля с каким-то Расином —
– отца – предложи на старьё меняться, —
мы и его обольём керосином
и в улицы пустим для иллюминаций.
Символы?! Нет, не выходит, не вытанцовывается. Есть слова, столь сильные сами по себе, что не могут быть тенью других слов, не могут выражать иные понятия, кроме тех, что положены им от века. Труп – это всегда труп, отец – это всегда отец… Так представлял ли он себе всё то, что писал, видел ли эти самые трупы, ощущал ли чьё-то мёртвое тело под своими ногами, видел ли своего отца, объятого пламенем и бегущего по улицам? Любой ответ на этот вопрос губителен для поэта…
Я знаю силу слов, я знаю слов набат…
Силу слов он знал, но не знал их тайны. Знал слова, но не знал Слова. Набат – это он понимал, но магии простой человеческой речи для него не существовало…»
И вдруг, Юра, оторвавшись от книги, воскликнул:
– Чёрт возьми, я и сам получаю удовольствие от своей книги! И вас очаровал! Чувствую – очаровал. Стал обаятельным и даже красивым. И это очень плохо. Набоков сказал, что «среди художников только бездарные являются обаятельными людьми. Талантливые живут творчеством и потому сами по себе неинтересны. Подлинно великий поэт оказывается самым прозаическим человеком, а второстепенные – обворожительны. Чем слабее их стихи, тем эффектнее наружность и манеры». Но вдруг Набоков ошибался?! И вот, последнее:
«Продался ли он советской власти? Он действительно получал большие гонорары и в некотором роде был советским барином: отдыхал в лучших домах отдыха, беспрепятственно ездил по заграницам, снимал дачи, имел домработниц и даже собственный автомобиль, едва ли не единственный частный в целой стране. И, конечно, это не могло не усиливать его чувства комфортности и соответствия. Но какая это была ничтожная плата в сравнении с тем, что он сделал сам! Никакие блага, никакие почести, ни те немногие, что воздавались ему тогда, ни даже те, что воздаются сегодня, не могут сравниться с его страшным подвигом, не могут служить за него платой – он дал этой власти дар речи. Новая власть так бы и корчилась безъязыкая, не будь у нее Маяковского. С ним, еще долго, об этом не зная, она получила в свое владение именно то, чего ей не хватало: величайшего мастера словесной поверхности, гения словесной формулы. Есть у Василия Абгаровича Катаняна, литературоведа и биографа Маяковского, забавный рассказик, называется «Сталинские лозунги». Там он прослеживает на протяжении нескольких лет почти буквальные совпадения строк Маяковского с печатными высказываниями товарища Сталина…
Горький заметил, что у Маяковского был «темперамент пророка Исайи» – но, самое главное, времени своего он не выразил… И, значит, ошибся Горький – был у Маяковского действительно невероятный словесный темперамент, но иного происхождения, чем у пророка Исайи…»
И сейчас, в конце, то, чего нет в книге. Сталин не любил Маяковского. Малопонятный, левак, крикун, слишком много выступает, слишком много обращает на себя внимания. И вдруг – «лучший и талантливейший»… Можно бесконечно долго копаться в этой, якобы, несуразности. Но мне нравится объяснение самое простое: когда Маяковского не стало, и беспокоиться больше было не о чем, Сталин вспомнил (а, скорее всего, никогда и не забывал) строчки из поэмы «Владимир Ильич Ленин» – недаром он так долго хлопал поэту, читавшему её в Большом Театре в день памяти Ленина:
…Штыками
тычется
чирканье молний,
матросы
в бомбы
играют, как в мячики.
От гуда
дрожит
взбудораженный Смольный.
В патронных лентах
внизу пулемётчики.
– Вас
вызывает
товарищ Сталин.
Направо
третья,
он
там.
– Товарищи,
не останавливаться!
Чего стали?
В броневики
и на почтамт!
И знаете, что самое интересное? Что Сталина в тот в тот день в Смольном не было. Не было, и точка! И в двадцатых годах об этом знали многие. И Маяковский в том числе – он крутился среди людей, в то время значимых и знающих. Вот так надо служить власти! Кстати, до 1939 года все, кто знали об этом, были уничтожены.
На этот раз Юра с силой захлопнул книгу. И вдруг, как дитя улыбнувшись, весь посветлев, спросил:
– Ну и как вам?.. Знаете, сегодня я написал бы эту книгу иначе. Уж, наверное, она была бы трезвее, добрее, – Юра оторвал глаза от книги, – подчёркиваю – добрее, сдержанней, выверенней, справедливей и ближе к чему-то такому, что принято называть объективной истиной. Но сегодня я не стал бы писать эту книгу, я сегодня написал бы совсем другую – и, скорее всего, о другом…
Конечно, книги должны печататься вовремя. Но ведь я и не рассчитывал на публикацию дома и даже эту воспринимаю сейчас как неожиданность и подарок. Да и, строго говоря, семь лет не срок (я, конечно, имею в виду – для книги), и если в ней что-то устарело, отпало, то, значит, оно того и стоило. Будем надеяться, что кое-что все же осталось.
Я старался не врать ни в одном факте, ни в факте жизни, ни в факте творчества, ну а трактовка… да что ж трактовка? Филология – такая странная вещь, что любое высказанное в ней положение может быть заменено на противоположное с той же мерой надежности и достоверности. Как для кого, а для меня лично она убедительна лишь в той степени, в какой сама является литературой. Литературой…»
Он помолчал.
– Я ничего не абсолютизирую и заранее приветствую всех оппонентов и, не глядя, принимаю любые доводы. Но хотел бы отвести лишь одно обвинение, уже прозвучавшее в зарубежной критике: обвинение в ненависти к Маяковскому.
– Юра, можно мне два слова? – тихо спросил присутствующий на семинаре Липкин.
– Интересно, и что я должен ответить? – смиренно склонил голову Карабчиевский.
– Юра вам уже сказал, господа, – начал Семён Израилевич, – что представленную сегодня книгу я прочёл, мало того, получил её в подарок. Это чрезвычайно интересная, порой, просто захватывающая книга. Используя подходящие цитаты и с блеском комментируя их, автор показывает нам эдакого поэтического монстра без души, без сердца, эдакого феномена бездуховности. Однако же я думаю, что найдись автор, не уступающий Юрию Аркадьевичу в таланте, он смог бы с тем же блеском доказать и духовность, и ранимость, и искренность Маяковского. Но не зря «Воскресение Маяковского» названо самим автором филологическим романом. Художественного в этой книге, на мой взгляд, много больше, чем филологического. И именно это делает книгу настоящим чтивом, а не унылым академическим разбором. И вот ещё о чём хочется сказать. И Юрий Аркадьевич, и, не сомневаюсь, многие из вас знают, что ещё в 1927 году резкую статью о Маяковском – она называлась «Маяковский во весь рост» – написал прекрасный поэт Георгий Шенгели. Он отметил в своей статье, что Маяковский – цитирую: «талантливый поэт в 1914 году, в наше время бессилен дать что-то новое и способен лишь выполнять моссельпромовские заказы на рекламные стишки». Об этом же издевательски писал и Сергей Есенин:
Мне мил стихов российский жар.
Есть Маяковский, есть и кроме.
Но он, их главный штабс-маляр —
Поет о пробках в Моссельпроме.
Маяковский, по Шенгели, бездарен. Точнее было бы сказать другое: он почти бездарен как поэт, едва заслуживает имени поэта, но, конечно, гениален в том, как продал свой робкий и неоригинальный талант. И, увы, с этой статьи Шенгели началась разрешённая, подчёркиваю – разрешённая – травля Маяковского. Я ни в коем случае не хочу сказать, что именно этой цели добивался Шенгели. Но так случилось. А сам Шенгели именно из-за этой статьи, с 1931 года, после определения Маяковского, как «лучшего и талантливейшего», не печатался. И вообще, на мой взгляд, чудом уцелел. В том страшном времени у советской власти был огромный выбор, кого казнить, кого миловать. И логику этого выбора никто не в силах понять. Добавлю, что самоубийство Маяковского потрясло Шенгели. «Я отказался бы от самой мысли написать подобную книгу, – признавался он, – если бы мог предвидеть такое…»
Что же касается маниакального страха Маяковского заразиться – постоянно мыл руки, страшился прикасаться к дверным ручкам (протирал их перед этим), носил с собою личную посуду – стаканы, вилки, то я отношу это к психическому заболеванию Маяковского. С другой стороны, кто из людей искусства нормален?.. От болезни и страстная игромания его, и вовсе не ради денежного выигрыша, а для постоянного ненормального самоутверждения – выиграю или не выиграю? Им постоянно владел страх перед старостью и смертью. И страх, что исписался. Именно такие люди склонны к самоубийству. Художник Юрий Анненков рассказывал мне, что встретив однажды Маяковского в Париже, сказал ему, что решил остаться в Париже, чтобы стать, наконец-то, художником, а не писать на заказ плакаты. И услышал в ответ: «А я возвращаюсь, так как уже перестал быть поэтом». И неожиданно разрыдавшись, прошептал: «Теперь я… чиновник…» И особенно мне понравилось в книге Юрия Аркадьевича обстоятельное, не сенсационное, а логичное, умное, выполненное блистательно, с точки зрения литературы, объяснение причин самоубийства поэта. Оно гораздо, с моей точки зрения, глубже, чем известное высказывание Пастернака: «Мне кажется, Маяковский застрелился из гордыни, оттого, что он осудил что-то в себе или около себя, с чем не могло мириться его самолюбие». Юра же указал на многослойность причин самоубийства поэта – наступившая с 30-го года страшная расстрельная пора, пора усреднения, унификации, взаимозаменяемости, пора ненужности самобытных, талантливых, в особенности, столь ярких, приковывающих к себе внимание личностей, как Маяковский, и отсюда – тихая, но ощутимая травля, и, как следствие, – издевательское отношение к нему публики, почувствовавшей, что теперь можно и что теперь нужно; переход от славословия партии к славословию одного единственного человека – маньяка и убийцы; запутанные отношения с женщинами – ни одна не захотела пожертвовать ради него устоявшимся бытом; жалкая, никому не нужная попытка организовать личную юбилейную выставку, провал постановки «Бани» и в Ленинграде, и у Мейерхольда в Москве; как удар из-за угла дубиной по голове, запрет на выезд в Париж, и, наконец, измучивший его, никак не проходящий грипп – постоянный озноб, температура, осевший голос…
Спасибо тебе, Юрий Аркадьевич! Поверь мне, эта книга останется. Вот, собственно, и всё, что я хотел сказать.
Семён Израилевич растерянно оглядел аудиторию и вдруг сказал, обращаясь к Карабчиевскому:
– Юра, почитайте, пожалуйста, свои стихи.
– Пожалуйста! – произнесло ещё несколько голосов.
– Я не слишком люблю свои стихи, хотя есть и вполне удачные. Кроме того, у меня скверная память, и я помню только те, что прошли из сердца в мозг и обратно, заключив их в пожизненное кольцо. Например, это. Называется оно «Дом отдыха». Юра прокашлялся и резким голосом стал читать:
Дом отдыха. Сугробы снежные.
Фонарь, похожий на серьгу.
Протоптаны тропинки свежие
в глубоком голубом снегу.
Ночной состав кричит на станции,
тараща сонные глаза.
Сегодня в клубе вечер с танцами
и значит, переполнен зал.
Вошла. Еще твой взгляд растерянный
Мы знаем кого – мети!
Ноги знают, чьими трупами
нам идти.
Или такое:
А мы – не Корнеля с каким-то Расином —
– отца – предложи на старьё меняться, —
мы и его обольём керосином
и в улицы пустим для иллюминаций.
Символы?! Нет, не выходит, не вытанцовывается. Есть слова, столь сильные сами по себе, что не могут быть тенью других слов, не могут выражать иные понятия, кроме тех, что положены им от века. Труп – это всегда труп, отец – это всегда отец… Так представлял ли он себе всё то, что писал, видел ли эти самые трупы, ощущал ли чьё-то мёртвое тело под своими ногами, видел ли своего отца, объятого пламенем и бегущего по улицам? Любой ответ на этот вопрос губителен для поэта…
Я знаю силу слов, я знаю слов набат…
Силу слов он знал, но не знал их тайны. Знал слова, но не знал Слова. Набат – это он понимал, но магии простой человеческой речи для него не существовало…»
И вдруг, Юра, оторвавшись от книги, воскликнул:
– Чёрт возьми, я и сам получаю удовольствие от своей книги! И вас очаровал! Чувствую – очаровал. Стал обаятельным и даже красивым. И это очень плохо. Набоков сказал, что «среди художников только бездарные являются обаятельными людьми. Талантливые живут творчеством и потому сами по себе неинтересны. Подлинно великий поэт оказывается самым прозаическим человеком, а второстепенные – обворожительны. Чем слабее их стихи, тем эффектнее наружность и манеры». Но вдруг Набоков ошибался?! И вот, последнее:
«Продался ли он советской власти? Он действительно получал большие гонорары и в некотором роде был советским барином: отдыхал в лучших домах отдыха, беспрепятственно ездил по заграницам, снимал дачи, имел домработниц и даже собственный автомобиль, едва ли не единственный частный в целой стране. И, конечно, это не могло не усиливать его чувства комфортности и соответствия. Но какая это была ничтожная плата в сравнении с тем, что он сделал сам! Никакие блага, никакие почести, ни те немногие, что воздавались ему тогда, ни даже те, что воздаются сегодня, не могут сравниться с его страшным подвигом, не могут служить за него платой – он дал этой власти дар речи. Новая власть так бы и корчилась безъязыкая, не будь у нее Маяковского. С ним, еще долго, об этом не зная, она получила в свое владение именно то, чего ей не хватало: величайшего мастера словесной поверхности, гения словесной формулы. Есть у Василия Абгаровича Катаняна, литературоведа и биографа Маяковского, забавный рассказик, называется «Сталинские лозунги». Там он прослеживает на протяжении нескольких лет почти буквальные совпадения строк Маяковского с печатными высказываниями товарища Сталина…
Горький заметил, что у Маяковского был «темперамент пророка Исайи» – но, самое главное, времени своего он не выразил… И, значит, ошибся Горький – был у Маяковского действительно невероятный словесный темперамент, но иного происхождения, чем у пророка Исайи…»
И сейчас, в конце, то, чего нет в книге. Сталин не любил Маяковского. Малопонятный, левак, крикун, слишком много выступает, слишком много обращает на себя внимания. И вдруг – «лучший и талантливейший»… Можно бесконечно долго копаться в этой, якобы, несуразности. Но мне нравится объяснение самое простое: когда Маяковского не стало, и беспокоиться больше было не о чем, Сталин вспомнил (а, скорее всего, никогда и не забывал) строчки из поэмы «Владимир Ильич Ленин» – недаром он так долго хлопал поэту, читавшему её в Большом Театре в день памяти Ленина:
…Штыками
тычется
чирканье молний,
матросы
в бомбы
играют, как в мячики.
От гуда
дрожит
взбудораженный Смольный.
В патронных лентах
внизу пулемётчики.
– Вас
вызывает
товарищ Сталин.
Направо
третья,
он
там.
– Товарищи,
не останавливаться!
Чего стали?
В броневики
и на почтамт!
И знаете, что самое интересное? Что Сталина в тот в тот день в Смольном не было. Не было, и точка! И в двадцатых годах об этом знали многие. И Маяковский в том числе – он крутился среди людей, в то время значимых и знающих. Вот так надо служить власти! Кстати, до 1939 года все, кто знали об этом, были уничтожены.
На этот раз Юра с силой захлопнул книгу. И вдруг, как дитя улыбнувшись, весь посветлев, спросил:
– Ну и как вам?.. Знаете, сегодня я написал бы эту книгу иначе. Уж, наверное, она была бы трезвее, добрее, – Юра оторвал глаза от книги, – подчёркиваю – добрее, сдержанней, выверенней, справедливей и ближе к чему-то такому, что принято называть объективной истиной. Но сегодня я не стал бы писать эту книгу, я сегодня написал бы совсем другую – и, скорее всего, о другом…
Конечно, книги должны печататься вовремя. Но ведь я и не рассчитывал на публикацию дома и даже эту воспринимаю сейчас как неожиданность и подарок. Да и, строго говоря, семь лет не срок (я, конечно, имею в виду – для книги), и если в ней что-то устарело, отпало, то, значит, оно того и стоило. Будем надеяться, что кое-что все же осталось.
Я старался не врать ни в одном факте, ни в факте жизни, ни в факте творчества, ну а трактовка… да что ж трактовка? Филология – такая странная вещь, что любое высказанное в ней положение может быть заменено на противоположное с той же мерой надежности и достоверности. Как для кого, а для меня лично она убедительна лишь в той степени, в какой сама является литературой. Литературой…»
Он помолчал.
– Я ничего не абсолютизирую и заранее приветствую всех оппонентов и, не глядя, принимаю любые доводы. Но хотел бы отвести лишь одно обвинение, уже прозвучавшее в зарубежной критике: обвинение в ненависти к Маяковскому.
– Юра, можно мне два слова? – тихо спросил присутствующий на семинаре Липкин.
– Интересно, и что я должен ответить? – смиренно склонил голову Карабчиевский.
– Юра вам уже сказал, господа, – начал Семён Израилевич, – что представленную сегодня книгу я прочёл, мало того, получил её в подарок. Это чрезвычайно интересная, порой, просто захватывающая книга. Используя подходящие цитаты и с блеском комментируя их, автор показывает нам эдакого поэтического монстра без души, без сердца, эдакого феномена бездуховности. Однако же я думаю, что найдись автор, не уступающий Юрию Аркадьевичу в таланте, он смог бы с тем же блеском доказать и духовность, и ранимость, и искренность Маяковского. Но не зря «Воскресение Маяковского» названо самим автором филологическим романом. Художественного в этой книге, на мой взгляд, много больше, чем филологического. И именно это делает книгу настоящим чтивом, а не унылым академическим разбором. И вот ещё о чём хочется сказать. И Юрий Аркадьевич, и, не сомневаюсь, многие из вас знают, что ещё в 1927 году резкую статью о Маяковском – она называлась «Маяковский во весь рост» – написал прекрасный поэт Георгий Шенгели. Он отметил в своей статье, что Маяковский – цитирую: «талантливый поэт в 1914 году, в наше время бессилен дать что-то новое и способен лишь выполнять моссельпромовские заказы на рекламные стишки». Об этом же издевательски писал и Сергей Есенин:
Мне мил стихов российский жар.
Есть Маяковский, есть и кроме.
Но он, их главный штабс-маляр —
Поет о пробках в Моссельпроме.
Маяковский, по Шенгели, бездарен. Точнее было бы сказать другое: он почти бездарен как поэт, едва заслуживает имени поэта, но, конечно, гениален в том, как продал свой робкий и неоригинальный талант. И, увы, с этой статьи Шенгели началась разрешённая, подчёркиваю – разрешённая – травля Маяковского. Я ни в коем случае не хочу сказать, что именно этой цели добивался Шенгели. Но так случилось. А сам Шенгели именно из-за этой статьи, с 1931 года, после определения Маяковского, как «лучшего и талантливейшего», не печатался. И вообще, на мой взгляд, чудом уцелел. В том страшном времени у советской власти был огромный выбор, кого казнить, кого миловать. И логику этого выбора никто не в силах понять. Добавлю, что самоубийство Маяковского потрясло Шенгели. «Я отказался бы от самой мысли написать подобную книгу, – признавался он, – если бы мог предвидеть такое…»
Что же касается маниакального страха Маяковского заразиться – постоянно мыл руки, страшился прикасаться к дверным ручкам (протирал их перед этим), носил с собою личную посуду – стаканы, вилки, то я отношу это к психическому заболеванию Маяковского. С другой стороны, кто из людей искусства нормален?.. От болезни и страстная игромания его, и вовсе не ради денежного выигрыша, а для постоянного ненормального самоутверждения – выиграю или не выиграю? Им постоянно владел страх перед старостью и смертью. И страх, что исписался. Именно такие люди склонны к самоубийству. Художник Юрий Анненков рассказывал мне, что встретив однажды Маяковского в Париже, сказал ему, что решил остаться в Париже, чтобы стать, наконец-то, художником, а не писать на заказ плакаты. И услышал в ответ: «А я возвращаюсь, так как уже перестал быть поэтом». И неожиданно разрыдавшись, прошептал: «Теперь я… чиновник…» И особенно мне понравилось в книге Юрия Аркадьевича обстоятельное, не сенсационное, а логичное, умное, выполненное блистательно, с точки зрения литературы, объяснение причин самоубийства поэта. Оно гораздо, с моей точки зрения, глубже, чем известное высказывание Пастернака: «Мне кажется, Маяковский застрелился из гордыни, оттого, что он осудил что-то в себе или около себя, с чем не могло мириться его самолюбие». Юра же указал на многослойность причин самоубийства поэта – наступившая с 30-го года страшная расстрельная пора, пора усреднения, унификации, взаимозаменяемости, пора ненужности самобытных, талантливых, в особенности, столь ярких, приковывающих к себе внимание личностей, как Маяковский, и отсюда – тихая, но ощутимая травля, и, как следствие, – издевательское отношение к нему публики, почувствовавшей, что теперь можно и что теперь нужно; переход от славословия партии к славословию одного единственного человека – маньяка и убийцы; запутанные отношения с женщинами – ни одна не захотела пожертвовать ради него устоявшимся бытом; жалкая, никому не нужная попытка организовать личную юбилейную выставку, провал постановки «Бани» и в Ленинграде, и у Мейерхольда в Москве; как удар из-за угла дубиной по голове, запрет на выезд в Париж, и, наконец, измучивший его, никак не проходящий грипп – постоянный озноб, температура, осевший голос…
Спасибо тебе, Юрий Аркадьевич! Поверь мне, эта книга останется. Вот, собственно, и всё, что я хотел сказать.
Семён Израилевич растерянно оглядел аудиторию и вдруг сказал, обращаясь к Карабчиевскому:
– Юра, почитайте, пожалуйста, свои стихи.
– Пожалуйста! – произнесло ещё несколько голосов.
– Я не слишком люблю свои стихи, хотя есть и вполне удачные. Кроме того, у меня скверная память, и я помню только те, что прошли из сердца в мозг и обратно, заключив их в пожизненное кольцо. Например, это. Называется оно «Дом отдыха». Юра прокашлялся и резким голосом стал читать:
Дом отдыха. Сугробы снежные.
Фонарь, похожий на серьгу.
Протоптаны тропинки свежие
в глубоком голубом снегу.
Ночной состав кричит на станции,
тараща сонные глаза.
Сегодня в клубе вечер с танцами
и значит, переполнен зал.
Вошла. Еще твой взгляд растерянный