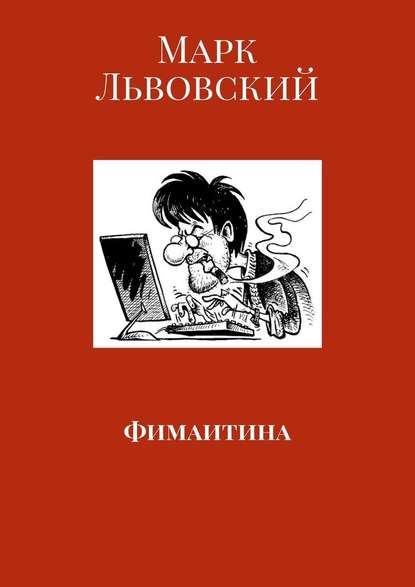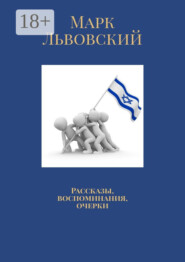По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фимаитина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Ни одно слово не живет само по себе – но лишь в сочетании с другими, названными и не названными. Мы говорим «лагерь» – и мрачные призраки обступают это слово со всех сторон, и толпятся, и машут черными крыльями. Но мы говорим «лагерь» и добавляем «пионерский», и это действует, как крестное знамение. Призраки убираются к себе в преисподнюю, и звучит горн, и бьет барабан, веселые игры, футбол—волейбол, река и лес, ягодки—цветочки…
Но у каждого, как бы ни сложилась его жизнь, есть своя лагерная тема – да не прозвучат мои слова кощунственно, да не оскорбят они ничьих страданий.
Высокий зеленый сетчатый забор. Территория. Сегодня я выйду за ее пределы не как нарушитель и трусливый беглец, а как свободный сын своей свободной мамы. Свою свободную маму я буду держать за руку, свободную от моего чемодана, буду нервным фальцетом рассказывать ей веселые лагерные истории, и мама будет гладить меня по головке и радостными восклицаниями перемежать мой слюнявый визг, отвечая не мне, а своим умильным мыслям, что вот какой у нее хороший и умный сын, и как все вообще хорошо, спокойно и гладко. Я расскажу ей, как я играл в футбол и забил два красивых гола, какое хорошее дно в реке, как я здорово врезал вчера Самойлову, и как в последнюю ночь мы издевались над спящими. И моя мама, прекрасно знающая, что я никогда не играю в футбол, не дерусь и не плаваю, что если кто—то и издевался, то уж точно не я, моя прекрасная мама, которую я люблю больше всего на свете, будет радостно мне поддакивать и гладить меня по головке, с привычной готовностью отметая суть происходящего.
Мои полуистерические рассказы не преследуют тщеславных целей. Просто я не хочу огорчать свою маму, она так старалась, доставая путевку на мою ежегодную каторгу. «В Москве пыль и такая жара, а там такой замечательный воздух!» Она меня любит, родная и добрая, и вот приехала раньше других и уводит меня все дальше и дальше от страшной ограды, а впереди за узкой полоской леса уже слышна станция, и там мороженое, толпа, электричка, живые отдельные нормальные люди, и никто из них, чужих, ничего мне там не прикажет, а свои – вот они, рядом, гладят меня и любят, и не меньше других, и не так, как других, а больше всего на свете! Разве я мог расстроить ее? Я давно включился в эту игру, мне и в голову не могло прийти нарушить ее условия…»
…Наслаждение от Юриного чтения для Фимы было невыносимым. Он едва не заплакал. Откуда этот волшебник узнал о его, Фимином, детстве, прошедшем в этих проклятых пионерских лагерях? Как он угадал каждое Фимино слово, сказанное им маме, одинокой, выбивающейся из сил маме, знавшей Фиму, как облупленного, не верившей ни единому его слову?
Последний раз Фима «отбывал срок» в пионерлагере, будучи уже восьмиклассником. И ему трижды устраивали «тёмную», в последний, третий раз, особенно жестокую, после которой утром, до побудки, он пришёл к директору лагеря, умному, усталому дядьке с многочисленными на пиджаке наградами, и сказал: «Позвоните моей маме – он протянул директору клочок бумаги с номером телефона – и попросите её забрать меня домой. Я вас очень прошу». И заплакал.
– Ты можешь назвать мне тех, кто обидел тебя?
– Обидел? – сквозь плач прокричал Фима. – Они душили меня подушками!
– Так скажи мне кто?
Фима утёр слёзы и уставился в пол.
– Ладно, можешь не называть… Осталось всего пять дней. Потерпи. Я переведу тебя в третий отряд. Там пионервожатая – Валя. Она не даст тебя в обиду. Обещаю. Иди, собери вещи и после завтрака отправляйся к Вале.
К Вале… Она встретила Фиму, как родного – «бедненький ты мой» – и прижала к своей груди. Не фигурально, а действительно прижала к груди, и Фима поплыл, поплыл… И случилось, что четырнадцатилетний мальчик с первого взгляда, точнее, с первого прикосновения к новой пионервожатой, влюбился в неё, двадцатипятилетнюю женщину, да так отчаянно, что написал первый в своей жизни стих. Уже перед самым закрытием лагеря она взяла Фиму за подбородок и, печально улыбнувшись, сказала:
– Ну что ты, малыш? У тебя ведь ещё и не стоит даже…
Но так ли уж она была права?..
Очнулся Фима от громовых аплодисментов. Заскрипели раздвигаемые стулья. Каждый уходящий подходил к Юре со словами благодарности, тот что-то бормотал в ответ. Потом Нина утащила его на кухню пить чай с пирогом. Липкина и Лиснянскую провожал самолично Валерий Николаевич. Последними ушли Фима с Тиной. Последними, потому что Фима, по незначительности своего статуса, в сравнении с остальными участниками семинара, – почти все доктора наук, правда, попадались и кандидаты, – а также по причине своей относительной перед ними молодости, всегда помогал сыну Валерия Николаевича приводить в порядок «зал заседаний». А на этот раз пришлось двигать и тяжеленный диван.
– Сумасшедший дом, – сказала по дороге домой Тина. – Сионисты, борьба за выезд, возвращение, новая родина, а отдают душу спорам о Маяковском, о стихах, о судьбе России…
– Не сумасшедший дом, а сумасшедший народ, – весело поправил Фима…
– 15 —
Фима сидел в кресле и думал. Думал о том новом, странном, что надвигалось на СССР. Стало интересно читать газетные статьи, слушать радио. Ходуном ходило его училище – наконец-то разрешили к постановке пьесу по роману Распутина «Прощание с Матёрой». Выпускной спектакль. Фима прочёл повесть Распутина и никак не мог понять, что в ней запретного. Строят новую ГЭС на Ангаре, посему будут затоплены несколько островов, на одном из которых стоит вековая деревня – Матёра. Да, есть в книге и чиновничье бездушие, и нежелание стариков переезжать в новый посёлок, и ужас предстоящего санитарно-технического уничтожения кладбища. Главный противник происходящего – бабка Дарья, прямая, умная, принципиальная. Ну и что? Почему два года не разрешали ставить пьесу? Что есть в этой повести антисоветского? Какие такие намёки?
Фима побывал на нескольких репетициях, и вот что он однажды услышал от ставящего спектакль любимца студентов профессора Катина-Ярцева: «Друзья мои, – и пух лёгких, седых волос, расположенных по периметру его головы, приподнялся над совершенно гладкой, розовой макушкой, – вы должны заставить зрителя задуматься: что будет с тем куском земли, который для каждого человека становится святым местом? Более того, что будет с Россией? Есть ли надежда на то, что Россия не утратит своих корней? Но, увы, вся надежда – это всего лишь бабка Дарья, только она, да ещё несколько стариков несут в себе те духовные ценности, которые будут буквально затоплены: память, верность роду, преданность своей земле. Берегли они Матёру, доставшуюся им от предков, и хотели передать в руки потомков. Но приходит последняя для Матёры весна, и передавать родную землю некому».
Ни студенты, внимательно слушавшие профессора, ни сам профессор, ни Фима не заплакали.
Но потом Фима увидел, как наворачивают спектакль кошмарами – и поджог первой избы, и бульдозер, превращающий кладбище во вспаханное поле, и надвигающийся на избу трактор – страшное равнодушие строителей к тем несчастным, что не успели собраться, не успели вынести из своих изб всё то, что составляло суть их жизни. Это было рычащее, звериное наступление советской власти на собственный народ. Не писал Распутин антисоветской повести, но, возможно, и сам того не желая, дал отличный повод превратить её в оную.
Фима не без труда добыл два пригласительных билета на премьеру – для Валерия Николаевича с Ниной.
Спектакль Валерию Николаевичу и, естественно, Нине решительно не понравился.
– Диссидентские слюни. Накатали ужасов, в которые не очень-то и верится. Рассказал бы лучше господин Распутин, как раскулачивала советская власть крестьян, как вырезали кормильцев России. И с тех пор покупают пшеницу в Америке… Фима, а студенты твои крестьян живых видели? Не вышагивают крестьяне спортивным шагом. И пьют по-чёрному – почитай Довлатова. И этого идиота тракториста, что приехал хату курочить, до смерти отмолотили бы, а не взывали к его чувствам… Но всё равно спасибо. Чую, чую, меняется что-то в этом болоте…
И, действительно, менялся СССР. Надвигалось что-то такое, о чём страшно было даже подумать, чтоб не сглазить. И Фима, еврей, немало наглотавшийся в этой стране антисемитской дряни, решивший уехать в Израиль, ставший вроде бы сионистом, решительно удалённым от жизни этой страны «отказом», – он даже перестал болеть за московское «Динамо», – должен был бы с равнодушием взирать на происходящее, но ничего подобного, наоборот, он после четырнадцатилетнего перерыва стал жить жизнью страны, страстно ожидая перемен и не связывая их с отъездом… Его очень пугало такое состояние души, он никому, даже Тине, не признавался в этом, понимая, что ни в ком не обретёт сочувствия.
…Тина в этот вечер вернулась с работы усталая, раздражённая и заявила мужу:
– К чёрту! Увольняюсь! Сегодня утром он вызывает меня, брюхатую на седьмом месяце, и заявляет, что переводит на сменную работу! И глаза аж сверкают от предстоящего удовольствия услышать мои возражения! Ждёт моей бурной реакции, что бы был повод поговорить по душам. Тут-то он мне всё и выскажет. А я промолчала. Сказала, что подумаю… Завтра утром напишу заявление об уходе…
– Давно пора! Сколько можно говорить об этом?!
– Я действительно устала. И ещё целых два месяца до декретного отпуска. И мне плохо, плохо на работе! Я тебе не рассказывала, но на меня накатали уже две жалобы… Сёстры издевательски не торопятся выполнять мои поручения. Опоздала на две минуты, и заведующая отделением учинила мне форменный скандал. А вчера…
Тина вдруг расплакалась.
– Что – вчера? Почему ты мне ничего не рассказываешь?!
– А вчера какой-то бабе, – Тина чуть успокоилась, – пришедшей в поликлинику с внуком, кто-то что-то нашептал, и она громко потребовала другого врача. Требовала и смотрела мне в лицо.
– Почему ты мне ничего не рассказываешь?
– Потому что Эдик сказал, что тебя нельзя слишком волновать.
– Вы до сих пор считаете меня сумасшедшим, которого надо оберегать от внешнего мира?
– Вот видишь, какая у тебя агрессивная реакция на самое простое событие!
– Простое событие? Над моей беременной женой издеваются на работе, и это называется простым событием!
– И ты собираешься набить им всем морды?
– Нет! Но я категорически настаиваю на том, чтобы ты послала их всех к чёрту и немедленно уволилась!
– Вот, это по-мужски! Но я, между прочим, с этого и начала…
– И очень здорово! Видишь, как, не скандаля, мы спокойно пришли к правильному решению проблемы. Меня только волнует, чем ты будешь заниматься целыми днями…
– Через пару месяцев ты увидишь, чем я буду заниматься целыми днями и даже ночами.
– Неужели ты не видишь во мне истового помощника?
И в это время зазвонил телефон. Первой взяла трубку Тина.
– Сенька! Привет! У нас всё в порядке! А у вас?
Тина вдруг ойкнула и медленно стала опускаться на стул, одновременно протягивая Фиме трубку. Глаза её расширились… Перепуганный Фима схватил трубку:
– Что ты наговорил Тине? Что?! Разрешение?! Сегодня утром? Дали две недели? Сеня, а как же мы… Через часок будешь… Закуску… сделаем, конечно… А ты меня не разыгрываешь? Даёшь честное пионерское… Прикатывай… Ждём…
Тина проковыляла на кухню, а Фима остался скрюченным сидеть на стуле, и холод, сначала охвативший ноги, медленно потёк наверх, забирая живот, грудь, и когда он охватил голову, Фима издал протяжное «а-а-а-а», и тут же примчалась Тина, и прижала Фимину голову к своему животу, и он затих, и, слава Богу, что Тина успела надеть передник, а то её платье стало бы совсем мокрым от ручья мужниных слёз. Впрочем, Фима скоро успокоился и побрёл вслед за женой готовить закуску…
Сенька выглядел скверно. Глаза впали. Непрерывно курил, с каждой новой сигаретой выходя на балкон. Оля выглядела ещё хуже. Пудра, обильно высыпанная на лицо, только подчёркивала следы недавних слёз. Она непрерывно мяла в руках лёгкий, красивый белый шарф, обмотанный вокруг шеи и ниспадавший до живота. Сели за стол. Выпили. Оля залпом выпила рюмку водки. И не закусила.