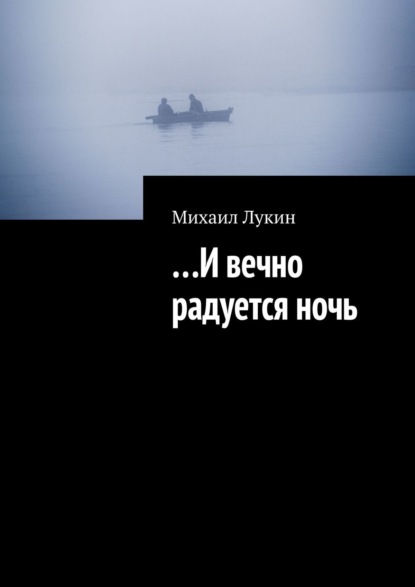По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
…И вечно радуется ночь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Вечная ночь» – это с полтора десятка сиделок, более-менее привычных к медицинскому делу, ангелов, спускающихся к нам с небес, пара подсобных рабочих, сторож и повар, и также два доктора, два пророка и чародея, Моисей и Иисус Навин… Одного уже нет, господина Остерманна, того, кого я неплохо знал, и кто был увлечён моими книгами; он не вынес своего существования и исчез неизвестно куда. Остался лишь один, но ему наплевать на мои книги, да и на меня самого.
Как всё просто: люди, люди – всё пресыщено людьми… и ничего, ничего помимо «венца творения»! Ничего?..
Нет, быть того не может; люди здесь играют куда меньше роли, чем в обыденной жизни. Мы-то уж давным-давно утратили человеческую суть, сиделки, что постарше, людьми, кажется, никогда и не были, а молодые… светит ли им это?! Доктора? Один испарился, второй… И всё же, не след мне понимать всё буквально – ведь я и существую-то едино лишь бесплотным упованием на встречу хоть с одним живым человеком здесь! Красный крест и Лига Наций будут немедленно уведомлены в случае обретения моими надеждами плоти…
«Вечная ночь» – вселенная о трёх мирах; мир отживших, Мидгард, второй этаж, где коротаем мы, туземцы, дни, в ожидании исхода, предначертанного свыше; божественный мир, этаж третий, мансардный, под самой крышей, куда едва ли возможно пробраться, покуда жив, и где приемная Создателя; и мир обычный – первый этаж, где сиделки стучат ночными горшками и звенят склянками, и повар горланит: «Обед! Обед!». Спуститься на первый этаж вполне возможно, это не возбраняется, возможно и оказаться снаружи, в широких ласковых объятиях угнетённого стариною парка, однако мало кто настолько крепок что мускулами, что душою – оттого огромный парк почти всегда пустует. Настежь для нас и небеса – широкая лестница, обложенная мрамором, ведущая прямиком в Асгард, великий радужный мост, гулкий и крепкий, но вознестись туда… также достояние избранных. «Высок Господь, живущий в вышних…» А ведь где-то там сияет Вифлеемская Звезда, и святой Пётр гремит ключами, и где-то там нет запаха спирта и не стучат друг о друга те самые ночные горшки. И где-то там наверху совсем нет места нам.
«Вечная ночь» – мир, заселённый тенями, вселенная немолчного сочувствия! «Вечная ночь» дразнит, потешается над нами, как сам Сатана, она прикипела к нам, мы видим её повсюду и во всём и… даже в нас самих вместо жизни, подменяя собою мысли – она. За бесконечными шашками, карточными фокусами, викторинами, домино; за столоверчением, тайным и явным; за редкими наездами и набегами родственников; за спорами, наконец – она, и только она. Порой, всё видимое вокруг представляется родным очагом, тёплым, спокойным и умиротворённым, каковым он и должен быть, порой я сам убеждаю себя в этом, и верую в бескрайнюю силу своей фантазии. Верую искренне, до тягостной боли в душе, которая на деле является мне болью телесной. Едва же решаюсь не верить, сомневаться, как вновь, уныло зудя, разгорается нечто в этой душе, глубоко-глубоко. Гнилые иссохшие пеньки! Овощи! Где вы, ау?!
Да, мы здесь, мы никуда и не уходили – как можно!
…И пылающий обманчивый взор вновь сосредоточен на картине – вот, мне лучше, и я не буду кричать так, как господин Мунк, по крайней мере, до следующего приступа, и ухо отрезать себе не буду также. А значит, господам и госпожам «растениям» можно чуточку перевести дух.
В дверь стучат; стук тягостно-настойчивый – тот, кто топчется за дверью, имеет важную причину стоять и стучать. Фрида уже была здесь – выходит, на пороге не она; осмелилась бы она совать свой нос ко мне ещё раз с утра пораньше – да ни в жисть!
И я не отвечаю – настроение ни к чёрту, только гостей мне не хватало!
Не так давно одно из местных «растений», госпожа Фальк, вдова какого-то чиновника, «сгоревшего на работе», стучалась ко мне, царапалась кошкой, просилась внутрь – не знаю, что за нужда и что за тревога! Слышал, так ходит она к доброй половине насельников, разнося бесконечные байки о своём давным-давно почившем в бозе супруге – да существовал ли он на самом деле!? Дескать, сей знаменитый господин Фальк, в одиночку выиграл какую-то войну, а к мнению его прислушивался сам король… ну, и всё в таком духе. Побасенок слушать желанием в тот раз я не воспылал, хотя, скрывать нечего, в определённые моменты жизни здесь такая жуткая тоска накатывает, что я бы всё-таки послушал её, попытавшись её тоской заглушить свою.
Проходит время – стук не думает умолкать. Не вдова ли Фальк всё же вновь доискивается моей компании? Либо же это стосковавшаяся по мне Фрида? Тогда пусть постоит за дверью, пусть пораздумает, пусть покипятится немного – о, это повод лишний раз воспылать ко мне ненавистью, если обладает таким чувством человек с характером дохлой рыбы… Нет, отчего Фриде стучаться? Вошла бы без церемоний – ей, видите ли, никакой закон не писан! – да и дело с концом. Это кто-то ещё… Кто же, кто? А, может быть… она… Она же дала обещание! Да, дала, явиться вечером, взгляни в окно – вечер уже? То-то же…
– Господин Лёкк! – глухой голос из-за двери вносит, наконец, определённую ясность, а то, не ровен час, можно было бы и захлебнуться в загадках.
Конечно, признаю голос без труда – сложно не признать его! – это не вдовушка Фальк, и уж точно не Фрида – та утром вылезала из-под моей кровати сварить мне кофе и подать таблеток, а теперь моей волей вновь сопит там, загнанная обратно – это Стиг, главный и, с недавних пор, единственный доктор, а кроме того… директор, президент, Великий Могол, Господь Бог, и так далее. В общем, тот, кто пыжится продлить мою жизнь собственными усилиями за мои же собственные кровные. Давеча блажь откровением звякнула в темя ему: необходимо стучаться в двери к своим постояльцам! Вот так то! И чихать на глупую церемониальность, на драгоценное время – блажь зарделась в мозгу путеводной звездой. Пусть он может войти свободно, так же, как любая из сиделок, благо замков в дверях нет в помине, но ему необходимо показать, что мы все здесь располагаем собой и своими апартаментами по собственному усмотрению – в этом весь смысл! – вот он и стучится; авось, упоенный свободой, Лёкк в нетерпении ждёт его с караваем да чаркой водки. Нет уж, не собираюсь доставлять ему такого удовольствия – будет нужда, войдёт сам!
Доктор Стиг… Занятный персонаж, целая глава в книге моей жизни, эпилог, не написанный покуда… Мессия, Создатель, живительный источник Правил, Моисеевых Заповедей, горячий почитатель экспрессионизма Эдварда Мунка как средства донесения до насельников визуальным рядом неких собственных непреложных истин. Я не особо церемонюсь с ним и внимания моего он почти не занимает, но вот у остальных он – притча во языцех, бесконечная тема для благоговейного шептания по углам, предмет культа и почитания, сила, к которой возносят требы и на которую уповают во скорбях и несчастьях. И, как и всякий культ, личность доктора связана с табу, запретом, личность его – непогрешима, а всё сделанное или сказанное им – непоколебимо. Одним видом своим порождает он животный трепет – языки прилипают к нёбам, а руки заходятся в треморе: вечерами, при блеклом свете его сияющая лысая голова носит на себе огненные блики, а персты, плавно разведённые в стороны, говорят за сына Божьего, спустившегося на Землю для очередного спасения грешных душ.
На деле ж доктор Стиг – единственный здесь чудак, кто полагает или же делает вид, что полагает, будто кто-то из нас может ещё хоть от чего-то излечиться, пусть не от хворей, так от плесени скверного расположения духа – наверняка.
Действительно, каков чудак!
Как и положено существу высшего порядка, скорее метафизик и алхимик он, да и мыслит против всякой логики, несмотря на то, что накачан точными науками – ведь если кто-то и вылечится, то будет таков, покинет эти стены, а, выходит, сгинут и деньги, немалые, к слову. Однако иное исполняет он с точностью педанта – поддерживает огонь жизни в наших почти угасших светильниках, и это, надо сказать, составляет основу его нынешнего благосостояния. И благосостояние его возникло не на ровном месте, оно заслужено, выстрадано, ибо, в самом деле, врачует он хворых – шутки в сторону, господа – я видел сам! – исцеляет умы от зловредного вируса здравого смысла, а иногда и прикосновением – кручину.
– Господин Лёкк, хотите вы или нет, но я тотчас войду! Ровно минуту вам на то, чтобы придумать объяснение, отчего вы не отвечали на мою просьбу, и потрудитесь, чтобы оно было более-менее правдоподобным – у меня нет желания более слушать всякие бредни о белых карликах и атмосфере на Юпитере. Хронометр у меня в руке, время пошло!
И слышу: впрямь, из браслет-часов за дверью доносятся соловьиные переливы менуэта – юноша сколь свят, столь же и упорен!
Но, разумеется, не собираюсь ничего выдумывать, даже и вскакивать-то при его явлении, как заведено при европейских дворах – верх глупости. Нужно подумать о том, чтобы как-то обезопаситься от его появления, его и ему подобных. Некая пожилая и немного тронутая рассудком дама из семейства Фальк так и не додумалась просто толкнуть всегда открытую дверь и войти, вместо этого царапаясь ко мне с полчаса, а этот Стиг – пройдоха умный, хоть на вид ему лет двадцать восемь-тридцать, и уж он-то войдёт без помех, рано или поздно. Господи, Хлоя бы уж придумала что-нибудь!
Так и продолжаю падишахом возлёживать на полу под балдахином стола на ковре собственных бумаг, когда он, истомлённый нетерпением, наконец, входит. Входит… сперва рождённый его порывистостью воздушный поток, ветер, затем – он, и словно поток этот несёт на своих крыльях его. Раздражённого, досадующего, – это слышно по тому, как грубо толкает он несчастную дверь, по тому, как дышит, – но держащегося – о, как бы не так! – невозмутимо. По комнате разносится сильный запах лимонно-мятного мажетеля, будто бы надуло ветром перемен сюда и не человека вовсе, а лимонное, усыпанное плодами, дерево, а в голове мгновенно заводит оркестр весёлую камарилью «Там, где цветут лимоны», насыщая прогорклый воздух звонким смехом кружащихся в вальсе парочек!
– Что это? С ума вы сошли?! – совсем по-Фридиному всплескивает он руками. – Вставайте же немедля – пол ледяной. Сейчас позову сиделку, она вам поможет.
С самого начала ко мне приписана молчунья Фрида – можно бы, понятное дело, и свыкнуться – но… желания видеть её не было как прежде, так совершенно нет и теперь, и тут же отвечаю, что, так уж и быть, не премину подняться в обмен на клятвенное заверение дражайшего доктора, что он не будет звать сиделку.
Случившееся пробуждает язвительную словоохотливость.
– Доброе утро! Не скрою, очень радостно видеть вас здесь, доктор, – кисло замечаю, поднимаясь с его помощью, – знаете, что я надумал? Хочу завещать вам все эти бумаги, которые вы можете видеть здесь во множестве, чтобы вы, когда я покину этот свет, пустив их с молотка, смогли бы обеспечить себе безбедное существование.
Доктор, так же кисло:
– Как любезно с вашей стороны…
Вне сомнения, возбуждающий любопытство человек, этот Стиг (есть такой сорт людей, заставляющих задумываться!), и на вид также: вовсе без бороды и прочей растительности – даже без бровей! – да и голову выскабливает наголо, до известного матового блеска, а кожа лица – бледная-бледная, как у покойника, даже с какой-то противоестественной синюшностью… Но губы розоватые, поразительно приятного здоровья, и всегда узки, плотно сжаты, будто бы хранится за этими губами, помимо зубов и языка, и некая тайна! А глаза… право, что за замечательные глаза! Глубоко посаженные, пронзительные, холодные… цвета начинающего таять, но так и не тающего, льда. Глаза врача, копающегося в полном интимных тайн дамском редикюле; глаза своенравно-испытующие: дескать, madame, что изволите скрывать от меня? Возраст? Собственный, или того, кто наградил вас интересным недугом?
– Так отчего вы молчали? – интересуется, с мрачным любопытством оглядывая меня с ног до головы. – Объяснитесь… Я начинал думать, уж не случилось ли чего…
– …Необратимого, так? – отвечаю, и далее: – Нет нужды переживать – я спал, неужто не видно…
– Спали? Странное местечко избрали вы ложем… – замечает он, пуще расслабляясь оттого, что ему не приходится слышать ни об атмосфере на Юпитере, ни о Френсисе Дрейке, ни о Городе Солнца, ни о чём подобном.
– Чем же не ложе! Моё-то, извольте: несвежее и сопит; кажется, оно нездорово, у него насморк…
Ну же, ну…
Вот… отлегло от сердца и у меня – только-только дребезжал натянутой до предела, готовой лопнуть, струной, теперь же… сходит холодный пот, и стремительно остывающая кровь – прочь от висков, былой тревоги и след простыл. Доктор здесь, официальный визит вряд ли спонтанен, как всегда – видите ли, он никогда не забегает, просто проходя мимо, он о чём-то размышлял, спускаясь ко мне с небес, и морщины на высоком лбу так до конца и не разгладились. Что-то случилось, что-то, о чём он думает и никак не может забыть? И что это, в самом деле, такое, дорогой доктор – где ваш накрахмаленный испускающий лимонную свежесть халат, где тонкая змейка обвившего жилистую шею стетоскопа? А иссиня-чёрная угрюмая, с сияющей золотой окантовкой, папочка… – где же всё, доктор?!
– Сопит? – разменяв крупную купюру нетерпения на пригоршню меди, он предельно задумчив, сосредоточен. – Поскрипывает, то есть?
Демонстративно плюхаюсь на тахту.
– Как видите… – и тут же вскакиваю возмущенно, будто бы невыносимо противно мне сидеть так, и будто бы нет никаких забот у меня, кроме как слушать стоны дурацких пружин.
Молчание – тягостное, неуютное… Вдруг доктор приближается, подходит вплотную, испытующе сурово, с гармошкой на переносице, смотрит, а затем, ни с того, ни с сего… бух! – неприветливо тяжёлую руку, панибратски – мне на плечо.
– Вот что, дружище, – он твёрд, бесстрастен, – давайте начистоту. Не будем выяснять, отчего вы лежите на полу, а не там, где положено, на кровати, и отчего целую ночь провалялись в дверях, поговорим о чём-то более глобальном, о чём я давно думаю. Вам, верно, что-то не по душе в нашем заведении, вы голодаете, кричите и протестуете, в общем, ведёте себя – как бы это выразиться… – нехорошо, а о постоянных нарушениях вами установленных норм я уж и вовсе промолчу. Что это – упрямство? несогласие? вредность? – как ещё назвать? Вот и теперь, пожалуйста… игра в молчанку; пыжитесь что-то, рисуетесь себе – для кого? для чего? – изображаете графа Монте-Кристо, Чайльд-Гарольда, и чёрт знает кого ещё, вместо того, чтобы ответить на простой, ни к чему не обязывающий, вопрос. Невежливо, знаете ли, и кроме того, странно – будто бы спрашивал я нечто из ряда вон! Но ведь вряд ли, в самом деле, только скрипучая кровать (которую мы, конечно же, исправим – не сомневайтесь!) способна была стать поводом к вашей вселенской тоске. Быть может, в доверительной беседе вам стоило бы рассказать мне, что у вас не так, что беспокоит вас, и я бы постарался что-то сделать для вас, как-то улучшить ваш быт ли, сформировать более приятное меню по вашему вкусу…
Неожиданность плюёт в лицо: ошарашенный, хлопаю глазами – обращался он ко мне прежде так, по-свойски, добрым пастырем к заблудшей овце, любящим всепрощающим сыном к родителю? Прохаживаюсь взглядом по его элегантному серому костюму, выутюженным стрелкам, задерживаясь особо на кроваво-красного шёлка шейном платке и бриллиантовых запонках с вензелями: в моём рассеянном виде, верно, мыслью и не пахнет. Замешательство порождает в противостоящих глазах странную вспышку – не злорадства ли?
– …Вы же видите, – продолжает он неожиданно напористо, – (а это невозможно не видеть!) как благостно настроены мы, – проводит свободной рукой круг в воздухе аккурат перед нелепостью моего образа, – все мы здесь, в нашей «Вечной Радости», по отношению друг к другу. Каким терпением проникнуты и слова, и дела наши. Что это… что шумит там, в коридоре, за белой дверью, на лестницах, в столовой и в парке… Слышите? – сильно сжимает моё плечо, вонзается взором мне в глаза. – Доверие! В доверии нуждаемся мы все, как в воздухе, как в маяке во тьме; мы хотим тепла, хотим стать семьёй…
Прихожу в себя – нутро жжёт нелепица напыщенности словес и оборотов, блик утреннего солнца на зеркальной лысине, лукавая тягость момента…
– …Мы разрушили границы между персоналом и постояльцами, ненужные бессмысленные границы, убрали из дверей все замки – никто не услышит больше здесь скрежет запираемой двери!
«Вырезали замки, но задвижки… задвижки снаружи так и остались – так, на всякий случай…».
– …Но мы хотим… – переходит на священный шепот. – Я хочу – ответного расположения! – и тут же довольно громко, увесисто: – Наивно ли желание? Возможно… Отчаянно ли? Да, чёрт возьми!
«Отчаяние говорит этими устами?» – размышляю я. – «Вот ещё! Ха-ха! Но отчаявшиеся святы и, конечно же, безумны где-то; они не замораживают взглядом вод, и не превращают обративших к ним чело в камень…».
– …И что же я каждый раз получаю в ответ?! – доктор воодушевляется. – Я, бедная Фрида, ходящая за вами, как за младенцем!.. Что? Неприязнь… даже не равнодушие! Вот и теперь топчусь за порогом, предоставляя вам собраться с мыслями, привести себя, так сказать, в порядок…
«Нет, не отчаяние, и… вовсе никакое не чувство – текст! Машинописный, с ошибками, опечатками, близкий к жизни, и далёкий от неё, и всё-таки – не жизнь, даже не подобие. Текст!».
– …Даже не удосужились ответить из-за двери, не то чтобы открыть!».
Пора была уже что-то сказать, и я спрашиваю, икнув: