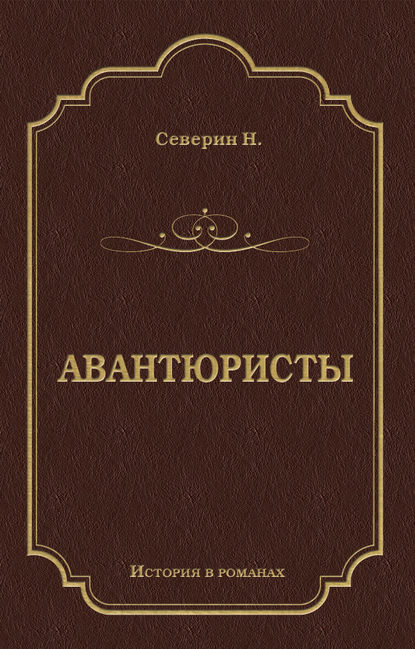По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Авантюристы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В первую минуту он не узнал в голове с пейсами и с сверкавшими умными глазами, опиравшейся подбородком на подоконник, еврея, назойливо предлагавшего ему свой товар в то время, когда он смотрел с крыльца на прогуливающихся по аллее прелестниц, но этот последний поспешил сам отрекомендоваться.
– Не бойтесь, господин! Я – бедный еврей, очень несчастливый человек, от меня вам худа не будет. Я хочу услужить вашему сиятельству. Я – маленький человек и очень-очень бедный; у меня жена и много детей, всех кормить надо, и для этого много, ох, как много надо работать! Я могу вам услужить, ваше сиятельство, я здесь вырос и всех здесь знаю. Меня и господин майор, как честного еврея, знает, – я приношу ему табак из-за границы… чудесный табак, самый лучший, какой король курит, и никогда лишнего не беру. Я немецкую землю знаю лучше русской, – продолжал он, ободренный молчанием своего слушателя и внимательным взглядом, которым тот смотрел на него. – Доверьтесь мне, ваше сиятельство! Скажите, чем я могу вам помочь?
У Углова в уме мутилось от новых соображений. Как утопающий хватается за соломинку, чтобы спастись, так и он хватался за решения, одно несообразнее другого, но он отбрасывал их по мере того, как они возникали в его уме. Таким образом остановился он не долее секунды на мысли доверить этому еврею письмо цесаревны и отогнал от себя прочь намерение дать ему денег, чтобы тот поскакал с этим письмом к князю Барскому. Однако, когда новый его знакомец упомянул про свои связи за границей, Углов, задыхаясь от волнения и со сверкающими радостью глазами, спросил:
– Ты можешь помочь мне перейти границу?
– Могу, господин, – поспешно закивала голова, смотревшая на него с подоконника снизу вверх.
– Ну, так действуй! Времени осталось немного, нам каждую минуту могут помешать. Мне надо быть за границей, когда они отужинают.
– Будете раньше, господин.
– Получишь за это десять червонцев, – продолжал Углов, но, заметив разочарование, выразившееся на лице еврея, поспешил прибавить, вынимая из кошелька означенную сумму и раскладывая ее на подоконнике: – Это сейчас, а когда доставишь меня до надежного места, я дам тебе еще столько же. Больше не могу, у меня в кошельке всего двадцать два червонца.
Молодой человек говорил правду; все его богатство состояло из двадцати двух червонцев, – но ему казалось, что лучше оставаться на свободе без денег, чем быть привезенным под конвоем, как государственный преступник, в Петербург, чтобы быть заключенным в крепости, хотя бы с двадцатью двумя червонцами в кармане.
– Решайся скорее! – прибавил он, задыхаясь от волнения. – Больше мне дать тебе нечего.
– Сейчас принесу вашему сиятельству переодеться…
– Как это переодеться?
– Ну да! Разве возможно проводить ваше сиятельство через границу иначе, как под видом нашего брата, еврея? Вы наденете платье моего племянника Шмуля, который одного с вами роста и сложения, и я скажу солдатам, что мы идем в город за бочонком вина, выписанным для господина майора. Они часто нас пропускают, потому что им известно, что господин майор всегда обращается к Боруху, когда ему нужно заграничное вино, – прибавил еврей с гордостью.
В то же время он косился взглядом на деньги, сверкавшие на облитом лунным блеском подоконнике так близко от него, что стоило бы только протянуть руку, чтобы ими овладеть. Но у Углова был строгий и решительный вид, а на поясе у него висел такой длинный и, без сомнения, острый кинжал, что если бы даже эта мысль и пришла еврею в голову, то он немедленно отказался бы от нее, как от опасного сумасбродства.
– Ну, действуй скорее! – согласился после минутного колебания Углов, которому этот маскарад далеко не улыбался.
– О, я сейчас! – ответил Борух, соскакивая на землю и со всех ног пускаясь бежать.
Когда он исчез за деревьями аллеи, по которой Углов некоторое время мог следить за его быстро удалявшейся фигурой, согнутой в три погибели, чтобы незаметнее сливаться с кустами, Владимир Борисович снова впал в отчаяние. Не вернется этот новый покровитель вовремя, чтобы спасти его! Эта встреча – не что иное, как новое поддразнивание судьбы, чтобы опять ввергнуть его в бездну уныния.
Опять начал он прохаживаться взад и вперед по комнате, ероша себе волосы и моля Бога, чтобы Борисовский не нагрянул до тех пор, пока его спаситель вернется с платьем племянника.
IV
В одной из комнат Летнего дворца, обычного местопребывания императрицы Елизаветы Петровны, лежала на диване, уткнувшись лицом в подушку, молодая девушка и горько плакала.
Она была красиво и нарядно одета в модный костюм, называвшийся французским и состоявший из юбки светлой шелковой материи на фижмах, длинного корсажа на костях, низко вырезанного на груди, прикрытой прозрачной косынкой, с пышными рукавами, доходившими до локтя, и из зеленых башмаков на высоких каблуках. На маленькой, грациозной головке девушки возвышалась такая причудливая и высокая прическа, что она, роста немного ниже среднего, казалась высокой и занимала диван во всю его длину: ее стройные ножки упирались в одну из бронзовых химер, увивавших ручки дивана, а напудренные локоны доходили до другой.
Окна комнаты выходили на внутренний двор, обсаженный деревьями, с клумбами цветов посреди, а обстановка ее представляла собою странную смесь роскоши с простотой, доходившей до грубого убожества. К столу из белого мрамора на вызолоченных ножках приставлен был стул из простого дерева, плохо выкрашенного в красную краску; рядом вычурными креслами заграничной работы, с остатками пожелтевшей от времени обивки из белого атласа, стоял поставец в византийском вкусе, уставленный сборными штучками; рядом с пастушкой из севрского фарфора нагло выпячивался безобразный глиняный утенок-свистулька и красовалась расписная деревянная чашка, из-за которой выглядывало одним краешком гнездышко с птичками художественной работы из слоновой кости.
За исключением потолка, расписанного искусным художником, до амуров и богинь которого никакая дерзновенная рука не могла достичь, – так он был высок, все здесь было искалечено временем и отсутствием вкуса. По стенам, обитым вылинявшим штофом некогда малинового цвета, висели в неуклюжих рамах портреты безобразных людей в пестрых одеяниях, с деревянными безжизненными лицами, а над диваном из овальной облупившейся золоченой рамки выглядывало, как живое, прелестное личико с большими синими глазами, оттененными такими темными ресницами, что эти глаза должны были казаться, при известном освещении, совсем черными.
По этим глазам да по улыбке можно было узнать в этом ребенке императрицу Елизавету, сохранившую до преклонных лет то обаятельное выражение во взгляде и в улыбке, которое у нее было в детстве.
Дальше, под наивной лубочной картиной, изображавшей святых, на целую голову выше окружавших их домов и деревьев, с руками воздетыми кверху и достигавшими до лиловых облаков на ярком синем небе, скромно пряталась в потертой деревянной раме копия с Мадонны Мурильо, а еще дальше, в красном углу, между дверью и крайним окном, возвышался массивный киот со множеством образов, перед которыми горела лампада, распространявшая довольно-таки неприятный запах.
У следующего окна находился небольшой стол с рукодельем хозяйки этого жилища, Марфы Андреевны Чарушиной, любимой камер-фрейлины государыни, – начатым чулком из толстой грубой серой шерсти, в простом берестовом лукошке, как те, с которыми деревенские бабы ходят в лес по грибы. К этому столу был придвинут такой же грубый стул с вытертой деревянной спинкой. Сиденье этого стула было снабжено кожаной подушкой, такой жесткой, что трудно было понять, какого рода удобство она представляет хозяйке.
Но эта подушка имела свою историю, которую Марфа Андреевна рассказывала так:
– Тоже затея царицы. Пристала: «Зачем на таком негожем стуле сидишь, когда я тебе так много дорогой мебели пожаловала? Люди могут подумать, что я своих старых слуг не берегу». И как ни уверяла я ее, что на этом стульце и батюшка мой покойный, и дед – царство ему небесное! – сиживал, ничего в толк не пожелала взять и приказала Венерке хоть от собаки подушку взять да на стул этот положить. Это она на смех сказала про собачью подушку и в тот же день вот этого идола из собственных покоев приказала ко мне принести, – продолжала старуха, указывая на покойное кресло с разными приспособлениями для удобства, скамеечкой для ног, откидным столиком и т. п., стоявшим без употребления в темном углу. – Ну, да ведь и я упряма: за милость, как следует, поблагодарила и ручку поцеловала, а чтобы сесть в это чудище заморское, ни раза не села. И как придумала царица, чтобы мне для спокойствия на собачьей подушке сидеть, так и сижу до сих пор, вот уже шестой год. И до самой смерти просижу, – исполню ее приказ. Царица ведь! Не очень-то с нею, как бывало прежде, станешь спорить да браниться, – прибавляла она с усмешкой, отражавшейся лукавым блеском в ее умных глазах.
Сама Марфа Андреевна всей своей оригинальной фигурой, нравом и умом так подходила к помещению, которое она занимала во дворце, что невозможно было представить ее в другой обстановке, а еще менее эту обстановку без нее. На всем, что окружало эту женщину, равно как и на каждом ее движении и слове, лежал своеобразный отпечаток, и стоило только пробыть здесь, в ее обществе, и послушать ее остроумную речь, чтобы понять, сколько ловкости и душевной гибкости, проницательности и поистине замечательной сообразительности кроется под грубоватой и простоватой наружностью этой женщины, и перестать удивляться безграничному доверию и неизменной привязанности, которые к ней питала царица.
Для тех немногих, которые знали Марфу Андреевну не такой, какой она казалась всем, а такой, какой она была на самом деле, было понятно, что племянница ее, Чарушина, находила отраду и утешение только во дворце у тетки, с тех пор как ее постигло горе, в котором она никому из домашних не осмелилась бы сознаться.
Но в тот день Фаина слишком рано приехала к тетеньке: та была у государыни, которая никогда не поднималась с постели без нее и не начинала дня, не поговоривши с нею о делах.
Это было всем известно, и так как решения императрицы приписывали во многих случаях Чарушиной, то у нее было много врагов, и по городу ходили легенды о ее коварстве и пагубном влиянии на государыню. Говорили также про ее грубость и невежество, удивляясь влиянию такой невоспитанной особы, не умевшей даже читать и писать, на остроумную и просвещенную дочь великого Петра; приписывали ей даже и размолвки, возобновлявшиеся в последнее время все чаще и чаще, между членами царской семьи.
Марфу Андреевну в этот день особенно долго задержали у государыни. Посидев несколько времени одна со своими думами, Фаина так расстроилась, что, сама не понимая, как это случилось, бросилась на диван, зарылась лицом в подушку и дала волю душившим ее слезам.
Никто ей не мешал, но она, может быть, воздержалась бы от рыданий и вздохов, если бы догадалась, что есть свидетели ее печали. Из двери в коридор уже раза два выглядывал на нее уродливый карлик в красивой, расшитой галунами, красной куртке, чтобы делиться наблюдениями с высоким негром, тоже в красной ливрее, скалившим белые зубы перед окном, открытым на внутренний двор, а к щелке другой двери, напротив, любимая прислужница ее тетки, хромая горбунья Акулина Ивановна, по прозвищу Венера, с добрыми глазами на уродливом лице, каждые десять – пятнадцать минут подбегала, чтобы удостовериться, что барышня Фаина Васильевна все еще плачет.
Печаль Фаины так заботила добрую горбунью, что она уже раза два бегала через узкий проход в стене, проделанный из апартаментов императрицы в помещение ее любимой камер-фрейлины, и привычной, осторожной поступью неслышно проникала через обширную комнату, установленную шкафами, в уборную, где в зеркале, отражавшем часть соседней комнаты, можно было видеть то, что происходило у парадного серебряного туалета, убранного драгоценными кружевами за которым императрица принимала придворных дам и кавалеров, в то время как парикмахер-француз убирал ей волосы. В глубине комнаты дежурные фрейлины ожидали на почтительном расстоянии приказаний, которые большею частью передавались им через Марфу Андреевну, стоявшую ближе всех к низкому, обитому пунцовым бархатом, креслу императрицы.
В первый свой приход горбунья тут и застала свою госпожу и, конечно, удалилась, не беспокоя ее, но когда, спустя час, она пришла узнать, почему ее барыня так долго не возвращается в свои комнаты, гардеробщица, вынимавшая платья из шкафов и раскладывавшая их на больших столах, нарочно для того накрытых белыми скатертями, объявила ей, что государыня вышла в зал с фрейлинами и статс-дамами и рассматривает образцы материй, привезенные из Парижа, прямо с фабрик, где их ткут для королевского двора по образцам, составленным знаменитейшими художниками для его величества короля.
– До обеда, значит, будут этим заниматься, – заметил старший гардеробщик, Федор Николаевич, серьезный мужчина средних лет, в придворном кафтане, сидевший за столом перед толстой тетрадью разграфленной бумаги в переплете, в которую он вписывал заметки о нарядах, вынимаемых гардеробщицей из шкафов. – Приказала подать ей список глазетовых роб, – продолжал он, озабоченно сдвигая брови, чтобы лучше рассмотреть пышную юбку, которую распяливала перед ним его помощница, прежде чем разложить ее рядом с прочими на столе. – Вот и эта ни раза не одевана. Сшита в январе семнадцатого дня тысяча семьсот пятидесятого года, из материи, выписанной маркизом Шетарди из французского города Лиона, по случаю траура заменена черной бархатной с жемчужной вышивкой и с тех пор ни раза не вынута из шкафа, – прибавил он, заглядывая в другую книгу и отметив прочитанную справку закладкой. – С этой будет, значит, три робы глазетовые бланжевого цвета, две небесно-голубого, одна верпомовая и три розовые, ни раза не бывшие в употреблении. Но так как украшения на них не такие, как на тех, что получены этой зимой из-за границы, то я нахожусь в сумлении и ничего не могу решить, не переговорив с Марфой Андреевной.
С этими словами Федор Николаевич, так же неторопливо и степенно, как все, что он делал и говорил, поднялся с места, подошел к двери, растворил ее и, подозвав дежурного пажа, приказал сказать госпоже Чарушиной, что ее просят пожаловать в гардеробную.
Это было как нельзя более кстати для горбуньи, которая уже отчаивалась добиться свидания с госпожой. Она скромно отошла к сторонке и решила дождаться тут удобной минуты, чтобы передать своей барыне, что присутствие ее необходимо дома. Но Марфа Андреевна, как вошла, так и заметила ее, и, прежде чем узнать от Федора Николаевича, для чего он за нею посылал, спросила у своей прислужницы:
– А тебя чего нелегкая сюда принесла?
– Фаина Алексеевна к нам пожаловала, – таинственно понижая голос, ответила горбунья.
– Вот как! Пусть подождет. Должна, кажется, знать, что я не по своей воле живу, а на службе при государыне нахожусь.
– Они уже давно ждут, больше часа… плачут… страсть как убиваются, – нашла нужным объяснить горбунья.
– С чего это? – усмехнулась Чарушина. – Ну, да ладно, скажи ей, что сейчас приду, пусть утешится.
Горбунья нашла барышню Фаину Алексеевну уже успокоившеюся и сидевшею у окна, в которое она смотрела на экипажи, один за другим въезжавшие в растворенные чугунные ворота с часовыми по обеим сторонам. Обогнув фонтан, золоченые кареты с высокими гайдуками в богатых ливреях на запятках останавливались пред широким подъездом под навесом, гайдуки соскакивали с запяток, украшенные гербами дверцы растворялись, подножки откидывались, и придворные лакеи помогали приезжим высаживать нарядных дам и девиц. Те, наскоро оправив складки пышных юбок и затейливые прически под миниатюрными шляпками, кокетливо приколотыми к взбитым, напудренным волосам, поднимались по мраморным ступеням в вестибюль.
– Тетенька приказали вам сказать, что они сейчас сюда пожалуют, – заявила горбунья, с участием поглядывая на красное от слез личико девушки.
– Что это она сегодня там так долго? Прием уже начался, – сказала Фаина, указывая на экипажи, наполнявшие один из углов обширного двора. – Апраксина с полчаса как приехала, а Голицына с дочерью успела уже уехать. Какой большой съезд сегодня!
– Каждый день такой. Государыня не любит, когда у нее в апартаментах пусто: всем это известно, вот и ездят. А сегодня еще и новый интерес всех сюда притягивает: приехал комиссионер из Франции с образчиками материй. Остановился в посольстве. Вчера, говорят, весь город у него перебывал; все наши франты и франтихи чуть не на коленах просили его показать им эти образчики, но он, говорят, никому ничего не показал, – так и отъехали с носом. Государыня изволила смеяться, когда ей это рассказали, расспрашивала, кто да кто хлопотал раньше ее величества взглянуть на заграничные диковинки. Теперь, верно, на смех этих любопытных поднимает. А уж как, говорят, хороши материи-то! – продолжала горбунья, считая своим долгом занимать разговором гостью своей госпожи. – Надо так полагать, что императрица все прикажет себе оставить: ничего другим не уступит.
– И куда это ей столько нарядов! – рассеянно и думая о другом, заметила Фаина.
– И не говорите! – подхватила горбунья. – Вот и Федор Николаевич сейчас… Ах, милая барышня, если бы вы видели, какое множество чудных платьев висит в шкафах гардеробной! Есть ни раза не одеванные… А великой княгине надеть нечего! Сущую правду вам говорю, от самой гардеробщицы малого двора[6 - Так называли двор цесаревича Петра Федоровича и его супругу.] знаю. Намеднись жаловалась она мне, что перед каждым балом чехлы у них выворачивают да с одного лифа на другой украшения перешивают, чтобы новыми казались! А у нашей царицы одних парчовых да глазетовых роб сто пятьдесят шесть! А сколько бархатных, атласных, гродетуровых, муаровых – и не перечтешь! И одно другого лучше, – с гордостью прибавила она.
– Не бойтесь, господин! Я – бедный еврей, очень несчастливый человек, от меня вам худа не будет. Я хочу услужить вашему сиятельству. Я – маленький человек и очень-очень бедный; у меня жена и много детей, всех кормить надо, и для этого много, ох, как много надо работать! Я могу вам услужить, ваше сиятельство, я здесь вырос и всех здесь знаю. Меня и господин майор, как честного еврея, знает, – я приношу ему табак из-за границы… чудесный табак, самый лучший, какой король курит, и никогда лишнего не беру. Я немецкую землю знаю лучше русской, – продолжал он, ободренный молчанием своего слушателя и внимательным взглядом, которым тот смотрел на него. – Доверьтесь мне, ваше сиятельство! Скажите, чем я могу вам помочь?
У Углова в уме мутилось от новых соображений. Как утопающий хватается за соломинку, чтобы спастись, так и он хватался за решения, одно несообразнее другого, но он отбрасывал их по мере того, как они возникали в его уме. Таким образом остановился он не долее секунды на мысли доверить этому еврею письмо цесаревны и отогнал от себя прочь намерение дать ему денег, чтобы тот поскакал с этим письмом к князю Барскому. Однако, когда новый его знакомец упомянул про свои связи за границей, Углов, задыхаясь от волнения и со сверкающими радостью глазами, спросил:
– Ты можешь помочь мне перейти границу?
– Могу, господин, – поспешно закивала голова, смотревшая на него с подоконника снизу вверх.
– Ну, так действуй! Времени осталось немного, нам каждую минуту могут помешать. Мне надо быть за границей, когда они отужинают.
– Будете раньше, господин.
– Получишь за это десять червонцев, – продолжал Углов, но, заметив разочарование, выразившееся на лице еврея, поспешил прибавить, вынимая из кошелька означенную сумму и раскладывая ее на подоконнике: – Это сейчас, а когда доставишь меня до надежного места, я дам тебе еще столько же. Больше не могу, у меня в кошельке всего двадцать два червонца.
Молодой человек говорил правду; все его богатство состояло из двадцати двух червонцев, – но ему казалось, что лучше оставаться на свободе без денег, чем быть привезенным под конвоем, как государственный преступник, в Петербург, чтобы быть заключенным в крепости, хотя бы с двадцатью двумя червонцами в кармане.
– Решайся скорее! – прибавил он, задыхаясь от волнения. – Больше мне дать тебе нечего.
– Сейчас принесу вашему сиятельству переодеться…
– Как это переодеться?
– Ну да! Разве возможно проводить ваше сиятельство через границу иначе, как под видом нашего брата, еврея? Вы наденете платье моего племянника Шмуля, который одного с вами роста и сложения, и я скажу солдатам, что мы идем в город за бочонком вина, выписанным для господина майора. Они часто нас пропускают, потому что им известно, что господин майор всегда обращается к Боруху, когда ему нужно заграничное вино, – прибавил еврей с гордостью.
В то же время он косился взглядом на деньги, сверкавшие на облитом лунным блеском подоконнике так близко от него, что стоило бы только протянуть руку, чтобы ими овладеть. Но у Углова был строгий и решительный вид, а на поясе у него висел такой длинный и, без сомнения, острый кинжал, что если бы даже эта мысль и пришла еврею в голову, то он немедленно отказался бы от нее, как от опасного сумасбродства.
– Ну, действуй скорее! – согласился после минутного колебания Углов, которому этот маскарад далеко не улыбался.
– О, я сейчас! – ответил Борух, соскакивая на землю и со всех ног пускаясь бежать.
Когда он исчез за деревьями аллеи, по которой Углов некоторое время мог следить за его быстро удалявшейся фигурой, согнутой в три погибели, чтобы незаметнее сливаться с кустами, Владимир Борисович снова впал в отчаяние. Не вернется этот новый покровитель вовремя, чтобы спасти его! Эта встреча – не что иное, как новое поддразнивание судьбы, чтобы опять ввергнуть его в бездну уныния.
Опять начал он прохаживаться взад и вперед по комнате, ероша себе волосы и моля Бога, чтобы Борисовский не нагрянул до тех пор, пока его спаситель вернется с платьем племянника.
IV
В одной из комнат Летнего дворца, обычного местопребывания императрицы Елизаветы Петровны, лежала на диване, уткнувшись лицом в подушку, молодая девушка и горько плакала.
Она была красиво и нарядно одета в модный костюм, называвшийся французским и состоявший из юбки светлой шелковой материи на фижмах, длинного корсажа на костях, низко вырезанного на груди, прикрытой прозрачной косынкой, с пышными рукавами, доходившими до локтя, и из зеленых башмаков на высоких каблуках. На маленькой, грациозной головке девушки возвышалась такая причудливая и высокая прическа, что она, роста немного ниже среднего, казалась высокой и занимала диван во всю его длину: ее стройные ножки упирались в одну из бронзовых химер, увивавших ручки дивана, а напудренные локоны доходили до другой.
Окна комнаты выходили на внутренний двор, обсаженный деревьями, с клумбами цветов посреди, а обстановка ее представляла собою странную смесь роскоши с простотой, доходившей до грубого убожества. К столу из белого мрамора на вызолоченных ножках приставлен был стул из простого дерева, плохо выкрашенного в красную краску; рядом вычурными креслами заграничной работы, с остатками пожелтевшей от времени обивки из белого атласа, стоял поставец в византийском вкусе, уставленный сборными штучками; рядом с пастушкой из севрского фарфора нагло выпячивался безобразный глиняный утенок-свистулька и красовалась расписная деревянная чашка, из-за которой выглядывало одним краешком гнездышко с птичками художественной работы из слоновой кости.
За исключением потолка, расписанного искусным художником, до амуров и богинь которого никакая дерзновенная рука не могла достичь, – так он был высок, все здесь было искалечено временем и отсутствием вкуса. По стенам, обитым вылинявшим штофом некогда малинового цвета, висели в неуклюжих рамах портреты безобразных людей в пестрых одеяниях, с деревянными безжизненными лицами, а над диваном из овальной облупившейся золоченой рамки выглядывало, как живое, прелестное личико с большими синими глазами, оттененными такими темными ресницами, что эти глаза должны были казаться, при известном освещении, совсем черными.
По этим глазам да по улыбке можно было узнать в этом ребенке императрицу Елизавету, сохранившую до преклонных лет то обаятельное выражение во взгляде и в улыбке, которое у нее было в детстве.
Дальше, под наивной лубочной картиной, изображавшей святых, на целую голову выше окружавших их домов и деревьев, с руками воздетыми кверху и достигавшими до лиловых облаков на ярком синем небе, скромно пряталась в потертой деревянной раме копия с Мадонны Мурильо, а еще дальше, в красном углу, между дверью и крайним окном, возвышался массивный киот со множеством образов, перед которыми горела лампада, распространявшая довольно-таки неприятный запах.
У следующего окна находился небольшой стол с рукодельем хозяйки этого жилища, Марфы Андреевны Чарушиной, любимой камер-фрейлины государыни, – начатым чулком из толстой грубой серой шерсти, в простом берестовом лукошке, как те, с которыми деревенские бабы ходят в лес по грибы. К этому столу был придвинут такой же грубый стул с вытертой деревянной спинкой. Сиденье этого стула было снабжено кожаной подушкой, такой жесткой, что трудно было понять, какого рода удобство она представляет хозяйке.
Но эта подушка имела свою историю, которую Марфа Андреевна рассказывала так:
– Тоже затея царицы. Пристала: «Зачем на таком негожем стуле сидишь, когда я тебе так много дорогой мебели пожаловала? Люди могут подумать, что я своих старых слуг не берегу». И как ни уверяла я ее, что на этом стульце и батюшка мой покойный, и дед – царство ему небесное! – сиживал, ничего в толк не пожелала взять и приказала Венерке хоть от собаки подушку взять да на стул этот положить. Это она на смех сказала про собачью подушку и в тот же день вот этого идола из собственных покоев приказала ко мне принести, – продолжала старуха, указывая на покойное кресло с разными приспособлениями для удобства, скамеечкой для ног, откидным столиком и т. п., стоявшим без употребления в темном углу. – Ну, да ведь и я упряма: за милость, как следует, поблагодарила и ручку поцеловала, а чтобы сесть в это чудище заморское, ни раза не села. И как придумала царица, чтобы мне для спокойствия на собачьей подушке сидеть, так и сижу до сих пор, вот уже шестой год. И до самой смерти просижу, – исполню ее приказ. Царица ведь! Не очень-то с нею, как бывало прежде, станешь спорить да браниться, – прибавляла она с усмешкой, отражавшейся лукавым блеском в ее умных глазах.
Сама Марфа Андреевна всей своей оригинальной фигурой, нравом и умом так подходила к помещению, которое она занимала во дворце, что невозможно было представить ее в другой обстановке, а еще менее эту обстановку без нее. На всем, что окружало эту женщину, равно как и на каждом ее движении и слове, лежал своеобразный отпечаток, и стоило только пробыть здесь, в ее обществе, и послушать ее остроумную речь, чтобы понять, сколько ловкости и душевной гибкости, проницательности и поистине замечательной сообразительности кроется под грубоватой и простоватой наружностью этой женщины, и перестать удивляться безграничному доверию и неизменной привязанности, которые к ней питала царица.
Для тех немногих, которые знали Марфу Андреевну не такой, какой она казалась всем, а такой, какой она была на самом деле, было понятно, что племянница ее, Чарушина, находила отраду и утешение только во дворце у тетки, с тех пор как ее постигло горе, в котором она никому из домашних не осмелилась бы сознаться.
Но в тот день Фаина слишком рано приехала к тетеньке: та была у государыни, которая никогда не поднималась с постели без нее и не начинала дня, не поговоривши с нею о делах.
Это было всем известно, и так как решения императрицы приписывали во многих случаях Чарушиной, то у нее было много врагов, и по городу ходили легенды о ее коварстве и пагубном влиянии на государыню. Говорили также про ее грубость и невежество, удивляясь влиянию такой невоспитанной особы, не умевшей даже читать и писать, на остроумную и просвещенную дочь великого Петра; приписывали ей даже и размолвки, возобновлявшиеся в последнее время все чаще и чаще, между членами царской семьи.
Марфу Андреевну в этот день особенно долго задержали у государыни. Посидев несколько времени одна со своими думами, Фаина так расстроилась, что, сама не понимая, как это случилось, бросилась на диван, зарылась лицом в подушку и дала волю душившим ее слезам.
Никто ей не мешал, но она, может быть, воздержалась бы от рыданий и вздохов, если бы догадалась, что есть свидетели ее печали. Из двери в коридор уже раза два выглядывал на нее уродливый карлик в красивой, расшитой галунами, красной куртке, чтобы делиться наблюдениями с высоким негром, тоже в красной ливрее, скалившим белые зубы перед окном, открытым на внутренний двор, а к щелке другой двери, напротив, любимая прислужница ее тетки, хромая горбунья Акулина Ивановна, по прозвищу Венера, с добрыми глазами на уродливом лице, каждые десять – пятнадцать минут подбегала, чтобы удостовериться, что барышня Фаина Васильевна все еще плачет.
Печаль Фаины так заботила добрую горбунью, что она уже раза два бегала через узкий проход в стене, проделанный из апартаментов императрицы в помещение ее любимой камер-фрейлины, и привычной, осторожной поступью неслышно проникала через обширную комнату, установленную шкафами, в уборную, где в зеркале, отражавшем часть соседней комнаты, можно было видеть то, что происходило у парадного серебряного туалета, убранного драгоценными кружевами за которым императрица принимала придворных дам и кавалеров, в то время как парикмахер-француз убирал ей волосы. В глубине комнаты дежурные фрейлины ожидали на почтительном расстоянии приказаний, которые большею частью передавались им через Марфу Андреевну, стоявшую ближе всех к низкому, обитому пунцовым бархатом, креслу императрицы.
В первый свой приход горбунья тут и застала свою госпожу и, конечно, удалилась, не беспокоя ее, но когда, спустя час, она пришла узнать, почему ее барыня так долго не возвращается в свои комнаты, гардеробщица, вынимавшая платья из шкафов и раскладывавшая их на больших столах, нарочно для того накрытых белыми скатертями, объявила ей, что государыня вышла в зал с фрейлинами и статс-дамами и рассматривает образцы материй, привезенные из Парижа, прямо с фабрик, где их ткут для королевского двора по образцам, составленным знаменитейшими художниками для его величества короля.
– До обеда, значит, будут этим заниматься, – заметил старший гардеробщик, Федор Николаевич, серьезный мужчина средних лет, в придворном кафтане, сидевший за столом перед толстой тетрадью разграфленной бумаги в переплете, в которую он вписывал заметки о нарядах, вынимаемых гардеробщицей из шкафов. – Приказала подать ей список глазетовых роб, – продолжал он, озабоченно сдвигая брови, чтобы лучше рассмотреть пышную юбку, которую распяливала перед ним его помощница, прежде чем разложить ее рядом с прочими на столе. – Вот и эта ни раза не одевана. Сшита в январе семнадцатого дня тысяча семьсот пятидесятого года, из материи, выписанной маркизом Шетарди из французского города Лиона, по случаю траура заменена черной бархатной с жемчужной вышивкой и с тех пор ни раза не вынута из шкафа, – прибавил он, заглядывая в другую книгу и отметив прочитанную справку закладкой. – С этой будет, значит, три робы глазетовые бланжевого цвета, две небесно-голубого, одна верпомовая и три розовые, ни раза не бывшие в употреблении. Но так как украшения на них не такие, как на тех, что получены этой зимой из-за границы, то я нахожусь в сумлении и ничего не могу решить, не переговорив с Марфой Андреевной.
С этими словами Федор Николаевич, так же неторопливо и степенно, как все, что он делал и говорил, поднялся с места, подошел к двери, растворил ее и, подозвав дежурного пажа, приказал сказать госпоже Чарушиной, что ее просят пожаловать в гардеробную.
Это было как нельзя более кстати для горбуньи, которая уже отчаивалась добиться свидания с госпожой. Она скромно отошла к сторонке и решила дождаться тут удобной минуты, чтобы передать своей барыне, что присутствие ее необходимо дома. Но Марфа Андреевна, как вошла, так и заметила ее, и, прежде чем узнать от Федора Николаевича, для чего он за нею посылал, спросила у своей прислужницы:
– А тебя чего нелегкая сюда принесла?
– Фаина Алексеевна к нам пожаловала, – таинственно понижая голос, ответила горбунья.
– Вот как! Пусть подождет. Должна, кажется, знать, что я не по своей воле живу, а на службе при государыне нахожусь.
– Они уже давно ждут, больше часа… плачут… страсть как убиваются, – нашла нужным объяснить горбунья.
– С чего это? – усмехнулась Чарушина. – Ну, да ладно, скажи ей, что сейчас приду, пусть утешится.
Горбунья нашла барышню Фаину Алексеевну уже успокоившеюся и сидевшею у окна, в которое она смотрела на экипажи, один за другим въезжавшие в растворенные чугунные ворота с часовыми по обеим сторонам. Обогнув фонтан, золоченые кареты с высокими гайдуками в богатых ливреях на запятках останавливались пред широким подъездом под навесом, гайдуки соскакивали с запяток, украшенные гербами дверцы растворялись, подножки откидывались, и придворные лакеи помогали приезжим высаживать нарядных дам и девиц. Те, наскоро оправив складки пышных юбок и затейливые прически под миниатюрными шляпками, кокетливо приколотыми к взбитым, напудренным волосам, поднимались по мраморным ступеням в вестибюль.
– Тетенька приказали вам сказать, что они сейчас сюда пожалуют, – заявила горбунья, с участием поглядывая на красное от слез личико девушки.
– Что это она сегодня там так долго? Прием уже начался, – сказала Фаина, указывая на экипажи, наполнявшие один из углов обширного двора. – Апраксина с полчаса как приехала, а Голицына с дочерью успела уже уехать. Какой большой съезд сегодня!
– Каждый день такой. Государыня не любит, когда у нее в апартаментах пусто: всем это известно, вот и ездят. А сегодня еще и новый интерес всех сюда притягивает: приехал комиссионер из Франции с образчиками материй. Остановился в посольстве. Вчера, говорят, весь город у него перебывал; все наши франты и франтихи чуть не на коленах просили его показать им эти образчики, но он, говорят, никому ничего не показал, – так и отъехали с носом. Государыня изволила смеяться, когда ей это рассказали, расспрашивала, кто да кто хлопотал раньше ее величества взглянуть на заграничные диковинки. Теперь, верно, на смех этих любопытных поднимает. А уж как, говорят, хороши материи-то! – продолжала горбунья, считая своим долгом занимать разговором гостью своей госпожи. – Надо так полагать, что императрица все прикажет себе оставить: ничего другим не уступит.
– И куда это ей столько нарядов! – рассеянно и думая о другом, заметила Фаина.
– И не говорите! – подхватила горбунья. – Вот и Федор Николаевич сейчас… Ах, милая барышня, если бы вы видели, какое множество чудных платьев висит в шкафах гардеробной! Есть ни раза не одеванные… А великой княгине надеть нечего! Сущую правду вам говорю, от самой гардеробщицы малого двора[6 - Так называли двор цесаревича Петра Федоровича и его супругу.] знаю. Намеднись жаловалась она мне, что перед каждым балом чехлы у них выворачивают да с одного лифа на другой украшения перешивают, чтобы новыми казались! А у нашей царицы одних парчовых да глазетовых роб сто пятьдесят шесть! А сколько бархатных, атласных, гродетуровых, муаровых – и не перечтешь! И одно другого лучше, – с гордостью прибавила она.