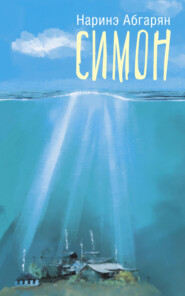По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
С неба упали три яблока
Автор
Год написания книги
2014
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Спустя еще семь тяжелых лет война отступила, забрав с собой молодое поколение. Одни погибли, другие, чтобы спасти семьи, уехали в спокойные и благополучные края. К тому времени, когда Анатолии исполнилось пятьдесят восемь, в Маране остались только старики, не пожелавшие покидать землю, где покоились их предки. Будучи самой молодой жительницей деревни, Анатолия ничем внешне не отличалась от той же Ясаман, которой в дочери годилась. Ходила, как и остальные старушки, в шерстяных длинных платьях, повязывала передник, убирала волосы под косынку, которую затягивала причудливым узлом на затылке. На глухо застегнутом вороте носила неизменную камею – единственное украшение, которое осталось от матери. Надежды на то, что жизнь когда-нибудь изменится к лучшему, никто из маранцев не лелеял. Деревня кротко и приговоренно доживала свои последние годы, и Анатолия – вместе с ней.
За окном разлилась южная ночь, водила по подоконнику робкими лунными лучами, рассказывала нежным сверчковым стрекотом о сновидениях, что грезились миру. Анатолия лежала на подушках, прижав к груди альбом с фотографиями родных, – и плакала.
Глава 2
Шалваранц Ованес, нещадно гремя вилкой, взбивал в пышную пену гоголь-моголь. Каждое утро, независимо от времени года, обстоятельств и даже состояния здоровья, он завтракал любимым лакомством, а потом заваривал себе крепкого чая с чабрецом, скручивал самокрутку и с наслаждением выкуривал ее, наблюдая, как вьется над толстобокой чашкой ароматный горячий пар.
Бумагу для самокруток приходилось экономить. Раньше такого не случалось – чего-чего, а бестолковой прессы в долине было хоть отбавляй. Почтовый фургон, натужно фырча, пять раз в неделю колесил вверх по склону Маниш-кара, привозя целые стопки влажно пахнущих типографской краской газет. Ованес честно просматривал каждую страницу. Заголовки все как один были громкими, а содержание – пустым, и это укрепляло его во мнении, что любое напечатанное слово по сравнению с произнесенным – пшик.
– Лучше сто раз подумать, а потом один раз сказать, чем бездумно тиражировать всякую ерунду, – брюзжал Ованес, раздраженно шурша страницами газет.
– Может, они сто раз подумали, перед тем как напечатать? – возражала Ясаман.
– Если бы они сто раз думали над каждым словом, то газеты выходили бы в лучшем случае раз в месяц. Разве можно за один день столько страниц умного придумать?
– Нельзя.
– Вот и я о том!
Впрочем, пустой по содержанию газетный лист на вкусовые качества табака не влиял, поэтому Ованес продолжал исправно выписывать прессу. К сожалению, с началом войны почтовый фургон все реже поднимался по склону Маниш-кара, а потом и вовсе перестал – в долине случались большие перебои с поставкой топлива, и его оставляли на самые крайние и насущные нужды.
С отменой почтовых поставок начались проблемы с бумагой. Выкручивались, как могли. Сначала в ход пошли старые газеты, потом – испорченные книги, которые доведенная до отчаяния Севоянц Анатолия однажды свалила кучей за забором библиотеки. Старики молча разобрали заплесневелые, пахнущие сыростью и тоскливым молчанием томики Шекспира, Чехова, Достоевского, Фолкнера, Бальзака. Из толстенных книжных обложек сделали подставки под горячую посуду, а испорченные страницы пустили на растопку и прочие хозяйственные нужды. Самокрутки из такой бумаги отдавали горечью, чадили и постоянно гасли. Шалваранц Ованес щурился и чертыхался, поминутно прикуривая от тлеющей головешки, которую приходилось каждый раз, обжигаясь, извлекать из дровяной печи, – спичек в деревне тоже не хватало, поэтому пользовались ими крайне осмотрительно.
Война, восемь невыносимо долгих лет собиравшая по миру урожай неприкаянных душ, однажды захлебнулась – и отступила, подвывая и прихрамывая, зализывая кровящие лапы. Топлива, как прежде, не хватало, но жизнь понемногу стала налаживаться, со скрипом возвращаясь на круги своя. Только Марана эти перемены почему-то не касались – никто не вспоминал о деревне и даже не намеревался. Единственной приезжающей в деревню машиной осталась карета скорой помощи, чтобы дозвониться до которой, приходилось отправлять с телеграфа молнию, потому что другой связи с внешним миром у Марана не было. Видно, в долине давно уже махнули рукой на горстку упрямых стариков, отказавшихся в свое время спускаться с макушки Маниш-кара в низины.
Теперь с бумагой выручал почтальон Мамикон. Раз в две недели (если не было писем – а письма случались крайне редко) он приносил в своей наплечной сумке стопки никому не нужных рекламных листовок, которыми была наводнена долина, и оставлял их на почте. Телеграфистка Сатеник разбивала листовки на двадцать три равные части – по количеству обитаемых домов в деревне – и оставляла на стойке, возле окошка. К вечеру бумагу разбирали.
Перед тем как завернуть в рекламу очередную порцию табака, Ованес внимательно изучал листовку. Судя по содержанию, умных мыслей у жителей долины не прибавилось, и даже совсем наоборот. Потому что, опять же судя по содержанию этих листовок, они теперь занимались только тем, что ходили к ведьмам – заговаривать любовь, брали в долг у банков деньги – на покупку ненужного хлама и стригли домашних питомцев в дорогущих парикмахерских для животных.
– Если Бог хочет наказать человека, первым делом отбирает у него ум, – качал головой Ованес, затягиваясь горьким табачным дымом.
Табак он выращивал сам, на заброшенном участке земли, который когда-то принадлежал его брату. Брат давно умер, дети разъехались по миру, а оставшийся без людской заботы огород быстро зарос бурьяном и мятликом. Вот Ованес и решил засадить его табаком – и земле хорошо, и, на радость Ясаман, освободит под картошку часть своего огорода. Под сушку определил веранду – прибил с обоих концов шиферные гвозди, загнул головки так, чтобы получились крюки. По мере созревания собирал табачный лист – обязательно с вечера, чтоб в растении было как можно меньше влаги, – нанизывал с помощью стальной иглы на шнуры, натягивал на переносные рамы, уносил потомиться в угловой темной комнате дома. Потом выносил рамы на солнечную веранду, натягивал шнуры с пожелтевшими листьями на крюки и оставлял до полного высыхания.
Табак получался отменный – ароматный, мягкий, в меру горчащий. В субботний день, когда на деревенском мейдане собирался небольшой базар, Ованес укладывал в плетеную корзину сухие табачные листья, брал с собой нарды – и уходил торговать. Рядом чинно вышагивала Ясаман – маленькая, шустренькая, в нарядной косынке и шелковом фартуке на выход. Фартук этот она повязывала строго по церковным праздникам и в субботу-воскресенье. В субботу – на мейдан, в воскресенье – в часовню, на редкие, раз в месяц, утрени, которые служил приходящий священник тер Азария.
По субботам, если позволяла погода, на мейдане собиралось все население деревни. Каждый приносил свои продукты – сезонные овощи-фрукты-зелень, сыр, масло, творог и сметану, вяленое мясо в специях, ветчину, нехитрую выпечку. Деньгами редко когда пользовались, практиковали прямой обмен. За десяток куриных яиц можно было получить нож, пара трехов[10 - Крестьянская обувь.] обменивалась на грванкан[11 - Единица измерения: 1 грвакан – 408 граммов.] овечьей брынзы или три четверти грванкана козьей, кувшин топленого масла – на два кувшина цветочного меда, четыре грванкана овечьей брынзы – на шерсть с одной овцы.
Раньше, когда хозяйства были большие, и жилых дворов в деревне насчитывалось полтысячи, на мейдане было не протолкнуться. Прилавки ломились от всевозможных яств, молочный ряд сменял фруктовый, а гомон стоял такой – хоть уши затыкай. На задворках площади, сразу за овощными рядами, располагался скотный двор, где царили свои, заведенные далекими предками маранцев строгие правила обмена. За корову там отдавали лошадь, годовалого мози[12 - Бычок.] меняли на двух овец, за свинью можно было получить овцу и барана, за нетель – три козы, а за телившуюся корову – вола.
К базарному дню длинной вереницей вверх по склону Маниш-кара тянулись кибитки цыган – они разбивали свои разноцветные шатры за чертой деревни, приходили на мейдан шумной переливчатой толпой, безудержно торговались, обязательно норовили стянуть что-нибудь, но, пойманные за руку, со смехом расплачивались золотыми монетами, а потом разбредались по дворам – гадать на картах и выпрашивать ненужное старье. К вечеру, покончив с торговлей, цыгане уезжали, оставляя за собой дымный запах костров и далекое эхо бренчащих гитар.
К большим праздникам приезжал цирк на колесах, взрывал воздух призывным зовом зурны, натягивал над мейданом трос, запускал в воздух канатоходцев – те балансировали на такой высоте, что дух захватывало, а потом, отбросив в сторону шесты, крутили сальто, каждый раз безошибочно приземляясь узкими ступнями на верткий, норовящий выскользнуть из-под ног канат.
Внизу, расстелив в пыли линялые коврики, сидели темноликие желтоглазые заклинатели и дудели в свои тростниковые пунги, извлекая из них протяжные, завораживающие звуки. Наводя на зрителей священный ужас, качались в однообразном танце околдованные змеи, а вокруг, подметая базарную шелуху длинными юбками, бродили продавщицы восточных сластей, предлагая купить финики и пирожные с диковинным для этих широт сум аховым орехом.
Но то было в оны дни, давно и неправда, а теперь, забытая всеми и навсегда, деревня неприкаянно болталась, словно пустое коромысло, на плече Маниш-кара. Мейдан скукожился до размеров наперстка – несколько бедных прилавков да мерный стук игральных костей, день проходил в праздных разговорах и воспоминаниях, а к вечеру старики разбредались по домам, так ничего и не продав, каждый уносил свой товар – смысл менять шило на мыло, когда продукты у всех одинаковые. В наваре оставались только Кудаманц Василий и Шалваранц Ованес, у первого можно было наточить затупившийся садовый инвентарь или же выменять его с доплатой на новый, а у второго набить кисет табаком.
Кроме субботнего базара, можно было отовариться в лавке Немецанц Мукуча. Мукуч два раза в неделю запрягал телегу и отправлялся в долину, откуда привозил всего понемногу – сахар, соль, рис, фасоль, спички, мыло, рыбные консервы, кое-что из одежды, обувь – обязательно на заказ, с договоренностью вернуть, если не подойдет по размеру. Особенно выручал с аптечным товаром – бинты, вата, йод, зеленка-марганцовка.
Болезни в деревне лечили снадобьями и отварами, которые готовила Шлапканц Ясаман. К обычным лекарствам старики относилась настороженно и с явным неодобрением.
Возилась со своими отварами Ясаман каждый день, строго по утрам – до восхода солнца или же обязательно после заката. Пока жена заваривала в пристройке к погребу лечебные травы, Ованес взбивал два желтка с несколькими столовыми ложками сахарного песка в густую пену, заваривал крепкого чаю, а потом курил в распахнутое кухонное окно, рассматривая запутавшиеся в ветвях шелковицы бледные лоскутки прозрачного неба.
– Охай! – сопровождал он каждый глоток чая довольным возгласом.
Потом высовывался по пояс в окно и звал жену:
– Шлапканц! Ай Шлапканц! Слышишь, что я тебе говорю? Шлапканц Ясаман!
– Чего тебе, Шалваранц Ованес! – откликалась раздраженно Ясаман.
Ованес смеялся.
Они были самой забавной в деревне парой. Шлапканц, то бишь из рода Шлапки[13 - Шляпа (искаж.).], Ясаман и Шалваранц – из рода Шалвара[14 - Шалвар – брюки.] – Ованес.
Каждый род Марана имел свое прозвище. Чаще всего оно было смешным и забавным, иногда – ироничным, но изредка – очень обидным. Зависело название рода от того, каким делами – добрыми или недостойными – отличился человек, прозвище которого впоследствии переходило и на его потомков.
Прадед Ясаман, например, по молодости часто гостил у своего двоюродного брата, ведущего артиста одного из академических театров долины. Двоюродный брат водил его на спектакли, знакомил со светской жизнью, учил одеваться. Однажды прадед вернулся из долины в невиданном, можно сказать – вызывающем, на взгляд жителей Марана, головном уборе. На расспросы, что это такое он напялил, прадед с вызовом отвечал: «Шлапку!» За это его прозвали Шлапкой, а его потомков – Шлапканц.
Что касаемо клички рода Шалваранц, тут была совсем другая история. Дед Ованеса собрался на мировую войну, как на праздник, – закрутил усы, надвинул на лоб папаху, обмотался крест-накрест патронташем, надел новые, дорогущие брюки. Правда, до своего полка он так и не доехал, попал под обстрел. Шальным осколком ему изуродовало ногу ниже колена, рана оказалась настолько серьезной, что пришлось ампутировать часть ступни, а по окончании лечения демобилизовать его домой. В лазарете дед Ованеса почему-то убивался не по покалеченной ноге, а по новым брюкам, которые пришлось выкинуть.
– Шалварс, шалварс, – жаловался он сестрам милосердия и докторам. За что и был прозван Шалваром, а все его потомки стали Шалваранц.
В деревне шутили, что Ясаман и Ованес дополняют друг друга, как предметы гардероба.
Ованес очень любил посмеиваться над женой и часто называл ее не по имени, а просто Шлапканц. Ясаман, конечно же, в долгу не оставалась и тут же припоминала мужу историю его непутевого деда, который умудрился остаться инвалидом не провоевав ни одной минуты.
Both сегодня, обменявшись с женой дежурными любезностями, Ованес докурил самокрутку и собирался уже отойти от окна, как вдруг хлопнула калитка. Он вытянул шею, выглядывая раннего гостя. К дому, взвалив на плечо косу, шел кузнец Василий – высокий, крепкий мужик с большими, цвета погасшего пепла глазами и густыми кустистыми бровями. Выглядел он много моложе своих шестидесяти семи лет: подтянутый, седой, с могучими плечами и огромными необоримыми кулачищами – однажды, еще в годы молодости, он умудрился даже на спор убить быка Немецанц Мукуча. Пришлось потом Мукучу, чертыхаясь, пустить мясо животного на кавурму, спросить с Василия денег не хватило смелости, да и смысл спрашивать, когда сам, дурак безмозглый, полез спорить и с пеной у рта доказывать, что ударом кулака быка не свалить.
– Хочешь покажу? – усмехнулся Василий.
– Хочу!
Василий снял жилетку, закатал выше локтя рукава архалука, прошел под навес, где, крепко привязанный к вбитому в землю штырю, фырчал и мотал лобастой башкой огромный иссиня-черный бык.
– Не пожалеешь? – зашушукались за спиной Мукуча односельчане.
Тот вместо ответа пренебрежительно хмыкнул. Василий еще раз усмехнулся, занес над быком кулак – и свалил его точным ударом в затылок. После того случая никто из деревенских мужиков на кулачные бои с ним не нарывался, да и спорить не лез. Немногословный, всегда тихий – пока не спросишь, не заговорит, – Василий был из той породы мужчин, которые умели одним своим упертым видом вызвать непререкаемое уважение людей.
– С бровей аж захрмар[15 - Змеиный яд (перс.).] капает! – почтительно цокая языком, говорили о таких маранцы.
Василий, будучи от природы скромным человеком, уважительное отношение односельчан воспринимал с иронией, но виду не подавал. Был угрюм, иногда даже груб и несговорчив, но клиентов его напускная неотесанность не пугала – кузнецом он слыл знатным, да и человеком совестливым, если у покупателя не было возможности расплатиться, соглашался ждать, сколько потребуется. В должниках у него ходила вся деревня, но никому о деньгах он не напоминал. После войны его кузница простаивала, работы было ничтожно мало, но он не роптал, «как все, так и мы», – отвечал на вечные жалобы жены на нехватку средств, чем неизменно выводил ее из себя. Якуличанц Магтахинэ, с которой Василий прожил почти полвека, была женщиной аккуратной и работящей, но чрезмерно говорливой, разойдясь, могла сыпать словами бесконечно, делая секундные паузы лишь для того, чтобы набрать побольше воздуха в легкие, Василий терпел-терпел, потом брал ее за локоть, отводил в дальнюю комнату и запирал на засов.
– Как выговоришься, дай знать!
Распаленная беспардонным отношением мужа, Магтахинэ принималась громко, так, чтобы слышно было, в первую очередь, ему, жаловаться на свою никчемную судьбу, на отца с матерью, которые, чтобы отделаться от нее, выдали замуж за этого неотесанного чурбана, хотя остальных своих дочерей они устроили в приличные семьи, особенно младшую, любимицу Шушаник, ей, кстати, собрали самое богатое приданое – три ковра, два сундука с бельем, участок плодоносной земли, три коровы, свиноматку и двадцать несушек и золота столько, что если бы она навесила его разом, то переломила бы свой жалкий хребет, а Магтахинэ выделили на приданое в два раза меньше всего, и украшений не золотых, а серебряных, но время все расставило по своим местам, остальные дети, не иначе как в наказание за несправедливое отношение родителей к Магтахинэ, покинули мир первыми, старшие сестры не пережили голода, единственный брат погиб от удара молнии, а любимица Шушаник вообще умерла от тяжелого приступа сердечной жабы, захлебнувшись рвотой, так что пришлось родителям до конца своих дней надеяться на Магтахинэ, и она, конечно же, не подвела, всегда была рядом, преданная и любящая, ухаживала и оберегала, выносила за отцом, когда у него совсем отнялись ноги, горшок, прикладывала горячие уксусные компрессы к пяткам матери, чтобы унять бесконечные приступы мигрени, участившиеся после того, как покинула бренный мир Шушаник, но потом умерли отец с матерью, отец ушел первым, в день шестидесятилетия дочери, и теперь каждый свои день рождения она проводит на кладбище, ухаживая за его могилой, а следом за отцом ушла мать, предварительно вымотав дочери последние нервы, потому что к концу жизни она умудрилась безвозвратно двинуться головой, ходила под себя, а потом разрисовывала этим добром стены и полы, пришлось запереть ее в комнате, чтобы она не распространяла свои художества по всему дому, когда она умерла, Магтахинэ собственноручно снимала штукатурку, чтобы заново отремонтировать комнату, и росписи на этих несчастных четырех стенах было немало, кишечник у покойной, в отличие от мозгов, работал исправно и безотказно, ну еще бы, испражняться – не головой думать, но теперь, когда все родные умерли, она осталась совсем одна, если не считать мужа-чурбана, с которым даже двумя словами не перекинешься, раньше с матерью можно было через запертую дверь поговорить, она хоть и выжила из ума, но умела поддержать разговор, ты ей одно, она тебе другое и невпопад, но хоть какое-то живое общение и участие, и за что ей выпала такая горькая планида, быть недолюбленной всеми и уйти нелюбимой, как та старая собака, которую и пристрелить жалко, и кормить не с руки, все равно ведь подохнет!
Немного отведя душу, Магтахинэ, кряхтя, вылезала в окно и, сыпля проклятиями, осторожно нащупывая каждую ступеньку подошвой изношенной туфли, спускалась по деревянной лестнице, которую всегда держала под подоконником комнаты, где ее запирал муж. Василий к тому времени сидел в кузне, коротая праздный день, и, попыхивая трубкой, вспоминал годы, когда работы было столько, что спины не разогнуть, а загруженная домашними хлопотами жена была тиха и кротка, как снежная ночь.