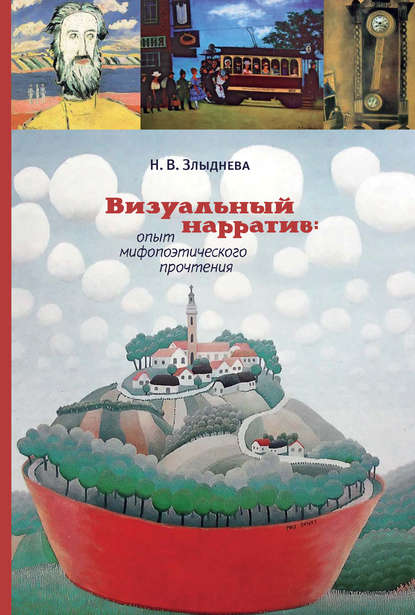По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
19. М. Ларионов. Лето. Из цикла «Времена года». 1912
20. М. Ларионов. Осень. Из цикла «Времена года». 1912
Этот цикл состоит из четырех полотен: «Зима», «Весна», «Лето» и «Осень», в настоящее время хранящихся в разных собраниях – в ГТГ («Зима» и «Весна»), в Центре Жоржа Помпиду в Париже («Осень») и в частной коллекции («Лето») [илл. 17–20]. Произведение традиционно относят к примитивистской стадии творчества художника, справедливо указывая на стилистическую связь этой живописи с лубком, вывеской, с искусством Гогена, восточным примитивом и детским рисунком [Поспелов, Илюхина 2005]. Отмечается и эпатирующий характер изображений, соответствующий типу поведения ранних авангардистов и особенно Малевича, для которых шокировать буржуазную публику в эти годы составляло часть художественной программы. Так, в рамках эпатирующей стратегии вводилась стилистика «заборных» рисунков и надписей. Дурашливо-смешная, раёшная живопись выполняла роль художественного жеста. Между тем, от внимания исследователей практически ушел вопрос о том, почему Ларионов, этот живописец от Бога, прекрасный колорист, обратился к жесткой структурной схеме, которой проникнуты композиция и семантика этих произведений. Ведь это единственное произведение со столь определенно выраженной дискретностью у мастера, и потому может быть расценено как своего рода изобразительный манифест. Конечно, Ларионов создавал и письменные тексты. В 1913 году он публикует брошюру «Лучизм», а также манифест «Лучисты и будущники». Однако в целом к словесным автокомментариям этот художник, в отличие от Кандинского, Филонова или Малевича был не склонен. Следует напомнить, что во время, когда создавался рассматриваемый цикл, происходил отход Ларионова от объединения «Бубновый валет», нацеленного на разрушение основы миметической традиции, но не порывающей с нею полностью, и создание им другого объединения – «Ослиный хвост», постулирующего существенно более радикальные художественные принципы.
21. Календарь сапотеков времени доколумбовой Мексики.
Объединенный общей тематикой отдельных картин, построенных к тому же по единой композиционной модели, тетраптих складывается в нечто вроде пиктограммы и может быть рассмотрен как единый текст, требующий дешифровки. Каждая картина цикла расчленена на геометрические части наподобие старинного народного календаря (см., например, календарь Брюса), на четыре неравные части (смещающиеся от полотна к полотну), и каждая из этих частей представляет отдельный тип изобразительной записи наподобие древних календарей латиноамериканцев [илл. 21].
Изображения времен года, описывающие природно-сельскохозяйственные и жизненные циклы, записаны четырьмя разными кодами, повторяющимися на каждом из полотен с небольшими вариациями. Так, наиболее крупное изображение – примитивистски огрубленная обнаженная женская фигура в рост, вместе с комментирующими деталями аллегорически представляющая соответствующие времена года: Зима с синим велумом, Весна с летающими вокруг нее амурами, Лето с серпом и Осень с птицами, несущими в клювах виноградные ветви и атрибутами виноделия (ковш, чаша, лоза). Остальные три четверти представляют: 1) картинки-рассказы, 2) мотивы дерева – вариации мирового дерева в соответствующем времени года вегетативном состоянии (голое зимой, расцветающее весной, снопообразное летом, плодоносящее осенью), а также 3) рукописные вербальные тексты. Художник отходит от миметической референции: раннему периоду его творчества было свойственно обращение к пейзажам, описывающим разные времена года в соответствии с традицией «природной» референции, однако данное произведение оспаривает не только пейзажи самого Ларионова, но и картины на темы времен года его ближайшей коллеги и спутницы жизни, художницы Н. Гончаровой, равно как и предшествующую традицию символизма/импрессионизма в целом. Отход от натурно-описательной модели проявляется, в частности, в нетрадиционной цветовой символике: так, весна показана желтой, т. е. ведущим признаком выбран цветовой эквивалент света (византийский принцип, концептуальный – в этом есть совпадение с символизмом, в частности, с «Временами года» в живописи Чюрлиониса), в то время, как желтый в «реалистической» живописи стереотипически характеризует осень. Аналогичное «нарушение» свойственно и другим цветовым атрибутам: зима – красно-коричневая (словно обыгрывается народная рифмовка мороз = красный нос), а осень – синяя.
Автор использует ограниченный набор традиционных изобразительных символов: дерево, дева, птица, собака, лоза и др. Наряду с характером четырехчастного деления полотен комбинаторика элементов следует принципу дополнительного распределения, на основе которого выстраиваются пары аналогий зима = лето и весна = осень. Это опять же напоминает древний календарь с его ориентацией на предсказания и знаками зодиака. Такого рода аналогии можно обнаружить в каждом из изобразительных комплексов отдельно.
Обнаженные женские фигуры в каждой из композиций – аллегории времен года – представляют собирательный тип Великой Богини. В этом художник следует традиционным моделям: аллегории времен года обычно имеют вид женских персонажей, нагота соответствует принципу телесных проекций мифологического календаря [Брагинская 1980]. Типы изображений и их атрибутика в других женских персонажах недвусмысленно отсылают к более широкому набору архаической иконографии: так, профильное изображение женщины на картине «Весна» напоминает так называемую Парижанку из росписей Кносского дворца на Крите [илл. 22], а серп в руке Венеры на картине «Лето» ассоциируется с символическим рогом изобилия в первобытной скульптуре. Символика плодородия, мотивы дионисийства отождествляют Венеру-Весну и Венеру-Осень посредством соответствующих классификаторов: весна охарактеризована амурами (символизирующими эротическую любовь), осень – виноградом. По типу позы – телесному статусу – образуются иные пары: танцующие аллегории весны и лета (вакхический, дионисийский мотив) противопоставлены статичным, подчиненным застылой вертикально-осевой симметрии аллегориям зимы и осени. Стилистически Девы Ларионова восходят к разным источникам: тут и Гоген (произведения которого Ларионов видел в Париже и которым был увлечен), и скифские бабы Гончаровой, и собственные произведения – многочисленные «Венеры» этого времени, в частности, «Солдатская Венера» (1912), написанная одновременно с рассматриваемым циклом [илл. 23]. Близок к Венерам цикла «Времена года» и заборный рисунок на картине «Отдыхающий солдат» (1911) [илл. 24]. Автоцитаты в живописи Ларионова возникают и позже, в 1920-е годы: обнаженная женщина – персонаж его наброска «Маня-курва» (1928) [илл. 25] – идентична предыдущему примеру, а птица с веткой в клюве повторяется в иллюстрациях к поэме А. Блока «Двенадцать» [илл. 26]. Эта миграция отдельных изобразительных мотивов заставляет каждый из них трактовать как своего рода знак-лексему, что еще раз указывает на лежащий в основе композиций пиктографический принцип.
22. а) «Парижанка». Фрагмент росписи Кноссного дворца, Крит, 15 в. до н. э.;
б) М. Ларионов. Весна. Из цикла «Времена года». Фрагмент
Автоцитирование показывает, что примитив Ларионовым стилизуется и показан двойственно: сам по себе и в игровом, раёшном ключе – как взгляд со стороны; на это обращали внимание искусствоведы [Поспелов, Илюхина 2005]. Хотелось бы добавить, что двойственность модуса изображения в данном случае передается в нарративной структуре: остранение стиля можно трактовать как «речь» персонажа, выраженную – если сравнить с литературным приемом – в форме несобственно-прямого повествования. Рассказ ведется как бы от лица субъекта, а «речь», акцентирующая протяженность во времени, вводит линейное время. Таким образом, циклическое время мифологической картины мира, заданное традиционными для календаря символами, нарушается.
23. М. Ларионов. Солдатская Венера. 1912
24. М. Ларионов. Отдыхающий солдат. 1911
Однако нарушенное равновесие тут же восстанавливается в мотиве дерева, которое присутствует во всех четырех картинах. Своим вегетативным статусом дерево каждый раз маркирует тот или иной сезон (голое дерево – зимой, зеленеющее – летом, усыпанное плодами – осенью, расцветающее – весной). На двух композициях, между тем, есть и добавочные мотивы – древо искушения весной и свадебное деревце, по сторонам от которого друг напротив друга расположены жених и невеста, – осенью. Мотив отсылает к Мировому дереву – центральному символу архаической картины мира. Вокруг деревьев кружатся птички, по форме напоминающие рождественские пряники: пернатые выступают мифологическим классификатором, отмечающим верх. Посредством эквивалентных связей птицы = дерево (мировое дерево), птицы = дева, мотивы дерева/ птиц и Девы связываются между собой. Все это усиливает мифологическое звучание ларионовской Венеры, ее архаическую символику, в которой демоническое, идущее из низовых глубин женское начало сплетается воедино с сакральным верхом, отсылая к мотиву брака неба и земли. Возникает ассоциация с демонической Лилит из стихотворения Н. Гумилева «Ева или Лилит» 1911 года: У Лилит – недоступных созвездий венец, / В ее странах алмазные солнца цветут[10 - Известно, что Ларионов в эти годы был знаком с Гумилевым, а позже, в эмиграции, даже сдружился с ним и неоднократно делал его портретные зарисовки Еще раньше, в 1909 году портрет Н. Гумилева написала Н. Гончарова.]. Создавая лубочно-игровой парафраз архаических символов, художник посмеивается и над символистскими клише, стремясь, одновременно «называя» и осмеивая их, опрокинуть недавнее прошлое культуры Серебряного века.
25. М. Ларионов. Маня-курва. 1920-е
26. М. Ларионов. Череп и птица. Иллюстрация к поэме А. Блока «Двенадцать». 1920
Принцип нарушения равновесия и его восстановления последовательно проведен и в композиции полотен: так, регулярно повторяющаяся центрально-осевая симметрия (геральдических предстояний) уравновешивается асимметричными сдвигами членений полотен, произвольностью поз Девы, нерегулярностью изобразительных «рифм». Последнее особенно интересно: свойственное любому примитиву ковровое заполнение плоскости изображения Ларионов структурирует, вводя пары соответствий на уровне формы. Так решены картинки-рассказы цикла: зимняя деревня, где вдоль домов бегут голодные собаки своим мерным ленточным ритмом, «рифмуется» с летним сбором урожая (процессия мужчина/женщина с корзинами, 4 ноги). На картине «Весна» Адам и Ева, по сторонам от уже упоминавшегося Древа познания в сочетании со сценой изгнания из рая, соответствуют брачной паре по сторонам от свадебного деревца на картине «Осень». Тем самым Весна и Осень объединяются по признаку центрально-осевой симметрии геральдических пар, а Зима и Лето – по признаку симметрии сдвига. Однако возникают и перекрестные соответствия: так, дерево на картине Лето, геральдически окруженное птицами, отмечено центрально-осевой симметрией, а Весна – симметрией сдвига в изображении сцены изгнания из рая. В чередовании парности и непарности реализован числовой код 3 + 4, согласно архаическим представлениям, описывающий полноту мира [Топоров 1982д]. Интересно, что это же числовое сочетание, в раннем авангарде обозначенное Ларионовым, подобно рамочной конструкции встретится и в «авангарде на излете», а именно на картинах К. Малевича «Красная конница» [илл. 132], а также «Бегущий человек» (см. об этом в следующем разделе книги). Можно обнаружить это символическое сочетание и на уровне семантики: постоянно присутствующий в полотнах цикла «Времена года» мотив дерева, имплицирующий троичность (деление символического пространства по вертикали на три зоны), противопоставлен мотиву четверичности времен года, которой соответствует четверичность живописного цикла: членение четырех полотен на четыре части.
Четвертый тип изображений в каждом полотне представлен рукописными текстами [илл. 27]. Это «народно-поэтические» описания смены времен года. Балаганно-ярмарочные полустихи, полуречевки – тексты основаны на принципе произвольного членения слов при переносе в новую строку и декоративного (относительно равномерного – принцип народного орнамента) чередования цвета букв. Частичные внутренние рифмы соответствуют и частичности изобразительных «рифм». Лубку художник следует и в параллелизме изображения/слова, хотя этот параллелизм и неполный: так, словесная осень – «блестящая как золото» – не соответствует изображению, в котором доминируют синие тона. В весело приплясывающих буквах, орфографических ошибках очевидно влияние футуристических книг, которыми Ларионов и Гончарова в эти годы занимались. Принцип произвольного членения слов при переносе на новую строку предвосхищает идею А. Крученых о расчленении слова с целью расподобления смысла, которую он сформулировал в статье «Слово как таковое» годом позже (1913). В этом манифесте Ларионов в числе художников не упоминался, но выдвинутые принципы схожи: «1. Чтоб писалось и смотрелось во мгновение ока! (пение, плеск, пляска, разметывание неуклюжих построек, забвение, разучивание <…> 2. Чтоб писалось туго и читалось туго неудобнее смазных сапог или грузовика в гостиной (множество узлов, связок и петель и заплат, занозистая поверхность, сильно шероховатая)» [Крученых, Хлебников 2008].
27. М. Ларионов. Фрагмент надписей на полотнах из цикла «Времена года»
«Смотрелось во мгновение ока» – это по сути изображение письменного текста, письменности как таковой, ее остранение наподобие иронической двойственности лубка в цикле. Выписанные от руки и раскрашенные буквы равнозначны мазку, процессу его нанесения на полотно, наконец, самой живописи как таковой. Рукописность текстов словно описывает медлительный ход возникновения картины, линейное время как таковое. Благодаря руко-письму возникает и другой эффект: уподобление фрагментов, а с ними и всего живописного полотна/цикла живой речи. Возникает сплошной изоморфизм изображения и слова: уподобленные танцующим Девам, буквы перекликаются и с дионисийским буйством природы, изображаемым на полотнах, мотивами виночерпия, эротики. Описательно-назывные предложения, в которых главное слово – первое. Это своего рода живописные именования – как бы вербальные портреты. Перенесение изобразительных законов на сферу вербального (поменялись ролями) – это доминанта пространственного искусства (изобразительного) над временным словесным. Получилась инверсия: дискретность изображения здесь противопоставлена «изобразительности» слова, своего рода экфрасис наоборот.
Дискретность полотен «Времена года» Ларионова символически противостоит времени, исторической традиции. На первый план выдвигается динамический принцип: смена времен года как членение изображения-текста par excellence, в котором главная роль принадлежит пространству. Круговорот сезонов оказывается «пришпиленным» к плоскости наподобие гербария. Отмечая сходство современной живописи и лубка в предисловии к своей выставке 1913 года, Ларионов сам пишет о том, что «выдвигаемое лубками и нашими теперешними художниками, является наилучшим доказательством уничтожения времени» [Поспелов, Илюхина 2005]. Провозглашенное уничтожение времени – это утверждение времени циклического, однако в соответствии с авангардной мифологемой начала Ларионов вводит и линейный вектор, прогностический. Последний обусловлен сходством изображений с картами.
Действительно, проецирование времени (времен года) на пространство, плоскостные изображения, многообразные симметрические композиции и ряд других особенностей поэтического устройства этой серии заставляют провести аналогию этих картин с игральными картами. Известно, что Ларионов коллекционировал карты, которые очевидно, явились еще одним источником его неопримитивизма. Карточной темы вообще много в живописи раннего авангарда. Теме карт и карточной игры отдали дань и О. Розанова, и К. Малевич, и А. Крученых [илл. 28]. Не стоит забывать, что название выставки/объединения «Бубновый валет» придумано самим М. Ларионовым за два года до создания этого цикла. Карты и карточная игра реализуют мотивы случайности, рока, т. е. неуправляемого линейного вектора – с одной стороны, и закономерность фиксированных значений, сетки координат – с другой. Эта дихотомия правил и их реализации, подобная дихотомии языка и речи, последовательно реализована и в множественности кодов изображений рассматриваемых картин: в обращенности вербальных фрагментов к просторечию, в смеси архаической символики и ярмарочной игры в нарративных фрагментах, в вариативности мотивов, словно карточных партий, разыгранных по сезонам. С игральными картами сближает и членение изобразительного поля на четыре части, а также зеркально-поворотная симметрия композиций. Тема карточной игры соответствует и дионисийской семантике полотен, духу витализма: экстатические позы танцующей/страдающей Девы, эротические символы, атрибуты виноградарства и т. п. Все это и парафразы символистских клише, их оспаривание и утверждение новой поэтики. Это утверждение циклического времени (и его пространственных проекций) как преемственности культуры, переданной в коде времен года, и вместе с тем – линейного выхода за пределы этой преемственности.
Между тем, некоторые мотивы являются в цикле «Времена года» для художника более важными, чем другие: доминируют весна и осень. Так, весна и осень акцентированы повторением в разных частях композиций мотива дерева – наиболее «сильного» универсального архаического символа в ряду прочих, а также влюбленной/брачующейся пары по его сторонам. Для объяснения приходит на помощь опять же аналогия с игральными картами. Масти карт в народной картине мира соответствовали временам года, что не могло не учитываться Ларионовым и его кругом. Так, происхождение названия объединения «Бубновый валет» связывают с традиционно закрепленной за этой мастью символикой весны, ее свойственен желтый цвет. Картина «Весна» также решена в желтой гамме. «Осень» – заключительное звено годового цикла природы, проекция будущего, а в рамках циклического мышления – и прогностического видения (семантика, которую несут в себе карты в функции гадания). Неслучайно именно весна и осень явились темами двух других полотен Ларионова этого времени и позднее [илл. 29, 30]. Если принять тезис, что художник намеренно выделяет переходные, пограничные состояния природы, весь цикл выстраивается как автометаописание раннего авангарда как сдвига историко-художественной парадигмы и новой стадии в развитии искусства. Здесь речь доминирует над языком, и отсюда – акцент на весне как метафоре новой художественной парадигмы, а также осени как времени «сбора плодов» нового направления.
28. О. Розанова. Дама пик. Из цикла «Игральные карты». Б.д.
Весна и осень, как время переходности, полутонов, недосказанности, превалирования неясности над ясностью, вчувствования над рациональностью, а тем самым, усиленной семиотичности, освоены символизмом (в противоположность реализму натуральной школы, делающей акцент на зиме и лете). И то, и другое – агенты пограничных состояний в коде времен года, соответствующих брачной символике. Брачная семантика, реализованная в цикле, высвечивает символику перехода. У М. Ларионова весна как настоящее и осень как плодоносное будущее переосмысляются в кодах изобразительности в качестве агентов перемен, совмещающих циклическое и линейное время, что соответствует катахрестической авангардной поэтике. Время осмысляется в пространственных категориях, акцентируя принцип дискретности как таковой. Вряд ли будет большим преувеличением сказать, что своим акцентированием дискретности эта серия предвосхищает «Черный квадрат» Малевича, который появится на три года позже. Дискретность проявляется и в выборе в пользу граничных состояний и маргинальных тем-мотивов, совпадая с символизмом (и многое наследуя от него), смещая акценты. Цикл «Времена года» М. Ларионова фиксирует и описывает все эти приметы становления новой поэтики в категориях народно-мифологического сознания, реализуя их на всех уровнях организации художественного текста.
В истории европейской живописи тема времен года решается в широком диапазоне символического осмысления – от высокого космологического обобщения (от Брейгеля до Чюрлиониса) до низового тривиального. На пересечении этих уровней – используя наследие мифопоэтики символизма и при этом оспаривая символизм в рамках освоения низового поля культуры – реализовывал свою поэтику авангард, в частности, русский авангард.
29. М. Ларионов. Весна. 1912
30. М. Ларионов. Осень счастливая. 1912
В мифологической модели мира времена года выступают как универсальная метафора, расширяющая базовые бинарные отношения по аналогии с развернутыми суточными делениями (ночь/день, а также ночь/утро/день/вечер) на жизненные циклы человека (жизнь-смерть как детство-молодость-зрелость-старость). Аналогичные проекции можно сделать и в отношении циклических смен художественных формаций (и крупных идеологем), каждая из которых претерпевает период зарождения в недрах другой формации (который можно сравнить с весной), процесс созревания поэтики (лето), кульминацию своего развития (осень) и стагнацию (зиму). В литературе Серебряного века и в последующую эпоху такие метафорические переносы времени года на состояние художественного или более широкого духовного процесса встречаются особенно часто. В книге воспоминаний С. Н. Дурылина «В своем углу» находим: «Не только снег тает. Все тает. Так, истаяла русская поэзия. Истаяла русская культура. Истаяла Россия». И далее в «Тетради IV» («Афоризм 8», «Афоризм 9») о В. Розанове: «Христианство не догорело и чадит, – как думал Василий Васильевич. – Оно не коптит. Оно тает. От лучей какого же солнца? О, как страшно! Какого-то. Но тает, тает, – и не оттого, что “дворники делают весну” в городе… Тает и в городе, и в деревне, на холмочках, на ложбинках, даже в глубоких ложках… Всюду тает… И как задержать это таянье? Тает. Вот и все» [Дурылин 2006]. Обратим внимание, что ведущей метафорой, описывающей угасание, становится весна, функционально сближенная с осенью, и потому новое здесь отрицательно маркировано. Дурылин (1886–1954) принадлежит традиции Серебряного века, и хотя Ларионов (1881–1964) близок ему по дате рождения, он – вестник уже совсем другой эпохи. Он тоже сближает весну и осень, но совсем по другому основанию: переходное состояние природы осмысляется в его цикле как ритуал rite-de passage, проецируемый на зарождающуюся художественную формацию.
В исторические эпохи высокой рефлексии созревание новой художественной парадигмы осознается носителями новой поэтики. Очевидно, так произошло и с авангардом, примером чего может служить цикл произведений Михаила Ларионова «Времена года», созданным в переходную эпоху начальной стадии – весны – авангарда. Интересно, что при этом – в соответствии с закономерностями пограничных пространственно-временных зон – в полной мере проявляется мифологический тип мышления, который, однако, имеет свои особенности, соответствующие задачам выработки нового художественного языка.
Глава 4. Натюрморт Георгия Рублева «Письмо из Киева» как анаграмма
Поиски зашифрованного в изображении сообщения неизбежно выводят исследователя на проблему границ произведения, которые определены типом той или иной поэтики, в русле которой оно создано. Однако в качестве «текста» произведение живописи может иногда быть «прочитано» за пределами своих собственных рамок (как физической рамы-обрамления, так и рамки семантической). В настоящей главе речь пойдет об одном случае скрытых изображений в живописном нарративе, которые можно уподобить анаграмме в литературе и которые реализуют определенную коммуникативную модель, предполагающую привлечение к анализу широкого контекста – всего творчества автора. Этот контекст выстраивается как текст нового, более высокого уровня, и смыслы отдельных произведений, которые служат раскрытию тайных механизмов «дешифровки», не сводятся к простой их сумме: они требуют учета дополнительных коннотаций.
В своей статье «Вещь в антропологической перспективе: апология Плюшкину», а также в ряде других замечательных работ, Владимир Николаевич Топоров рассматривал мир вещей, создающих космос человека, в аспекте времени (Топоров 1995). Вещь – это и память, и материализованное время индивидуального существования. Опираясь на эти соображения, можно сказать, что в представлении вещей в изобразительном искусстве создается многоуровневая повествовательность: вещи рассказывают нечто, образуя сложную нарративную конструкцию, где каждая из них – и персонаж, имеющий свой «голос» в составе повествования, и скрепа в парадигматических рядах, и скрытая семантизация временного потока как такового [Николаева 2012]. Тем самым изображение, пространственное по своей природе, получает расширение, присваивая и время, т. е. приспосабливая коммуникативный механизм искусства слова как основанного преимущественно на темпоральности (см. главу 1 настоящего раздела). Такова повествовательность вещей в картине Георгия Рублева «Письмо из Киева» (1930), хранящейся в Третьяковской галерее [илл. 31]. Композицию можно уподобить тайнописи – она изобилует скрытыми смыслами.
31. Г. Рублев. Письмо из Киева. 1930
Несколько предварительных замечаний. Существует целый ряд эпох и художников, реализующие многообразные скрытые смыслы в формах разнообразных оптических обманок и визуальных тайнописей. К ним в первую очередь относятся европейский маньеризм и картины-перевертыши Д. Арчимбальдо (в одной из них, например, при переворачивании картины портрет мужчины превращается в вазу с фруктами), а также уже упоминавшееся произведение Х. Гольбейна Младшего (имеем в виду картину 1533 года «Послы», где неясный предмет на первом плане в развернутой проекции оказывается изображением черепа). К скрытым изображениям следует причислить и разнообразные зеркальные и анаморфические трансформации формы в барокко (о чем много писал Ю. Балтрушайтис [Baltrusaitis 1984], а в недавнее время – М. Ямпольский [Ямпольский 1996]. Зашифрованные картинки вошли в моду и в наполеоновской Франции, где в букетах цветов зрителю надлежало найти портрет императора [Ситникова 2008]. В ХХ веке оптические трюки со скрытыми изображениями ожили в сюрреализме – например, у С. Дали в картине «Невольничий рынок с незримым бюстом Вольтера» (1940, холст/масло, Музей Сальвадора Дали, Сент-Питерсберг), где в группе людей на дальнем плане видится портрет французского мыслителя, а затем в многочисленных играх с пространством Р. Магритта и М. Эшера. Примечательно, что такого рода мастера обычно практикуют тип поэтики, отмеченной доминантой словесного начала в искусстве, и властью слова отмечены целые эпохи, к которым они принадлежат. Изображения людей и вещей в этих зашифрованных визуальных «сообщениях» обладают повышенным коммуникативным потенциалом. Однако и в другие эпохи возникают неожиданные виды визуальных игр. К таким эпохам относится, например, конец 1920-х годов в советской России.
Живопись этого времени – в соответствии с «горячим» типом самой эпохи – отмечена резким повышением коммуникативного статуса. Художники поставангарда, учившиеся у мастеров первого и второго поколения творцов нового искусства, представили в своем творчестве своеобразную противофазу исторического авангарда, при этом оставаясь в рамках той же самой парадигмы. В отношении взаимодействия слово/вещь это выразилось в том, что на смену футуристическому принципу «слово как вещь» пришел зеркальный принцип «вещь как слово». Изображенные на картинах предметы быта буквально «заговорили», рассказывая свои истории. Если, по убеждению В. Кандинского, линия становится вещью, «обладающей таким же практически-целесообразным смыслом, как и стул, колодец, нож, книга» [Кандинский 1919: 2] (цит. по: [Ханзен-Лёве 2001: 72]), то десятилетием позже прошедшие через опыт футуристического бунта 1910-х вещи мирно сложились в натюрморты Д. Штеренберга, М. Ларионова. Они формируют вещный нарратив, своеобразно хранящий память об авангардном сокрушении всех и всяческих пределов. Прошедшая через опыт беспредметности, обнажения своего истинного, не-вещного лица, живопись представила предметы быта в поставангардном натюрморте, разрушая ожидания. Зритель настраивается на двойное сальто-мортале: за вновь обретенной натурой ему видится преображенная абстракция, не вернувшаяся к природе, а трансформированная ею и породившая квазиприродную форму, еще более удалившуюся от «реалистического» восприятия мира в XIX веке, чем беспредметность. Такого рода двойным пересечением границ, и прежде всего семиотических границ картинного пространства, отмечено творчество Георгия Рублева. Полотна этого мастера 1920–1930-х годов представляют интерес с точки зрения рассказов вещей, которые принимают форму скрытого изображения.
Как известно, натюрморт – это жанр, лежащий на пересечении различных семиотических процессов, и он активизируется в определенные эпохи [Лотман 2002а; Bobryk 2011]. Такой эпохой для данного жанра стал рубеж 1920–1930-х годов в России. Это время испытания изображения на истинное/неистинное, что соответствует тектоническим сдвигам в социально-политической сфере страны, поставившим под вопрос основы бытия, это и особый статус вещи в ситуации исторической катастрофы. Известно, что именно в грозовые годы возникает изоляция вещей из своего утилитарного окружения и о ней сигнализирует. Повышается семиотический статус как самих предметов, так и отношений между ними. Примером могут служить домашние вещи людей, отбывавших в 1930-е годы свой срок в сталинских лагерях и описанных в произведениях Варлама Шаламова [Злыднева 2011в], или бытовые предметы, например, молочные бидоны, которые десятилетием позже брали с собой в изгнание экстрадированные народы и в которых утилитарная функция полностью вытеснялась символической [Курсите 2009]. В натюрморте переломного и изобилующего потрясениями времени конца 1920-х годов семиозис вещи особенно активен, значение бытового предмета возводится в квадрат и при этом встраивается в противофазу поэтики исторического авангарда. Это означает, что повышение коммуникативного статуса изображения следует рассматривать в перспективе памяти о тех сдвигах в поэтике, которые нарушили привычные границы не только жанра, но и вида искусства, а также онтологической природы изображения, и радикально расширили рамки повествования отдельного полотна как «текста».
Драматизм вещных нарративов картин Г. Рублева под стать драматической судьбе их автора. Георгий Рублев (1902–1975) родился в Липецке, учился во ВХУТЕМАС’е, в 1920-е годы участвовал в разнообразных художественных объединениях, разрабатывающих проблемы новой фигурации, критиковался за формализм, однако в 1930-е годы резко изменил свои позиции и начал выполнять государственные заказы на оформление парадов, праздников, монументальных росписей в общественных постройках (в частности, по его проектам оформлена станция метро «Серпуховская»). Цикл работ конца 1920-х – начала 1930-х годов до поры до времени хранился у художника дома и был обнародован только с приходом новых времен, сразу став сенсацией: поразили гротескная манера мастера, двусмысленная трактовка злободневных сюжетов и загадочность общего смысла. Такого рода необычностью отмечена прежде всего картина «Письмо из Киева». В восприятии современного зрителя, улавливающего в изображении нечто зловещее, картина ассоциируется с атмосферой надвигающегося сталинского террора. Тема страшного становится в эти годы одной из доминирующих в советской живописи [Злыднева 2007]. Однако полотно, о котором идет речь, едва ли прочитывалась в этом ключе современниками, для которых трагические события, последовавшие после года ее создания, были закрыты неясными очертаниями грядущего.
Произведение не допускает однозначного толкования, и его можно причислить к жанру натюрморта лишь условно – композиция составлена из отдельных предметов различного назначения, равномерно разложенных каждый по отдельности на круглом столе подобно экспонатам в музейной витрине, напоминает скорее ребус или криптограмму, нежели картинку быта. Набор вещей невелик: ножницы, катушка красных ниток, чашка, три лимона, печатная брошюра под заголовком «Политдоклад Сталина 27 июня 1930» и письмо с адресом «Москва Егору Рублеву из Киева». Все слова изображены написанными от руки.
В композиции доминирует принцип дискретности, что соответствует примитивистской манере, в которой решено полотно: поверхность стола дана в проекции сверху, а трактовка предметов нарочито огрублена, и вещи словно подвешены на ниточках. Дискретность отсылает к алфавитному письму, так что каждый предмет выполняет функцию отдельного письменного знака (это тот самый принцип, который был описан на примере живописи раннего М. Ларионова в предыдущей главе). Однако граница округлой столешницы, объединяющая и изолирующая вещи от прямоугольной рамки полотна, служит указанием на их связанность в пределах единого целого, ведь круг – это маркированное отграничение, снимающее оппозицию правое/левое, а тем самым, ликвидирующее и координаты внешнего пространства, которое простирается за пределы полотна. Благодаря этому отграничению создается нечто вроде иероглифа. Таким образом, непрерывное (уподобленность изображения иероглифу) сочетается здесь с дискретным началом (в отделенных друг от друга вещах, знаках алфавитного письма и словах). Письменный текст (как дискретный) тем самым становится значимым звеном изображения (континуального по своей природе). Эта двойственность референции (денотатов) определяет и двойственность смыслов (коннотаций) представленного на картине.
Дискретность соответствует природе изображенных на полотне вещей, две из которых принадлежат к письменной культуре: брошюра и письмо. Они не только вводят мотив печатно-рукописной продукции, но и иконически его представляют посредством написанных от руки словосочетаний. Таким образом, синтагматика изображения находит соответствие в ее семантике, и возникает рамочно-кольцевая конструкция семиотических рядов: набор/каталог предметов уподоблен иероглифическому тексту, внутри которого находятся еще два уже в прямом смысле письменных текста, из которых один – печатный доклад, а второй принадлежит к эпистолярному (рукописному) жанру. Если первый, от лица Сталина, адресован массе однопартийцев (и всему народу) и реализует коммуникацию «Я» – «Мы», то второй основан на отношении «Я» – «Ты». Перед нами – рассказ-обращение. Ответ на вопрос, о чем именно этот рассказ, требует послойного анализа.
Набор разнородных вещей образует несколько парадигм. Общий ассоциативный ряд – антропологический: это предметное окружение человека, включенного в актуальную политическую действительность и обладающего активным кругом общения. Парадигма антропоморфизма объединяет все вещи посредством телесного кода: рука метонимически обозначена инструментами (ножницы и моток ниток), рот – посредством чашки, глаза – письмом, голос – докладом, пищеварение – фруктами на первом плане. Рукописность текстов, включенных в изображение, акцентирует руку дополнительно и служит метонимией профессии автора (художник «рукотворит»). Сочетание телесного (рука, рот/голова) и ментального (доклад как речь, письмо как коммуникация) создает энантиосемию изображения[11 - Здесь мы предпринимаем попытку применить к материалу искусства лингвистический термин, активно употребляемый в работах Т. В. Цивьян [Цивьян 2012].], в которой знаки материи одновременно отмечают и противоположный им символический план.
Наряду с общей парадигмой имеет место и ряд субпарадигм, объединяющих отдельные предметы по парам или в более длинные цепочки. Парадигматические ряды выстраиваются прежде всего на уровне визуальной формы. Колорит базируется на полноте мифологической триады – красное, черное, белое. Набор форм предметов тоже наделен полнотой: представлены основные геометрические фигуры – круг, квадрат и треугольник. Треугольник ножниц противопоставлен квадратам брошюры и письма, а также круга чашки, столешницы, фруктов. Ритм сочетания черного и красного описывается схемой АВВА и задает драматизм семантической ауры. Желтый фон столешницы нейтрализует этот накал и вносит значимое нарушение в ритмический рисунок: желтая полоска на чашке перекликается с фруктами на первом плане. Чашка и ножницы объединены черным цветом и маркированной крайней (левое и правое) позициями в композиции, они также образуют своего рода антонимы формы, являя собой в первом случае (ножницы) форму с открытым контуром, а во втором (чашка, близкая к кругу) – с закрытым. Таким образом, формальное решение композиции, обнаруживающее хорошую авангардную школу художника, подчинено ритмическому чередованию противопоставлений и уподоблений.
Таковы и субпарадигмы вещей с точки зрения их семантики. В изображениях доминирует то утилитарный уровень (обозначим его как уровень 1), то символический (уровень 2), а иногда они накладываются друг на друга. Так, ножницы + нитки образуют 1 уровень: портняжные инструменты. Впрочем, нить, как символический знак пути, может быть перерезана ножницами, так что 2 – символический – уровень тоже обозначен. На 2 уровне располагается также и парадигма красные нитки + доклад, которые можно объединить фразеологизмом «красной нитью» для характеристики развития мысли или «плетение словес». Чаша + нить можно прочесть символически: они репрезентируют путь, судьбу человека. Интересно, что те же предметы – ножницы и моток ниток – можно обнаружить и в натюрморте Г. Рублева «Шитье» (1929, ГТГ), написанном на год раньше, где эти предметы целиком мотивированы сюжетом. В картине «Письмо из Киева» эти вещи осмыслены уже на уровне не визуальной формы, а речи, т. е. выступают как визуальные идиомы.
Парадигма ножницы + письмо, казалось бы, реализует лишь утилитарное значение: письмо разрезают ножницами, чтобы осуществилась его коммуникативная функция. Между тем, ряд литературных примеров этого времени указывает на символическую семантику и данной связки. Так, у такого во всем далекого от Г. Рублева писателя, как М. Осоргин, в его написанном в эмиграции рассказе «Вещи человека», соединение ножниц и письма отсылает к мотивам ущерба, утраты, смерти: «Ножницами она перерезала тонкую бечевку, и пачка писем рассыпалась… вся пачка продолжала жить только как вещь, которую пожалели» (о вдове, разбирающей вещи покойного мужа) [Осоргин 1990: 455]. В другом его рассказе – «Пенсне» – о смерти речи нет, однако реализована та же связка в аспекте очеловеченных предикатов: «Что вещи живут своей особой жизнью – кто же сомневается? Часы шагают, хворают, кашляют, печка мыслит, запечатанное письмо подмигивает и рисуется, ножницы кричат (курсив мой. – Н. З.), кресло сидит, с точностью копируя старого толстого дядю, книги, дыша, ораторствуют, перекликаются на полках» [Осоргин 1990: 531]. Можно предположить на картине Г. Рублева связка ножницы + письмо реализует символический уровень значений этих вещей в роли самостоятельно действующих персонажей, наделенных негативной коннотацией. Однако у Осоргина утрата вещами хозяина в рассказе «Вещи человека» выстраивает рассказ в рамках минус-пространства и минус-времени. У Рублева, напротив, время предельно актуализировано: дата лежащего на столе политдоклада совпадает с реальными историческими событиями – XVI съездом ВКП(б), одновременными с созданием картины, чем все повествование помещается в режим реального времени и акцентировано как сугубо актуальное, настроенное на позитив будней.
Отдельную парадигму образуют вербальные тексты – название брошюры и надпись на конверте. Вслед за полнотой круглящейся формы, содержащиеся в них сведения описывают полноту пространственно-временных координат и именных адресов: имеет место два топонима (Киев, Москва), точечное время (27 июня 1930 года) и два имени собственных, из которых одно (Егор Рублев) – просторечный вариант имени автора (Егор вместо Георгий), а второе – наоборот, возвышенное (политический псевдоним) имя вождя, так что это уже не совсем имя, а скорее символический знак власти, что поддержано и соединением имени Сталина с Москвой (= Кремль). Не вполне понятно, почему в качестве местонахождения адресанта указан именно Киев. В контексте обозначенной в картине речевой практики (рукописность как подобие речи в визуальном коде) Киев можно трактовать как знак просторечия, учитывая, что этот топоним часто встречается во фразеологизмах и речевых клише типа «Язык до Киева доведет», «В огороде бузина, а в Киеве дядька», «тетя из Киева» и т. п. В этом случае Киев, наряду со сниженным именем Егор, является еще одним указанием на речевую природу этой картины как изобразительного «высказывания».
Изображение можно уподобить устной речи и по признаку стилизации примитива в стиле композиции. Известно, что в эти годы Г. Рублев был увлечен творчеством «наивного» грузинского художника Нико Пиросмани. В духе примитива решены и многие другие произведения мастера, среди них – «На даче» (1929), «Парикмахерская» (1928), «Ликбез» (1930) [илл. 32]. Кроме того, в конце 1920-х годов примитивизм в его профессиональном изводе, т. е. в творчестве образованных художников, нашел широкое распространение в русском искусстве. Отчасти причиной тому стало сворачивание формальных поисков авангарда и обращение к «народному» стилю непрофессионалов оправдывало условности художественного языка. В подобном русле развивалось, например, творчество Д. Штеренберга, С. Адливанкина, С. Никритина и мн. др. Г. Рублев активно вводил в свои примитивистские полотна вербальные фрагменты: например, в картине «Ликбез» учащаяся крестьянка выводит на доске мелом оборванную фразу: «Горячий привет 16 парт» (это именно тот партсъезд, доклад на котором лежит на столе в рассматриваемой картине!) [илл. 33]. Совмещение стиля примитива и словесных врезок характерно и для других мастеров. Так, композиция картины С. Адливанкина «Трамвай Б» (1922, ГТГ) не только включает в себя название, которое фигурирует на изображении вагончика, наряду с вывесками стоящих поодаль магазинов, но здесь же красуется и подпись художника, что впрямую перекликается со способом введения имени автора в картине Г. Рублева [илл. 34].
32. Г. Рублев. На даче. 1929
33. Г. Рублев. Ликбез. 1930
34. С. Адливанкин. Трамвай Б. 1922
20. М. Ларионов. Осень. Из цикла «Времена года». 1912
Этот цикл состоит из четырех полотен: «Зима», «Весна», «Лето» и «Осень», в настоящее время хранящихся в разных собраниях – в ГТГ («Зима» и «Весна»), в Центре Жоржа Помпиду в Париже («Осень») и в частной коллекции («Лето») [илл. 17–20]. Произведение традиционно относят к примитивистской стадии творчества художника, справедливо указывая на стилистическую связь этой живописи с лубком, вывеской, с искусством Гогена, восточным примитивом и детским рисунком [Поспелов, Илюхина 2005]. Отмечается и эпатирующий характер изображений, соответствующий типу поведения ранних авангардистов и особенно Малевича, для которых шокировать буржуазную публику в эти годы составляло часть художественной программы. Так, в рамках эпатирующей стратегии вводилась стилистика «заборных» рисунков и надписей. Дурашливо-смешная, раёшная живопись выполняла роль художественного жеста. Между тем, от внимания исследователей практически ушел вопрос о том, почему Ларионов, этот живописец от Бога, прекрасный колорист, обратился к жесткой структурной схеме, которой проникнуты композиция и семантика этих произведений. Ведь это единственное произведение со столь определенно выраженной дискретностью у мастера, и потому может быть расценено как своего рода изобразительный манифест. Конечно, Ларионов создавал и письменные тексты. В 1913 году он публикует брошюру «Лучизм», а также манифест «Лучисты и будущники». Однако в целом к словесным автокомментариям этот художник, в отличие от Кандинского, Филонова или Малевича был не склонен. Следует напомнить, что во время, когда создавался рассматриваемый цикл, происходил отход Ларионова от объединения «Бубновый валет», нацеленного на разрушение основы миметической традиции, но не порывающей с нею полностью, и создание им другого объединения – «Ослиный хвост», постулирующего существенно более радикальные художественные принципы.
21. Календарь сапотеков времени доколумбовой Мексики.
Объединенный общей тематикой отдельных картин, построенных к тому же по единой композиционной модели, тетраптих складывается в нечто вроде пиктограммы и может быть рассмотрен как единый текст, требующий дешифровки. Каждая картина цикла расчленена на геометрические части наподобие старинного народного календаря (см., например, календарь Брюса), на четыре неравные части (смещающиеся от полотна к полотну), и каждая из этих частей представляет отдельный тип изобразительной записи наподобие древних календарей латиноамериканцев [илл. 21].
Изображения времен года, описывающие природно-сельскохозяйственные и жизненные циклы, записаны четырьмя разными кодами, повторяющимися на каждом из полотен с небольшими вариациями. Так, наиболее крупное изображение – примитивистски огрубленная обнаженная женская фигура в рост, вместе с комментирующими деталями аллегорически представляющая соответствующие времена года: Зима с синим велумом, Весна с летающими вокруг нее амурами, Лето с серпом и Осень с птицами, несущими в клювах виноградные ветви и атрибутами виноделия (ковш, чаша, лоза). Остальные три четверти представляют: 1) картинки-рассказы, 2) мотивы дерева – вариации мирового дерева в соответствующем времени года вегетативном состоянии (голое зимой, расцветающее весной, снопообразное летом, плодоносящее осенью), а также 3) рукописные вербальные тексты. Художник отходит от миметической референции: раннему периоду его творчества было свойственно обращение к пейзажам, описывающим разные времена года в соответствии с традицией «природной» референции, однако данное произведение оспаривает не только пейзажи самого Ларионова, но и картины на темы времен года его ближайшей коллеги и спутницы жизни, художницы Н. Гончаровой, равно как и предшествующую традицию символизма/импрессионизма в целом. Отход от натурно-описательной модели проявляется, в частности, в нетрадиционной цветовой символике: так, весна показана желтой, т. е. ведущим признаком выбран цветовой эквивалент света (византийский принцип, концептуальный – в этом есть совпадение с символизмом, в частности, с «Временами года» в живописи Чюрлиониса), в то время, как желтый в «реалистической» живописи стереотипически характеризует осень. Аналогичное «нарушение» свойственно и другим цветовым атрибутам: зима – красно-коричневая (словно обыгрывается народная рифмовка мороз = красный нос), а осень – синяя.
Автор использует ограниченный набор традиционных изобразительных символов: дерево, дева, птица, собака, лоза и др. Наряду с характером четырехчастного деления полотен комбинаторика элементов следует принципу дополнительного распределения, на основе которого выстраиваются пары аналогий зима = лето и весна = осень. Это опять же напоминает древний календарь с его ориентацией на предсказания и знаками зодиака. Такого рода аналогии можно обнаружить в каждом из изобразительных комплексов отдельно.
Обнаженные женские фигуры в каждой из композиций – аллегории времен года – представляют собирательный тип Великой Богини. В этом художник следует традиционным моделям: аллегории времен года обычно имеют вид женских персонажей, нагота соответствует принципу телесных проекций мифологического календаря [Брагинская 1980]. Типы изображений и их атрибутика в других женских персонажах недвусмысленно отсылают к более широкому набору архаической иконографии: так, профильное изображение женщины на картине «Весна» напоминает так называемую Парижанку из росписей Кносского дворца на Крите [илл. 22], а серп в руке Венеры на картине «Лето» ассоциируется с символическим рогом изобилия в первобытной скульптуре. Символика плодородия, мотивы дионисийства отождествляют Венеру-Весну и Венеру-Осень посредством соответствующих классификаторов: весна охарактеризована амурами (символизирующими эротическую любовь), осень – виноградом. По типу позы – телесному статусу – образуются иные пары: танцующие аллегории весны и лета (вакхический, дионисийский мотив) противопоставлены статичным, подчиненным застылой вертикально-осевой симметрии аллегориям зимы и осени. Стилистически Девы Ларионова восходят к разным источникам: тут и Гоген (произведения которого Ларионов видел в Париже и которым был увлечен), и скифские бабы Гончаровой, и собственные произведения – многочисленные «Венеры» этого времени, в частности, «Солдатская Венера» (1912), написанная одновременно с рассматриваемым циклом [илл. 23]. Близок к Венерам цикла «Времена года» и заборный рисунок на картине «Отдыхающий солдат» (1911) [илл. 24]. Автоцитаты в живописи Ларионова возникают и позже, в 1920-е годы: обнаженная женщина – персонаж его наброска «Маня-курва» (1928) [илл. 25] – идентична предыдущему примеру, а птица с веткой в клюве повторяется в иллюстрациях к поэме А. Блока «Двенадцать» [илл. 26]. Эта миграция отдельных изобразительных мотивов заставляет каждый из них трактовать как своего рода знак-лексему, что еще раз указывает на лежащий в основе композиций пиктографический принцип.
22. а) «Парижанка». Фрагмент росписи Кноссного дворца, Крит, 15 в. до н. э.;
б) М. Ларионов. Весна. Из цикла «Времена года». Фрагмент
Автоцитирование показывает, что примитив Ларионовым стилизуется и показан двойственно: сам по себе и в игровом, раёшном ключе – как взгляд со стороны; на это обращали внимание искусствоведы [Поспелов, Илюхина 2005]. Хотелось бы добавить, что двойственность модуса изображения в данном случае передается в нарративной структуре: остранение стиля можно трактовать как «речь» персонажа, выраженную – если сравнить с литературным приемом – в форме несобственно-прямого повествования. Рассказ ведется как бы от лица субъекта, а «речь», акцентирующая протяженность во времени, вводит линейное время. Таким образом, циклическое время мифологической картины мира, заданное традиционными для календаря символами, нарушается.
23. М. Ларионов. Солдатская Венера. 1912
24. М. Ларионов. Отдыхающий солдат. 1911
Однако нарушенное равновесие тут же восстанавливается в мотиве дерева, которое присутствует во всех четырех картинах. Своим вегетативным статусом дерево каждый раз маркирует тот или иной сезон (голое дерево – зимой, зеленеющее – летом, усыпанное плодами – осенью, расцветающее – весной). На двух композициях, между тем, есть и добавочные мотивы – древо искушения весной и свадебное деревце, по сторонам от которого друг напротив друга расположены жених и невеста, – осенью. Мотив отсылает к Мировому дереву – центральному символу архаической картины мира. Вокруг деревьев кружатся птички, по форме напоминающие рождественские пряники: пернатые выступают мифологическим классификатором, отмечающим верх. Посредством эквивалентных связей птицы = дерево (мировое дерево), птицы = дева, мотивы дерева/ птиц и Девы связываются между собой. Все это усиливает мифологическое звучание ларионовской Венеры, ее архаическую символику, в которой демоническое, идущее из низовых глубин женское начало сплетается воедино с сакральным верхом, отсылая к мотиву брака неба и земли. Возникает ассоциация с демонической Лилит из стихотворения Н. Гумилева «Ева или Лилит» 1911 года: У Лилит – недоступных созвездий венец, / В ее странах алмазные солнца цветут[10 - Известно, что Ларионов в эти годы был знаком с Гумилевым, а позже, в эмиграции, даже сдружился с ним и неоднократно делал его портретные зарисовки Еще раньше, в 1909 году портрет Н. Гумилева написала Н. Гончарова.]. Создавая лубочно-игровой парафраз архаических символов, художник посмеивается и над символистскими клише, стремясь, одновременно «называя» и осмеивая их, опрокинуть недавнее прошлое культуры Серебряного века.
25. М. Ларионов. Маня-курва. 1920-е
26. М. Ларионов. Череп и птица. Иллюстрация к поэме А. Блока «Двенадцать». 1920
Принцип нарушения равновесия и его восстановления последовательно проведен и в композиции полотен: так, регулярно повторяющаяся центрально-осевая симметрия (геральдических предстояний) уравновешивается асимметричными сдвигами членений полотен, произвольностью поз Девы, нерегулярностью изобразительных «рифм». Последнее особенно интересно: свойственное любому примитиву ковровое заполнение плоскости изображения Ларионов структурирует, вводя пары соответствий на уровне формы. Так решены картинки-рассказы цикла: зимняя деревня, где вдоль домов бегут голодные собаки своим мерным ленточным ритмом, «рифмуется» с летним сбором урожая (процессия мужчина/женщина с корзинами, 4 ноги). На картине «Весна» Адам и Ева, по сторонам от уже упоминавшегося Древа познания в сочетании со сценой изгнания из рая, соответствуют брачной паре по сторонам от свадебного деревца на картине «Осень». Тем самым Весна и Осень объединяются по признаку центрально-осевой симметрии геральдических пар, а Зима и Лето – по признаку симметрии сдвига. Однако возникают и перекрестные соответствия: так, дерево на картине Лето, геральдически окруженное птицами, отмечено центрально-осевой симметрией, а Весна – симметрией сдвига в изображении сцены изгнания из рая. В чередовании парности и непарности реализован числовой код 3 + 4, согласно архаическим представлениям, описывающий полноту мира [Топоров 1982д]. Интересно, что это же числовое сочетание, в раннем авангарде обозначенное Ларионовым, подобно рамочной конструкции встретится и в «авангарде на излете», а именно на картинах К. Малевича «Красная конница» [илл. 132], а также «Бегущий человек» (см. об этом в следующем разделе книги). Можно обнаружить это символическое сочетание и на уровне семантики: постоянно присутствующий в полотнах цикла «Времена года» мотив дерева, имплицирующий троичность (деление символического пространства по вертикали на три зоны), противопоставлен мотиву четверичности времен года, которой соответствует четверичность живописного цикла: членение четырех полотен на четыре части.
Четвертый тип изображений в каждом полотне представлен рукописными текстами [илл. 27]. Это «народно-поэтические» описания смены времен года. Балаганно-ярмарочные полустихи, полуречевки – тексты основаны на принципе произвольного членения слов при переносе в новую строку и декоративного (относительно равномерного – принцип народного орнамента) чередования цвета букв. Частичные внутренние рифмы соответствуют и частичности изобразительных «рифм». Лубку художник следует и в параллелизме изображения/слова, хотя этот параллелизм и неполный: так, словесная осень – «блестящая как золото» – не соответствует изображению, в котором доминируют синие тона. В весело приплясывающих буквах, орфографических ошибках очевидно влияние футуристических книг, которыми Ларионов и Гончарова в эти годы занимались. Принцип произвольного членения слов при переносе на новую строку предвосхищает идею А. Крученых о расчленении слова с целью расподобления смысла, которую он сформулировал в статье «Слово как таковое» годом позже (1913). В этом манифесте Ларионов в числе художников не упоминался, но выдвинутые принципы схожи: «1. Чтоб писалось и смотрелось во мгновение ока! (пение, плеск, пляска, разметывание неуклюжих построек, забвение, разучивание <…> 2. Чтоб писалось туго и читалось туго неудобнее смазных сапог или грузовика в гостиной (множество узлов, связок и петель и заплат, занозистая поверхность, сильно шероховатая)» [Крученых, Хлебников 2008].
27. М. Ларионов. Фрагмент надписей на полотнах из цикла «Времена года»
«Смотрелось во мгновение ока» – это по сути изображение письменного текста, письменности как таковой, ее остранение наподобие иронической двойственности лубка в цикле. Выписанные от руки и раскрашенные буквы равнозначны мазку, процессу его нанесения на полотно, наконец, самой живописи как таковой. Рукописность текстов словно описывает медлительный ход возникновения картины, линейное время как таковое. Благодаря руко-письму возникает и другой эффект: уподобление фрагментов, а с ними и всего живописного полотна/цикла живой речи. Возникает сплошной изоморфизм изображения и слова: уподобленные танцующим Девам, буквы перекликаются и с дионисийским буйством природы, изображаемым на полотнах, мотивами виночерпия, эротики. Описательно-назывные предложения, в которых главное слово – первое. Это своего рода живописные именования – как бы вербальные портреты. Перенесение изобразительных законов на сферу вербального (поменялись ролями) – это доминанта пространственного искусства (изобразительного) над временным словесным. Получилась инверсия: дискретность изображения здесь противопоставлена «изобразительности» слова, своего рода экфрасис наоборот.
Дискретность полотен «Времена года» Ларионова символически противостоит времени, исторической традиции. На первый план выдвигается динамический принцип: смена времен года как членение изображения-текста par excellence, в котором главная роль принадлежит пространству. Круговорот сезонов оказывается «пришпиленным» к плоскости наподобие гербария. Отмечая сходство современной живописи и лубка в предисловии к своей выставке 1913 года, Ларионов сам пишет о том, что «выдвигаемое лубками и нашими теперешними художниками, является наилучшим доказательством уничтожения времени» [Поспелов, Илюхина 2005]. Провозглашенное уничтожение времени – это утверждение времени циклического, однако в соответствии с авангардной мифологемой начала Ларионов вводит и линейный вектор, прогностический. Последний обусловлен сходством изображений с картами.
Действительно, проецирование времени (времен года) на пространство, плоскостные изображения, многообразные симметрические композиции и ряд других особенностей поэтического устройства этой серии заставляют провести аналогию этих картин с игральными картами. Известно, что Ларионов коллекционировал карты, которые очевидно, явились еще одним источником его неопримитивизма. Карточной темы вообще много в живописи раннего авангарда. Теме карт и карточной игры отдали дань и О. Розанова, и К. Малевич, и А. Крученых [илл. 28]. Не стоит забывать, что название выставки/объединения «Бубновый валет» придумано самим М. Ларионовым за два года до создания этого цикла. Карты и карточная игра реализуют мотивы случайности, рока, т. е. неуправляемого линейного вектора – с одной стороны, и закономерность фиксированных значений, сетки координат – с другой. Эта дихотомия правил и их реализации, подобная дихотомии языка и речи, последовательно реализована и в множественности кодов изображений рассматриваемых картин: в обращенности вербальных фрагментов к просторечию, в смеси архаической символики и ярмарочной игры в нарративных фрагментах, в вариативности мотивов, словно карточных партий, разыгранных по сезонам. С игральными картами сближает и членение изобразительного поля на четыре части, а также зеркально-поворотная симметрия композиций. Тема карточной игры соответствует и дионисийской семантике полотен, духу витализма: экстатические позы танцующей/страдающей Девы, эротические символы, атрибуты виноградарства и т. п. Все это и парафразы символистских клише, их оспаривание и утверждение новой поэтики. Это утверждение циклического времени (и его пространственных проекций) как преемственности культуры, переданной в коде времен года, и вместе с тем – линейного выхода за пределы этой преемственности.
Между тем, некоторые мотивы являются в цикле «Времена года» для художника более важными, чем другие: доминируют весна и осень. Так, весна и осень акцентированы повторением в разных частях композиций мотива дерева – наиболее «сильного» универсального архаического символа в ряду прочих, а также влюбленной/брачующейся пары по его сторонам. Для объяснения приходит на помощь опять же аналогия с игральными картами. Масти карт в народной картине мира соответствовали временам года, что не могло не учитываться Ларионовым и его кругом. Так, происхождение названия объединения «Бубновый валет» связывают с традиционно закрепленной за этой мастью символикой весны, ее свойственен желтый цвет. Картина «Весна» также решена в желтой гамме. «Осень» – заключительное звено годового цикла природы, проекция будущего, а в рамках циклического мышления – и прогностического видения (семантика, которую несут в себе карты в функции гадания). Неслучайно именно весна и осень явились темами двух других полотен Ларионова этого времени и позднее [илл. 29, 30]. Если принять тезис, что художник намеренно выделяет переходные, пограничные состояния природы, весь цикл выстраивается как автометаописание раннего авангарда как сдвига историко-художественной парадигмы и новой стадии в развитии искусства. Здесь речь доминирует над языком, и отсюда – акцент на весне как метафоре новой художественной парадигмы, а также осени как времени «сбора плодов» нового направления.
28. О. Розанова. Дама пик. Из цикла «Игральные карты». Б.д.
Весна и осень, как время переходности, полутонов, недосказанности, превалирования неясности над ясностью, вчувствования над рациональностью, а тем самым, усиленной семиотичности, освоены символизмом (в противоположность реализму натуральной школы, делающей акцент на зиме и лете). И то, и другое – агенты пограничных состояний в коде времен года, соответствующих брачной символике. Брачная семантика, реализованная в цикле, высвечивает символику перехода. У М. Ларионова весна как настоящее и осень как плодоносное будущее переосмысляются в кодах изобразительности в качестве агентов перемен, совмещающих циклическое и линейное время, что соответствует катахрестической авангардной поэтике. Время осмысляется в пространственных категориях, акцентируя принцип дискретности как таковой. Вряд ли будет большим преувеличением сказать, что своим акцентированием дискретности эта серия предвосхищает «Черный квадрат» Малевича, который появится на три года позже. Дискретность проявляется и в выборе в пользу граничных состояний и маргинальных тем-мотивов, совпадая с символизмом (и многое наследуя от него), смещая акценты. Цикл «Времена года» М. Ларионова фиксирует и описывает все эти приметы становления новой поэтики в категориях народно-мифологического сознания, реализуя их на всех уровнях организации художественного текста.
В истории европейской живописи тема времен года решается в широком диапазоне символического осмысления – от высокого космологического обобщения (от Брейгеля до Чюрлиониса) до низового тривиального. На пересечении этих уровней – используя наследие мифопоэтики символизма и при этом оспаривая символизм в рамках освоения низового поля культуры – реализовывал свою поэтику авангард, в частности, русский авангард.
29. М. Ларионов. Весна. 1912
30. М. Ларионов. Осень счастливая. 1912
В мифологической модели мира времена года выступают как универсальная метафора, расширяющая базовые бинарные отношения по аналогии с развернутыми суточными делениями (ночь/день, а также ночь/утро/день/вечер) на жизненные циклы человека (жизнь-смерть как детство-молодость-зрелость-старость). Аналогичные проекции можно сделать и в отношении циклических смен художественных формаций (и крупных идеологем), каждая из которых претерпевает период зарождения в недрах другой формации (который можно сравнить с весной), процесс созревания поэтики (лето), кульминацию своего развития (осень) и стагнацию (зиму). В литературе Серебряного века и в последующую эпоху такие метафорические переносы времени года на состояние художественного или более широкого духовного процесса встречаются особенно часто. В книге воспоминаний С. Н. Дурылина «В своем углу» находим: «Не только снег тает. Все тает. Так, истаяла русская поэзия. Истаяла русская культура. Истаяла Россия». И далее в «Тетради IV» («Афоризм 8», «Афоризм 9») о В. Розанове: «Христианство не догорело и чадит, – как думал Василий Васильевич. – Оно не коптит. Оно тает. От лучей какого же солнца? О, как страшно! Какого-то. Но тает, тает, – и не оттого, что “дворники делают весну” в городе… Тает и в городе, и в деревне, на холмочках, на ложбинках, даже в глубоких ложках… Всюду тает… И как задержать это таянье? Тает. Вот и все» [Дурылин 2006]. Обратим внимание, что ведущей метафорой, описывающей угасание, становится весна, функционально сближенная с осенью, и потому новое здесь отрицательно маркировано. Дурылин (1886–1954) принадлежит традиции Серебряного века, и хотя Ларионов (1881–1964) близок ему по дате рождения, он – вестник уже совсем другой эпохи. Он тоже сближает весну и осень, но совсем по другому основанию: переходное состояние природы осмысляется в его цикле как ритуал rite-de passage, проецируемый на зарождающуюся художественную формацию.
В исторические эпохи высокой рефлексии созревание новой художественной парадигмы осознается носителями новой поэтики. Очевидно, так произошло и с авангардом, примером чего может служить цикл произведений Михаила Ларионова «Времена года», созданным в переходную эпоху начальной стадии – весны – авангарда. Интересно, что при этом – в соответствии с закономерностями пограничных пространственно-временных зон – в полной мере проявляется мифологический тип мышления, который, однако, имеет свои особенности, соответствующие задачам выработки нового художественного языка.
Глава 4. Натюрморт Георгия Рублева «Письмо из Киева» как анаграмма
Поиски зашифрованного в изображении сообщения неизбежно выводят исследователя на проблему границ произведения, которые определены типом той или иной поэтики, в русле которой оно создано. Однако в качестве «текста» произведение живописи может иногда быть «прочитано» за пределами своих собственных рамок (как физической рамы-обрамления, так и рамки семантической). В настоящей главе речь пойдет об одном случае скрытых изображений в живописном нарративе, которые можно уподобить анаграмме в литературе и которые реализуют определенную коммуникативную модель, предполагающую привлечение к анализу широкого контекста – всего творчества автора. Этот контекст выстраивается как текст нового, более высокого уровня, и смыслы отдельных произведений, которые служат раскрытию тайных механизмов «дешифровки», не сводятся к простой их сумме: они требуют учета дополнительных коннотаций.
В своей статье «Вещь в антропологической перспективе: апология Плюшкину», а также в ряде других замечательных работ, Владимир Николаевич Топоров рассматривал мир вещей, создающих космос человека, в аспекте времени (Топоров 1995). Вещь – это и память, и материализованное время индивидуального существования. Опираясь на эти соображения, можно сказать, что в представлении вещей в изобразительном искусстве создается многоуровневая повествовательность: вещи рассказывают нечто, образуя сложную нарративную конструкцию, где каждая из них – и персонаж, имеющий свой «голос» в составе повествования, и скрепа в парадигматических рядах, и скрытая семантизация временного потока как такового [Николаева 2012]. Тем самым изображение, пространственное по своей природе, получает расширение, присваивая и время, т. е. приспосабливая коммуникативный механизм искусства слова как основанного преимущественно на темпоральности (см. главу 1 настоящего раздела). Такова повествовательность вещей в картине Георгия Рублева «Письмо из Киева» (1930), хранящейся в Третьяковской галерее [илл. 31]. Композицию можно уподобить тайнописи – она изобилует скрытыми смыслами.
31. Г. Рублев. Письмо из Киева. 1930
Несколько предварительных замечаний. Существует целый ряд эпох и художников, реализующие многообразные скрытые смыслы в формах разнообразных оптических обманок и визуальных тайнописей. К ним в первую очередь относятся европейский маньеризм и картины-перевертыши Д. Арчимбальдо (в одной из них, например, при переворачивании картины портрет мужчины превращается в вазу с фруктами), а также уже упоминавшееся произведение Х. Гольбейна Младшего (имеем в виду картину 1533 года «Послы», где неясный предмет на первом плане в развернутой проекции оказывается изображением черепа). К скрытым изображениям следует причислить и разнообразные зеркальные и анаморфические трансформации формы в барокко (о чем много писал Ю. Балтрушайтис [Baltrusaitis 1984], а в недавнее время – М. Ямпольский [Ямпольский 1996]. Зашифрованные картинки вошли в моду и в наполеоновской Франции, где в букетах цветов зрителю надлежало найти портрет императора [Ситникова 2008]. В ХХ веке оптические трюки со скрытыми изображениями ожили в сюрреализме – например, у С. Дали в картине «Невольничий рынок с незримым бюстом Вольтера» (1940, холст/масло, Музей Сальвадора Дали, Сент-Питерсберг), где в группе людей на дальнем плане видится портрет французского мыслителя, а затем в многочисленных играх с пространством Р. Магритта и М. Эшера. Примечательно, что такого рода мастера обычно практикуют тип поэтики, отмеченной доминантой словесного начала в искусстве, и властью слова отмечены целые эпохи, к которым они принадлежат. Изображения людей и вещей в этих зашифрованных визуальных «сообщениях» обладают повышенным коммуникативным потенциалом. Однако и в другие эпохи возникают неожиданные виды визуальных игр. К таким эпохам относится, например, конец 1920-х годов в советской России.
Живопись этого времени – в соответствии с «горячим» типом самой эпохи – отмечена резким повышением коммуникативного статуса. Художники поставангарда, учившиеся у мастеров первого и второго поколения творцов нового искусства, представили в своем творчестве своеобразную противофазу исторического авангарда, при этом оставаясь в рамках той же самой парадигмы. В отношении взаимодействия слово/вещь это выразилось в том, что на смену футуристическому принципу «слово как вещь» пришел зеркальный принцип «вещь как слово». Изображенные на картинах предметы быта буквально «заговорили», рассказывая свои истории. Если, по убеждению В. Кандинского, линия становится вещью, «обладающей таким же практически-целесообразным смыслом, как и стул, колодец, нож, книга» [Кандинский 1919: 2] (цит. по: [Ханзен-Лёве 2001: 72]), то десятилетием позже прошедшие через опыт футуристического бунта 1910-х вещи мирно сложились в натюрморты Д. Штеренберга, М. Ларионова. Они формируют вещный нарратив, своеобразно хранящий память об авангардном сокрушении всех и всяческих пределов. Прошедшая через опыт беспредметности, обнажения своего истинного, не-вещного лица, живопись представила предметы быта в поставангардном натюрморте, разрушая ожидания. Зритель настраивается на двойное сальто-мортале: за вновь обретенной натурой ему видится преображенная абстракция, не вернувшаяся к природе, а трансформированная ею и породившая квазиприродную форму, еще более удалившуюся от «реалистического» восприятия мира в XIX веке, чем беспредметность. Такого рода двойным пересечением границ, и прежде всего семиотических границ картинного пространства, отмечено творчество Георгия Рублева. Полотна этого мастера 1920–1930-х годов представляют интерес с точки зрения рассказов вещей, которые принимают форму скрытого изображения.
Как известно, натюрморт – это жанр, лежащий на пересечении различных семиотических процессов, и он активизируется в определенные эпохи [Лотман 2002а; Bobryk 2011]. Такой эпохой для данного жанра стал рубеж 1920–1930-х годов в России. Это время испытания изображения на истинное/неистинное, что соответствует тектоническим сдвигам в социально-политической сфере страны, поставившим под вопрос основы бытия, это и особый статус вещи в ситуации исторической катастрофы. Известно, что именно в грозовые годы возникает изоляция вещей из своего утилитарного окружения и о ней сигнализирует. Повышается семиотический статус как самих предметов, так и отношений между ними. Примером могут служить домашние вещи людей, отбывавших в 1930-е годы свой срок в сталинских лагерях и описанных в произведениях Варлама Шаламова [Злыднева 2011в], или бытовые предметы, например, молочные бидоны, которые десятилетием позже брали с собой в изгнание экстрадированные народы и в которых утилитарная функция полностью вытеснялась символической [Курсите 2009]. В натюрморте переломного и изобилующего потрясениями времени конца 1920-х годов семиозис вещи особенно активен, значение бытового предмета возводится в квадрат и при этом встраивается в противофазу поэтики исторического авангарда. Это означает, что повышение коммуникативного статуса изображения следует рассматривать в перспективе памяти о тех сдвигах в поэтике, которые нарушили привычные границы не только жанра, но и вида искусства, а также онтологической природы изображения, и радикально расширили рамки повествования отдельного полотна как «текста».
Драматизм вещных нарративов картин Г. Рублева под стать драматической судьбе их автора. Георгий Рублев (1902–1975) родился в Липецке, учился во ВХУТЕМАС’е, в 1920-е годы участвовал в разнообразных художественных объединениях, разрабатывающих проблемы новой фигурации, критиковался за формализм, однако в 1930-е годы резко изменил свои позиции и начал выполнять государственные заказы на оформление парадов, праздников, монументальных росписей в общественных постройках (в частности, по его проектам оформлена станция метро «Серпуховская»). Цикл работ конца 1920-х – начала 1930-х годов до поры до времени хранился у художника дома и был обнародован только с приходом новых времен, сразу став сенсацией: поразили гротескная манера мастера, двусмысленная трактовка злободневных сюжетов и загадочность общего смысла. Такого рода необычностью отмечена прежде всего картина «Письмо из Киева». В восприятии современного зрителя, улавливающего в изображении нечто зловещее, картина ассоциируется с атмосферой надвигающегося сталинского террора. Тема страшного становится в эти годы одной из доминирующих в советской живописи [Злыднева 2007]. Однако полотно, о котором идет речь, едва ли прочитывалась в этом ключе современниками, для которых трагические события, последовавшие после года ее создания, были закрыты неясными очертаниями грядущего.
Произведение не допускает однозначного толкования, и его можно причислить к жанру натюрморта лишь условно – композиция составлена из отдельных предметов различного назначения, равномерно разложенных каждый по отдельности на круглом столе подобно экспонатам в музейной витрине, напоминает скорее ребус или криптограмму, нежели картинку быта. Набор вещей невелик: ножницы, катушка красных ниток, чашка, три лимона, печатная брошюра под заголовком «Политдоклад Сталина 27 июня 1930» и письмо с адресом «Москва Егору Рублеву из Киева». Все слова изображены написанными от руки.
В композиции доминирует принцип дискретности, что соответствует примитивистской манере, в которой решено полотно: поверхность стола дана в проекции сверху, а трактовка предметов нарочито огрублена, и вещи словно подвешены на ниточках. Дискретность отсылает к алфавитному письму, так что каждый предмет выполняет функцию отдельного письменного знака (это тот самый принцип, который был описан на примере живописи раннего М. Ларионова в предыдущей главе). Однако граница округлой столешницы, объединяющая и изолирующая вещи от прямоугольной рамки полотна, служит указанием на их связанность в пределах единого целого, ведь круг – это маркированное отграничение, снимающее оппозицию правое/левое, а тем самым, ликвидирующее и координаты внешнего пространства, которое простирается за пределы полотна. Благодаря этому отграничению создается нечто вроде иероглифа. Таким образом, непрерывное (уподобленность изображения иероглифу) сочетается здесь с дискретным началом (в отделенных друг от друга вещах, знаках алфавитного письма и словах). Письменный текст (как дискретный) тем самым становится значимым звеном изображения (континуального по своей природе). Эта двойственность референции (денотатов) определяет и двойственность смыслов (коннотаций) представленного на картине.
Дискретность соответствует природе изображенных на полотне вещей, две из которых принадлежат к письменной культуре: брошюра и письмо. Они не только вводят мотив печатно-рукописной продукции, но и иконически его представляют посредством написанных от руки словосочетаний. Таким образом, синтагматика изображения находит соответствие в ее семантике, и возникает рамочно-кольцевая конструкция семиотических рядов: набор/каталог предметов уподоблен иероглифическому тексту, внутри которого находятся еще два уже в прямом смысле письменных текста, из которых один – печатный доклад, а второй принадлежит к эпистолярному (рукописному) жанру. Если первый, от лица Сталина, адресован массе однопартийцев (и всему народу) и реализует коммуникацию «Я» – «Мы», то второй основан на отношении «Я» – «Ты». Перед нами – рассказ-обращение. Ответ на вопрос, о чем именно этот рассказ, требует послойного анализа.
Набор разнородных вещей образует несколько парадигм. Общий ассоциативный ряд – антропологический: это предметное окружение человека, включенного в актуальную политическую действительность и обладающего активным кругом общения. Парадигма антропоморфизма объединяет все вещи посредством телесного кода: рука метонимически обозначена инструментами (ножницы и моток ниток), рот – посредством чашки, глаза – письмом, голос – докладом, пищеварение – фруктами на первом плане. Рукописность текстов, включенных в изображение, акцентирует руку дополнительно и служит метонимией профессии автора (художник «рукотворит»). Сочетание телесного (рука, рот/голова) и ментального (доклад как речь, письмо как коммуникация) создает энантиосемию изображения[11 - Здесь мы предпринимаем попытку применить к материалу искусства лингвистический термин, активно употребляемый в работах Т. В. Цивьян [Цивьян 2012].], в которой знаки материи одновременно отмечают и противоположный им символический план.
Наряду с общей парадигмой имеет место и ряд субпарадигм, объединяющих отдельные предметы по парам или в более длинные цепочки. Парадигматические ряды выстраиваются прежде всего на уровне визуальной формы. Колорит базируется на полноте мифологической триады – красное, черное, белое. Набор форм предметов тоже наделен полнотой: представлены основные геометрические фигуры – круг, квадрат и треугольник. Треугольник ножниц противопоставлен квадратам брошюры и письма, а также круга чашки, столешницы, фруктов. Ритм сочетания черного и красного описывается схемой АВВА и задает драматизм семантической ауры. Желтый фон столешницы нейтрализует этот накал и вносит значимое нарушение в ритмический рисунок: желтая полоска на чашке перекликается с фруктами на первом плане. Чашка и ножницы объединены черным цветом и маркированной крайней (левое и правое) позициями в композиции, они также образуют своего рода антонимы формы, являя собой в первом случае (ножницы) форму с открытым контуром, а во втором (чашка, близкая к кругу) – с закрытым. Таким образом, формальное решение композиции, обнаруживающее хорошую авангардную школу художника, подчинено ритмическому чередованию противопоставлений и уподоблений.
Таковы и субпарадигмы вещей с точки зрения их семантики. В изображениях доминирует то утилитарный уровень (обозначим его как уровень 1), то символический (уровень 2), а иногда они накладываются друг на друга. Так, ножницы + нитки образуют 1 уровень: портняжные инструменты. Впрочем, нить, как символический знак пути, может быть перерезана ножницами, так что 2 – символический – уровень тоже обозначен. На 2 уровне располагается также и парадигма красные нитки + доклад, которые можно объединить фразеологизмом «красной нитью» для характеристики развития мысли или «плетение словес». Чаша + нить можно прочесть символически: они репрезентируют путь, судьбу человека. Интересно, что те же предметы – ножницы и моток ниток – можно обнаружить и в натюрморте Г. Рублева «Шитье» (1929, ГТГ), написанном на год раньше, где эти предметы целиком мотивированы сюжетом. В картине «Письмо из Киева» эти вещи осмыслены уже на уровне не визуальной формы, а речи, т. е. выступают как визуальные идиомы.
Парадигма ножницы + письмо, казалось бы, реализует лишь утилитарное значение: письмо разрезают ножницами, чтобы осуществилась его коммуникативная функция. Между тем, ряд литературных примеров этого времени указывает на символическую семантику и данной связки. Так, у такого во всем далекого от Г. Рублева писателя, как М. Осоргин, в его написанном в эмиграции рассказе «Вещи человека», соединение ножниц и письма отсылает к мотивам ущерба, утраты, смерти: «Ножницами она перерезала тонкую бечевку, и пачка писем рассыпалась… вся пачка продолжала жить только как вещь, которую пожалели» (о вдове, разбирающей вещи покойного мужа) [Осоргин 1990: 455]. В другом его рассказе – «Пенсне» – о смерти речи нет, однако реализована та же связка в аспекте очеловеченных предикатов: «Что вещи живут своей особой жизнью – кто же сомневается? Часы шагают, хворают, кашляют, печка мыслит, запечатанное письмо подмигивает и рисуется, ножницы кричат (курсив мой. – Н. З.), кресло сидит, с точностью копируя старого толстого дядю, книги, дыша, ораторствуют, перекликаются на полках» [Осоргин 1990: 531]. Можно предположить на картине Г. Рублева связка ножницы + письмо реализует символический уровень значений этих вещей в роли самостоятельно действующих персонажей, наделенных негативной коннотацией. Однако у Осоргина утрата вещами хозяина в рассказе «Вещи человека» выстраивает рассказ в рамках минус-пространства и минус-времени. У Рублева, напротив, время предельно актуализировано: дата лежащего на столе политдоклада совпадает с реальными историческими событиями – XVI съездом ВКП(б), одновременными с созданием картины, чем все повествование помещается в режим реального времени и акцентировано как сугубо актуальное, настроенное на позитив будней.
Отдельную парадигму образуют вербальные тексты – название брошюры и надпись на конверте. Вслед за полнотой круглящейся формы, содержащиеся в них сведения описывают полноту пространственно-временных координат и именных адресов: имеет место два топонима (Киев, Москва), точечное время (27 июня 1930 года) и два имени собственных, из которых одно (Егор Рублев) – просторечный вариант имени автора (Егор вместо Георгий), а второе – наоборот, возвышенное (политический псевдоним) имя вождя, так что это уже не совсем имя, а скорее символический знак власти, что поддержано и соединением имени Сталина с Москвой (= Кремль). Не вполне понятно, почему в качестве местонахождения адресанта указан именно Киев. В контексте обозначенной в картине речевой практики (рукописность как подобие речи в визуальном коде) Киев можно трактовать как знак просторечия, учитывая, что этот топоним часто встречается во фразеологизмах и речевых клише типа «Язык до Киева доведет», «В огороде бузина, а в Киеве дядька», «тетя из Киева» и т. п. В этом случае Киев, наряду со сниженным именем Егор, является еще одним указанием на речевую природу этой картины как изобразительного «высказывания».
Изображение можно уподобить устной речи и по признаку стилизации примитива в стиле композиции. Известно, что в эти годы Г. Рублев был увлечен творчеством «наивного» грузинского художника Нико Пиросмани. В духе примитива решены и многие другие произведения мастера, среди них – «На даче» (1929), «Парикмахерская» (1928), «Ликбез» (1930) [илл. 32]. Кроме того, в конце 1920-х годов примитивизм в его профессиональном изводе, т. е. в творчестве образованных художников, нашел широкое распространение в русском искусстве. Отчасти причиной тому стало сворачивание формальных поисков авангарда и обращение к «народному» стилю непрофессионалов оправдывало условности художественного языка. В подобном русле развивалось, например, творчество Д. Штеренберга, С. Адливанкина, С. Никритина и мн. др. Г. Рублев активно вводил в свои примитивистские полотна вербальные фрагменты: например, в картине «Ликбез» учащаяся крестьянка выводит на доске мелом оборванную фразу: «Горячий привет 16 парт» (это именно тот партсъезд, доклад на котором лежит на столе в рассматриваемой картине!) [илл. 33]. Совмещение стиля примитива и словесных врезок характерно и для других мастеров. Так, композиция картины С. Адливанкина «Трамвай Б» (1922, ГТГ) не только включает в себя название, которое фигурирует на изображении вагончика, наряду с вывесками стоящих поодаль магазинов, но здесь же красуется и подпись художника, что впрямую перекликается со способом введения имени автора в картине Г. Рублева [илл. 34].
32. Г. Рублев. На даче. 1929
33. Г. Рублев. Ликбез. 1930
34. С. Адливанкин. Трамвай Б. 1922