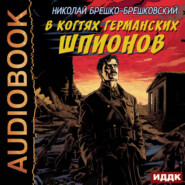По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В сетях предательства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Постой, постой, Мисаил, а что ты скажешь на Искрицкую?
– О, вот это я понимаю! Вот это я понимаю! – привскочил в кресле банкир. – Теперь это самая модная женщина в Петербурге. Ею только и держится оперетка, на нее ходят, на нее смотрят, ею любуются. О, это как раз то, что мне нужно!
– Но она живет с каким-то Корещенко?..
– Во-первых, совсем не с каким-то… Имей в виду, у этого Корещенко три-четыре миллиона, хорошеньких, чистеньких, как стекло! А во-вторых, что значит живет? Я же с ней жить не собираюсь, она мне нужна для рекламы. Я буду с ней кататься, иногда ужинать. Пускай говорят, пускай, что и требуется доказать! А если она живет с ним, – нехай живет! Только бы не очень афишировали себя, а для меня это еще лучше – дешевле! Я положу ей две тысячи рублей. Кажется, довольно, чтобы нас иногда видели на людях и чтобы о нас говорили. Ну, значит, мы принципиально остановились. Теперь дальше: уже лето, что мы делаем летом? Надо успеть показаться в Кисловодске, в Ялте, пожить здесь где-нибудь на даче. Потом Лидо, Карлсбад и к осени – Биарриц. Когда это мы все успеем? А надо успеть, чтоб нас везде видели.
– Это ужасно! – вздохнула Сильфида Аполлоновна, тяготевшая к сидячей спокойной жизни, не в пример своему живому, энергичному, постоянно в движении супругу.
– Что делать, Сильфида? Шапка Мономаха! Мы должны ее носить, как бы это ни было подчас тяжело. Да, я упустил из виду – Париж! Там надо будет недельки на две показаться в сезон русских спектаклей в Елисейском театре, и, кроме того, мои личные дела потребуют Парижа.
– Хорошо, – кротко согласилась жена, всегда и во всем соглашавшаяся со своим мужем, который был для нее оракулом.
– Теперь дальше. Знаешь, какая пришла мне в голову мысль?..
– Какая?
– Нам пора, тобою переменить фамилию.
– Что такое?
– Я говорю, надо переменить фамилию. Айзенштадт – звучит немного по-немецки. Надо что-нибудь русское.
Долго совещались и не могли ничего выдумать. Вдруг Мисаил Григорьевич просиял, хлопнув себя по лбу.
– Есть! Нашел! И как просто – Железноградов! Железноградов – это звучит, и в этом что-то, знаешь, что-то церковное. Мисаил Григорьевич Железноградов, Сильфида Аполлоновна Железноградова.
– Мисаил, это гениально! – воскликнула жена.
– А ты думаешь? Погоди, это еще не все. Камергер его святейшества папы римского Мисаил Григорьевич Железноградов! Что, разве плохо? Кстати, я получил письмо из Рима от аббата Манеги. Солидный человек, деловой человек! Не успел приехать и уже написал. Будет сделано! Через каких-нибудь две-три недели твой супруг папский камергер. Надо будет перевести ему кое-что авансом. Знаешь, красивый, очень красивый мундир и два ключа с папской тиарой. Тогда я могу бывать на всех парадных приемах. Это уже почти, как если бы я находился в Дипломатическом корпусе. А чтобы совсем принадлежать к дипломатическому корпусу, ничего не может быть легче. Тоже придется заплатить. Я могу сделаться местным консулом какой-нибудь южноамериканской республики, и тогда у меня будет еще один мундир. Я могу их менять, сегодня – в одном, завтра – в другом. Ну, есть же там малюсенькие такие республики. Что им мешает, если я буду их представителем в Петербурге? Кому от этого убыток?
– Решительно никому!
От удовольствия, что муж ее будет совмещать в особе своей папского камергера с консулом южноамериканской республики, она стала такой же пунцовой, как и ее капот.
А Мисаил Григорьевич подлил масла в огонь:
– Иногда я могу сажать на козлы кареты или машины выездного лакея – они называются егерями, в ливрее с кортиком и в треуголке с перьями.
– А у кучера будет расшита спина золотыми углами? – подхватила Сильфида Аполлоновна.
– Натурально же будет! Иначе нельзя. Что полагается, то полагается! Божество мое, Сильфидочка, ты моя семипудовая, надо уметь жить! Денег одних еще мало. Нужно иметь еще на плечах голову. Итак, Искрицкая, ключи с папской тиарой, егерь с петушиными перьями и кучер, у которого будет золотая спина…
Айзенштадт появился на петербургском горизонте недавно, лет восемь-девять назад. Он приехал из какого-то южного города, Балты или Тирасполя, а может быть, Херсона, Николаева и даже Екатеринослава. Но не все ли равно, какой из этих городов будет оспаривать честь называться родиною Мисаила Григорьевича Айзенштадта, камергера при ватиканском дворе и консула какой-нибудь экзотической республики, а главное – талантливейшего банкира, сумевшего из ничего создать миллионы!
В бытность свою гимназистом последнего класса Айзенштадт занимался репортажем в местной газете. Он выдвинулся, и тогда уже говорили:
– О, этот мальчик пойдет далеко!..
Приехал в город новый архиерей, человек нрава сурового и мало доступный. А редактор, хоть умри, да подай беседу с его преосвященством.
Трех интервьюеров не принял архиерей. Четвертым вызвался Айзенштадт. Все сулили ему провал.
Через полчаса гимназист ушел обласканный и с материалом на сто пятьдесят строк.
– Чем ты обворожил его? – спросил редактор, говоривший своим сотрудникам «ты».
Юноша торжествующе усмехнулся.
– Я ему с места в карьер заявил, что хочу креститься в православие.
Это свое желание Мисаил Григорьевич осуществил много лет спустя, предварительно, однако, испробовав лютеранство.
Достигши денег и власти, той власти, которая дается деньгами, он решил завести свою собственную газету. Но пока что это было в туманных грезах, более туманных, чем грезы о красивых мундирах и ключах с папской тиарой.
Мисаил Григорьевич любил обращать на себя внимание. Он громко смеялся, громче, нежели это вообще полагается.
В театр, на благотворительный концерт, в балет он всегда умышленно опаздывал, появляясь с шумом и треском. Чем больше голов поворачивалось в его сторону, тем лучше достигалась цель.
Кто-то когда-то и где-то бил его. А может быть, не раз били, а может быть, и никогда этого не случалось. Но так ли, нет ли, ходил по городу анекдот, сочиненный врагом Айзенштадта миллионером Иссерлисом.
Будто бы спрашивают Айзенштадта:
– Мисаил Григорьевич, правда, что вас однажды всю ночь колотили?
– Когда это было?
– Говорят, в мае.
– В мае? Что вы хотите, какая же это ночь в мае? Совсем коротенькая!..
Айзенштадт знал и про этот анекдот и про многие еще, гулявшие по его адресу, но и в ус не дул себе. Пускай болтают, брань на вороту не висит и от слов ничего не станется.
Да еще и не было времени вдаваться в пересуды о нем. Кроме живейшего участия в собственном банке, он был деятельным участником разных финансовых и промышленных акционерных предприятий. Он был членом-соревнователем «Палестинского общества», интересовался детскими приютами, участью балканских славян. Где уж тут думать о сплетнях, распускаемых «друзьями», и в том числе Иссерлисом.
– Ах, этот Иссерлис! Нет-нет и, глядишь, встанет поперек дороги…
15. Перед грозой
Одну из самых маленьких, самых дешевых комнат в «Северном сиянии» занимал студент Политехнического института Милорад Курандич.
Лицо – смуглое, типичное южнославянское лицо. Взгляд больших темных глаз – горячий. Крупные, резкие черты.
Милорад Курандич – серб. Для студента вовсе не так уж молод. Тридцать четвертый год пошел.
Он высок, широкоплеч. Сильному, хорошо сложенному сербу тесно в скромном студенческом пальто не первой новизны и свежести.
Загорский случайно разговорился в коридоре с Курандичем, а потом Курандич зазвал его к себе как-то вечером. Загорский шел к студенту без всякого интереса. Ничего не ждал от беседы и впечатлений.
– О, вот это я понимаю! Вот это я понимаю! – привскочил в кресле банкир. – Теперь это самая модная женщина в Петербурге. Ею только и держится оперетка, на нее ходят, на нее смотрят, ею любуются. О, это как раз то, что мне нужно!
– Но она живет с каким-то Корещенко?..
– Во-первых, совсем не с каким-то… Имей в виду, у этого Корещенко три-четыре миллиона, хорошеньких, чистеньких, как стекло! А во-вторых, что значит живет? Я же с ней жить не собираюсь, она мне нужна для рекламы. Я буду с ней кататься, иногда ужинать. Пускай говорят, пускай, что и требуется доказать! А если она живет с ним, – нехай живет! Только бы не очень афишировали себя, а для меня это еще лучше – дешевле! Я положу ей две тысячи рублей. Кажется, довольно, чтобы нас иногда видели на людях и чтобы о нас говорили. Ну, значит, мы принципиально остановились. Теперь дальше: уже лето, что мы делаем летом? Надо успеть показаться в Кисловодске, в Ялте, пожить здесь где-нибудь на даче. Потом Лидо, Карлсбад и к осени – Биарриц. Когда это мы все успеем? А надо успеть, чтоб нас везде видели.
– Это ужасно! – вздохнула Сильфида Аполлоновна, тяготевшая к сидячей спокойной жизни, не в пример своему живому, энергичному, постоянно в движении супругу.
– Что делать, Сильфида? Шапка Мономаха! Мы должны ее носить, как бы это ни было подчас тяжело. Да, я упустил из виду – Париж! Там надо будет недельки на две показаться в сезон русских спектаклей в Елисейском театре, и, кроме того, мои личные дела потребуют Парижа.
– Хорошо, – кротко согласилась жена, всегда и во всем соглашавшаяся со своим мужем, который был для нее оракулом.
– Теперь дальше. Знаешь, какая пришла мне в голову мысль?..
– Какая?
– Нам пора, тобою переменить фамилию.
– Что такое?
– Я говорю, надо переменить фамилию. Айзенштадт – звучит немного по-немецки. Надо что-нибудь русское.
Долго совещались и не могли ничего выдумать. Вдруг Мисаил Григорьевич просиял, хлопнув себя по лбу.
– Есть! Нашел! И как просто – Железноградов! Железноградов – это звучит, и в этом что-то, знаешь, что-то церковное. Мисаил Григорьевич Железноградов, Сильфида Аполлоновна Железноградова.
– Мисаил, это гениально! – воскликнула жена.
– А ты думаешь? Погоди, это еще не все. Камергер его святейшества папы римского Мисаил Григорьевич Железноградов! Что, разве плохо? Кстати, я получил письмо из Рима от аббата Манеги. Солидный человек, деловой человек! Не успел приехать и уже написал. Будет сделано! Через каких-нибудь две-три недели твой супруг папский камергер. Надо будет перевести ему кое-что авансом. Знаешь, красивый, очень красивый мундир и два ключа с папской тиарой. Тогда я могу бывать на всех парадных приемах. Это уже почти, как если бы я находился в Дипломатическом корпусе. А чтобы совсем принадлежать к дипломатическому корпусу, ничего не может быть легче. Тоже придется заплатить. Я могу сделаться местным консулом какой-нибудь южноамериканской республики, и тогда у меня будет еще один мундир. Я могу их менять, сегодня – в одном, завтра – в другом. Ну, есть же там малюсенькие такие республики. Что им мешает, если я буду их представителем в Петербурге? Кому от этого убыток?
– Решительно никому!
От удовольствия, что муж ее будет совмещать в особе своей папского камергера с консулом южноамериканской республики, она стала такой же пунцовой, как и ее капот.
А Мисаил Григорьевич подлил масла в огонь:
– Иногда я могу сажать на козлы кареты или машины выездного лакея – они называются егерями, в ливрее с кортиком и в треуголке с перьями.
– А у кучера будет расшита спина золотыми углами? – подхватила Сильфида Аполлоновна.
– Натурально же будет! Иначе нельзя. Что полагается, то полагается! Божество мое, Сильфидочка, ты моя семипудовая, надо уметь жить! Денег одних еще мало. Нужно иметь еще на плечах голову. Итак, Искрицкая, ключи с папской тиарой, егерь с петушиными перьями и кучер, у которого будет золотая спина…
Айзенштадт появился на петербургском горизонте недавно, лет восемь-девять назад. Он приехал из какого-то южного города, Балты или Тирасполя, а может быть, Херсона, Николаева и даже Екатеринослава. Но не все ли равно, какой из этих городов будет оспаривать честь называться родиною Мисаила Григорьевича Айзенштадта, камергера при ватиканском дворе и консула какой-нибудь экзотической республики, а главное – талантливейшего банкира, сумевшего из ничего создать миллионы!
В бытность свою гимназистом последнего класса Айзенштадт занимался репортажем в местной газете. Он выдвинулся, и тогда уже говорили:
– О, этот мальчик пойдет далеко!..
Приехал в город новый архиерей, человек нрава сурового и мало доступный. А редактор, хоть умри, да подай беседу с его преосвященством.
Трех интервьюеров не принял архиерей. Четвертым вызвался Айзенштадт. Все сулили ему провал.
Через полчаса гимназист ушел обласканный и с материалом на сто пятьдесят строк.
– Чем ты обворожил его? – спросил редактор, говоривший своим сотрудникам «ты».
Юноша торжествующе усмехнулся.
– Я ему с места в карьер заявил, что хочу креститься в православие.
Это свое желание Мисаил Григорьевич осуществил много лет спустя, предварительно, однако, испробовав лютеранство.
Достигши денег и власти, той власти, которая дается деньгами, он решил завести свою собственную газету. Но пока что это было в туманных грезах, более туманных, чем грезы о красивых мундирах и ключах с папской тиарой.
Мисаил Григорьевич любил обращать на себя внимание. Он громко смеялся, громче, нежели это вообще полагается.
В театр, на благотворительный концерт, в балет он всегда умышленно опаздывал, появляясь с шумом и треском. Чем больше голов поворачивалось в его сторону, тем лучше достигалась цель.
Кто-то когда-то и где-то бил его. А может быть, не раз били, а может быть, и никогда этого не случалось. Но так ли, нет ли, ходил по городу анекдот, сочиненный врагом Айзенштадта миллионером Иссерлисом.
Будто бы спрашивают Айзенштадта:
– Мисаил Григорьевич, правда, что вас однажды всю ночь колотили?
– Когда это было?
– Говорят, в мае.
– В мае? Что вы хотите, какая же это ночь в мае? Совсем коротенькая!..
Айзенштадт знал и про этот анекдот и про многие еще, гулявшие по его адресу, но и в ус не дул себе. Пускай болтают, брань на вороту не висит и от слов ничего не станется.
Да еще и не было времени вдаваться в пересуды о нем. Кроме живейшего участия в собственном банке, он был деятельным участником разных финансовых и промышленных акционерных предприятий. Он был членом-соревнователем «Палестинского общества», интересовался детскими приютами, участью балканских славян. Где уж тут думать о сплетнях, распускаемых «друзьями», и в том числе Иссерлисом.
– Ах, этот Иссерлис! Нет-нет и, глядишь, встанет поперек дороги…
15. Перед грозой
Одну из самых маленьких, самых дешевых комнат в «Северном сиянии» занимал студент Политехнического института Милорад Курандич.
Лицо – смуглое, типичное южнославянское лицо. Взгляд больших темных глаз – горячий. Крупные, резкие черты.
Милорад Курандич – серб. Для студента вовсе не так уж молод. Тридцать четвертый год пошел.
Он высок, широкоплеч. Сильному, хорошо сложенному сербу тесно в скромном студенческом пальто не первой новизны и свежести.
Загорский случайно разговорился в коридоре с Курандичем, а потом Курандич зазвал его к себе как-то вечером. Загорский шел к студенту без всякого интереса. Ничего не ждал от беседы и впечатлений.