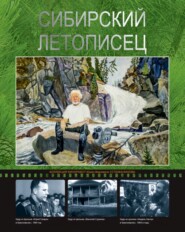По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Спасибо одиночеству (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Глава 18
Море шумело вокруг, шебуршало – поначалу так показалось. До слуха докатился отдалённый гул вокзала, напоминающий гудение прибоя; нестройные людские голоса шумели, словно под берегом шумела-перекатывалась галька. А за стенкой где-то рявкнул тепловоз, пронзительным криком своим ничуть не отличаясь от теплохода.
Затем кто-то настойчиво, властно потрепал по плечу. – Проснитесь, гражданин!
Степенный, строгий милиционер, приподнимая руку к тёмно-серебристому виску, представился и потребовал документы у гражданина, спавшего на деревянной вокзальной лавке.
Документы оказались в порядке, а вот глаза гражданина вызывали смутную тревогу и подозрение – заполошно рыскали, старясь не натыкаться на глаза старшины. Ещё раз внимательно пролистав документы, милиционер машинально взял под козырёк и попрощался, пожелав удачи.
«Лучше б ты меня арестовал!» – неожиданно подумал Полынцев, всё ещё находясь во власти прерванного жуткого сна.
Выйдя на улицу, он закурил, прочищая мозги дешевеньким каким-то горлодёром. Кошмарный сон, так вовремя оборванный милиционером, будто продолжал красной пеленою застилать глаза. Полынцев раза три подряд крепко зажмурился и только потом сообразил: перед ним висел малиновый плакат, рекламирующий очередную какую-то хренотень, без которой человек не может быть счастливым. Отвернувшись от плаката, он потоптался возле телефонной будки, потрескивая желто-червонным листарём – клёны облетали по-соседству.
С трудом припоминая нужный номер, Фёдор Поликарлович дозвонился до бывшей своей, сказал, что он здесь, в Петербурге. Звонок его не вызвал никаких эмоций на том конце провода. Вера Васильевна, его бывшая, говорила ровно, бесцветно, тихо. Полынцев еле-еле уловил суть разговора: бывшая как раз в эти минуты с сыном собиралась ехать на могилу дочери и они договорились встретиться возле метро, чтобы оттуда отправиться вместе.
Поглядев на огромные вокзальные часы, Полынцев решил прогуляться пешком – время есть.
Мелкий дождик начинал бросаться бисером, загоняя воробьёв и синиц под козырьки и застрехи ближайших строений, и только малые поганки да широконоски продолжали вольготно плескаться и плавать в каналах, куда опрокинулись голубые осколки осеннего неба, разбитого тучами. Холодный ветер будто с метёлкой прошёлся перед Полынцевым – со свистом расчищал дорогу, шаловливо вертел и гонял по асфальту рваные листья, приклеивал их к мокрым окнам, стенам и высоким рекламным щитам.
Страшный сон, который не удалось досмотреть, снова и снова душу бередил, когда Полынцев обращал внимание на большие новые дома – современные небоскрёбы, плотинами стоящие на пути волнообразных чёрно-фиолетовых и синеватых туч, со стороны Финского залива гонимых потоками сильного морского ветра.
Двигаясь к метро, он посмотрел на стену старого ленинградского дома, на котором висела памятная плита, будто поклёванная осколками от снарядов. Надпись на плите гласила: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!»
Сам не зная почему, он поспешил перейти на другую сторону улицы и при этом испуганно голову в плечи втянул – точно опасаясь артобстрела. Затем, уже неподалёку от метро, он остановился покурить под каменным козырьком – укрылся от дождя, который скороговоркой зачастил по жестяным чердакам, по щекам плакатов. Машинально поглядывая по сторонам, наверху замечая хвосты голубей, торчащие из укрытий, замечая зонтики прохожих, зацветающие огромными букетами на тротуарах, Полынцев отчего-то вздрогнул – даже сам не понял в первый миг. А затем усмехнулся, укоризненно качая головой: «Будь она проклята, эта привычка – вторая натура!»
Он увидел красочную вывеску редакции питерского журнала и так обрадовался, будто именно эту редакцию три дня, три ночи искал по городу.
Глава 19
«Мастерство не пропьёшь!» – говорят остряки, и в этой шутке есть большая доля правды – неприятная доля, нужно признаться. Много тяжких мыслей проносилось в голове, когда Полынцев собирался улетать, но всё-таки одна застряла – чисто практическая мысль, профессиональная. Если в кои то веки он вырвался в Питер, так необходимо это использовать на полную катушку – по редакциям побегать, потолкаться на киностудиях, предлагая свои работы, от которых у него распухла сумка, свинцово надрывающая руку.
Он был так зациклен на этих своих творческих работах, что порою становился то ли рабом, то ли роботом, для которого ничего другого не существовало на белом свете. И в ту минуту – оказавшись возле вывески журнала – Полынцев поймал себя на том, что собирается заскочить в редакцию; время есть, можно успеть. Здоровой частью мозга, не до конца ещё угробленного творчеством, он понимал, насколько циничен весь этот чертов профессионализм, въевшийся в душу. Понимал и всё же не мог перебороть «соблазн большого города» – сделал несколько шагов в сторону редакции.
Разозлившись на себя, он отвернулся от вывески и, проходя мимо каменной арки, заметил чахоточный костерок, слабо трепыхавшийся в глубине сырого, старинного двора-колодца. И тогда в нём что-то закричало – или кто-то в нём закричал – о том, что пора, наконец-то, покончить с этим цинизмом, с этим проклятым профессионализмом, из-за которого вся жизнь кувырком полетела.
Не давая себе опомниться, он быстро прошёл под каменной, гулкою аркой и, остановившись около костра, стал решительно, резко выбрасывать разношёрстную писанину.
Дворник с метёлкой появился откуда-то.
– О-о! – блаженно сощурился, потирая грязные ладони. – Погреемся!
Сырая бумага – под мелким дождём – плохо горела, чадила, но всё-таки пламя кусало, с хрустом жевало многолетнюю стряпнину – страницу за страницей, испещренную вдохновенной, порывистой клинописью. И чем сильнее разгоралось пламя, тем ярче отражалось в глазах Полынцева – там плясали золотые, сумасбродные чёртики. Что-то в нём торжествовало в ту минуту.
Он прикурил от костра «инквизиции» и хищновато прищурился, мысленно топча в себе остатки сожалений. Так ему! И только так! Сплюнув под ноги, Полынцев взял почти пустую свою сумку, отвернулся от огня и широкими шагами двинулся прочь, испытывая невероятное облегчение и даже чувство некого геройства – не всякий автор способен на такое самосожжение. И правильно, правильно он поступил. Надо было давно запалить жаркопламенный костёр инквизиции – испепелить к чертям собачьим всю эту «нетленку» и успокоиться, нормальной жизнью жить, детей растить. А он? Ведь если вдуматься, то просто ужас – на какую, в сущности, ерунду, мишуру и химеру он растратил свои силы, свою жизнь. «Я знаю про людей что-то такое, чего они не знают про себя!» – высокопарно и самонадеянно провозгласил он в туманной молодости. А что теперь? Ну, что ты знаешь, милый? Чем ты осчастливил нас, каким таким великим откровением ты озарил потёмки человеческой души?
И тут он неожиданно споткнулся на ровном месте. Споткнулся – и оглянулся. «Боже мой! – резануло по нервам. – Что я делаю?! Ведь это же горит вся моя сознательная жизнь, всё моё оправдание перед Всевышним!»
Полынцев плохо помнил, как метнулся по сырому двору, как падал, как стоял на четвереньках и поспешно выхватывал каштаны из огня – страницы, подёрнутые дымом и до сухого хруста уже закучерявленые жаром.
– Нашёлся тоже Гоголь, мать твою! – хрипел он, поплёвывая на обожжённые пальцы.
Дворник, опухший с похмелья, рядом стоял и под сурдинку посмеивался, глядя, как мужик на четвереньках ползает кругом костра и собирает то, что недавно выкинул.
– Перепутал, что ли, божий дар с яичницей? – удивился дворник, продолжая скалить прокуренные зубы, среди которых поблёскивала тёмно-желтая фикса, такая широкая, будто из ружейного патрона сделанная.
Фёдор Поликарлович так посмотрел на дворника – бедолага подавился смехом и закашлялся, отходя в сторонку от греха подальше.
Собирая обгорелые листы, Полынцев обратил внимание на кривые поэтические строки:
Звенела солнечная нить
И под луной цветы сияли,
И невозможно объяснить
Из-за чего мы так смеялись.
Нам было просто хорошо,
Поскольку дело молодое.
Как быстро век любви прошёл,
А вместе с ним и век покоя!
Порвалась солнечная нить,
А нитки снега вьются, вьются…
И невозможно объяснить
Из-за чего так слёзы льются!..
Поднявши ворот длинного, тёмно-голубого старого плаща, понизу окапанного грязью и водой, Полынцев понуро брёл по утреннему городу. Смотрел себе под ноги и временами видел странно опрокинувшийся мир: в лужах купола дрожали чистым золотом, небеса плескались рваной синевой. Трамвай над головою затрезвонил, когда Полынцев сутуло проходил по мокрым рельсам, где лежали насмерть зарезанные листья – красное раздавленное мясо. Затем заскрежетали тормоза машины, едва не сбившей горе-пешехода, бредущего на красный свет. Незрячими глазами глядя перед собой, он порою натыкался на прохожих, на фонарные столбы. Какая-то влюблённая парочка посмеялась над ним, говоря, что дяденька с утра уже поддатый.
«И мы тут смеялись!» – подумал дяденька, припоминая первую любовь, которая вот здесь, на этих мостах, перекрёстках и площадях жгла его юное сердце в пору белых, безумных ночей.
Остановившись, он закурил у гранитного сырого парапета, наклонился над холодной рябью узкого канала, где лебяжьим пухом плавали остатки тумана. Протёр глаза и посмотрел на солнце, восходящее над городом, на чёрный силуэт какого-то высотного здания.
И опять и опять – неожиданно ярко, подробно – вспоминал всё то, что недавно приснилось, то, что предстояло ещё сделать, или предстояло осознать, что этого делать не надо. Но как же – не надо? А что тогда надо? Лапки сложить и сидеть, ждать Божьей кары? А как же в таком случае понять священную Библию? «Мне отмщение, и аз воздам!» – «На мне лежит отмщение, и оно придёт от меня!» Разве не так проповедует Библия? Или я неправильно трактую церковно-славянские тексты?..
Решение о том, что делать дальше, Полынцев хотел принять позднее, ближе к вечеру – после того, как съездит на могилу дочери. А пока он шёл на встречу со своею бывшею семьёй.
Шёл медленно, устало, готовый плюхнуться на первую попавшуюся лавку и заплакать под тихим осенним дождём, так хорошо скрывающим слёзы.
Сквозь тучи пробивалось робкое шафрановое солнце.
Лужи слепящим светом вспыхивали, как прожектора, облепленные рваною листвой. На карнизах ворковали голуби, воробьи верещали. Утки плескались в каналах, ныряя за кормом, поплавками выставляли жирные зады.
Возле метро Полынцев увидел междугородний телефон-автомат и встряхнулся. В нём снова напрягались упрямые пружины, толкающие к действию. Боясь передумать, он начал дозваниваться до своего далёкого соседа, мысленно прося и умоляя всех богов, чтобы в эту минуту и связь не подкачала, и Самоха был бы на месте. И услышали боги его – всё в эту минуту срослось. Он представил, как Самоха, новоиспечённый сельский барин, руку тянет к трубке – бриллиантовый перстень в четыре «квадрата» сияет на указательном пальце.
– Семён! – твёрдо сказал Полынцев. – Я не приеду!
– Понял. Не дурак. – Самоха не удивился. – Значит, деньги за дом высылать?
– Обязательно! Делай всё, как мы договорились! – Лады. А ты?
– А я начинаю новую жизнь! У меня ведь здесь ещё сынок – Василир…
На том конце провода что-то ещё говорили, но Полынцев бросил трубку и пошёл – навстречу новой жизни.
Море шумело вокруг, шебуршало – поначалу так показалось. До слуха докатился отдалённый гул вокзала, напоминающий гудение прибоя; нестройные людские голоса шумели, словно под берегом шумела-перекатывалась галька. А за стенкой где-то рявкнул тепловоз, пронзительным криком своим ничуть не отличаясь от теплохода.
Затем кто-то настойчиво, властно потрепал по плечу. – Проснитесь, гражданин!
Степенный, строгий милиционер, приподнимая руку к тёмно-серебристому виску, представился и потребовал документы у гражданина, спавшего на деревянной вокзальной лавке.
Документы оказались в порядке, а вот глаза гражданина вызывали смутную тревогу и подозрение – заполошно рыскали, старясь не натыкаться на глаза старшины. Ещё раз внимательно пролистав документы, милиционер машинально взял под козырёк и попрощался, пожелав удачи.
«Лучше б ты меня арестовал!» – неожиданно подумал Полынцев, всё ещё находясь во власти прерванного жуткого сна.
Выйдя на улицу, он закурил, прочищая мозги дешевеньким каким-то горлодёром. Кошмарный сон, так вовремя оборванный милиционером, будто продолжал красной пеленою застилать глаза. Полынцев раза три подряд крепко зажмурился и только потом сообразил: перед ним висел малиновый плакат, рекламирующий очередную какую-то хренотень, без которой человек не может быть счастливым. Отвернувшись от плаката, он потоптался возле телефонной будки, потрескивая желто-червонным листарём – клёны облетали по-соседству.
С трудом припоминая нужный номер, Фёдор Поликарлович дозвонился до бывшей своей, сказал, что он здесь, в Петербурге. Звонок его не вызвал никаких эмоций на том конце провода. Вера Васильевна, его бывшая, говорила ровно, бесцветно, тихо. Полынцев еле-еле уловил суть разговора: бывшая как раз в эти минуты с сыном собиралась ехать на могилу дочери и они договорились встретиться возле метро, чтобы оттуда отправиться вместе.
Поглядев на огромные вокзальные часы, Полынцев решил прогуляться пешком – время есть.
Мелкий дождик начинал бросаться бисером, загоняя воробьёв и синиц под козырьки и застрехи ближайших строений, и только малые поганки да широконоски продолжали вольготно плескаться и плавать в каналах, куда опрокинулись голубые осколки осеннего неба, разбитого тучами. Холодный ветер будто с метёлкой прошёлся перед Полынцевым – со свистом расчищал дорогу, шаловливо вертел и гонял по асфальту рваные листья, приклеивал их к мокрым окнам, стенам и высоким рекламным щитам.
Страшный сон, который не удалось досмотреть, снова и снова душу бередил, когда Полынцев обращал внимание на большие новые дома – современные небоскрёбы, плотинами стоящие на пути волнообразных чёрно-фиолетовых и синеватых туч, со стороны Финского залива гонимых потоками сильного морского ветра.
Двигаясь к метро, он посмотрел на стену старого ленинградского дома, на котором висела памятная плита, будто поклёванная осколками от снарядов. Надпись на плите гласила: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!»
Сам не зная почему, он поспешил перейти на другую сторону улицы и при этом испуганно голову в плечи втянул – точно опасаясь артобстрела. Затем, уже неподалёку от метро, он остановился покурить под каменным козырьком – укрылся от дождя, который скороговоркой зачастил по жестяным чердакам, по щекам плакатов. Машинально поглядывая по сторонам, наверху замечая хвосты голубей, торчащие из укрытий, замечая зонтики прохожих, зацветающие огромными букетами на тротуарах, Полынцев отчего-то вздрогнул – даже сам не понял в первый миг. А затем усмехнулся, укоризненно качая головой: «Будь она проклята, эта привычка – вторая натура!»
Он увидел красочную вывеску редакции питерского журнала и так обрадовался, будто именно эту редакцию три дня, три ночи искал по городу.
Глава 19
«Мастерство не пропьёшь!» – говорят остряки, и в этой шутке есть большая доля правды – неприятная доля, нужно признаться. Много тяжких мыслей проносилось в голове, когда Полынцев собирался улетать, но всё-таки одна застряла – чисто практическая мысль, профессиональная. Если в кои то веки он вырвался в Питер, так необходимо это использовать на полную катушку – по редакциям побегать, потолкаться на киностудиях, предлагая свои работы, от которых у него распухла сумка, свинцово надрывающая руку.
Он был так зациклен на этих своих творческих работах, что порою становился то ли рабом, то ли роботом, для которого ничего другого не существовало на белом свете. И в ту минуту – оказавшись возле вывески журнала – Полынцев поймал себя на том, что собирается заскочить в редакцию; время есть, можно успеть. Здоровой частью мозга, не до конца ещё угробленного творчеством, он понимал, насколько циничен весь этот чертов профессионализм, въевшийся в душу. Понимал и всё же не мог перебороть «соблазн большого города» – сделал несколько шагов в сторону редакции.
Разозлившись на себя, он отвернулся от вывески и, проходя мимо каменной арки, заметил чахоточный костерок, слабо трепыхавшийся в глубине сырого, старинного двора-колодца. И тогда в нём что-то закричало – или кто-то в нём закричал – о том, что пора, наконец-то, покончить с этим цинизмом, с этим проклятым профессионализмом, из-за которого вся жизнь кувырком полетела.
Не давая себе опомниться, он быстро прошёл под каменной, гулкою аркой и, остановившись около костра, стал решительно, резко выбрасывать разношёрстную писанину.
Дворник с метёлкой появился откуда-то.
– О-о! – блаженно сощурился, потирая грязные ладони. – Погреемся!
Сырая бумага – под мелким дождём – плохо горела, чадила, но всё-таки пламя кусало, с хрустом жевало многолетнюю стряпнину – страницу за страницей, испещренную вдохновенной, порывистой клинописью. И чем сильнее разгоралось пламя, тем ярче отражалось в глазах Полынцева – там плясали золотые, сумасбродные чёртики. Что-то в нём торжествовало в ту минуту.
Он прикурил от костра «инквизиции» и хищновато прищурился, мысленно топча в себе остатки сожалений. Так ему! И только так! Сплюнув под ноги, Полынцев взял почти пустую свою сумку, отвернулся от огня и широкими шагами двинулся прочь, испытывая невероятное облегчение и даже чувство некого геройства – не всякий автор способен на такое самосожжение. И правильно, правильно он поступил. Надо было давно запалить жаркопламенный костёр инквизиции – испепелить к чертям собачьим всю эту «нетленку» и успокоиться, нормальной жизнью жить, детей растить. А он? Ведь если вдуматься, то просто ужас – на какую, в сущности, ерунду, мишуру и химеру он растратил свои силы, свою жизнь. «Я знаю про людей что-то такое, чего они не знают про себя!» – высокопарно и самонадеянно провозгласил он в туманной молодости. А что теперь? Ну, что ты знаешь, милый? Чем ты осчастливил нас, каким таким великим откровением ты озарил потёмки человеческой души?
И тут он неожиданно споткнулся на ровном месте. Споткнулся – и оглянулся. «Боже мой! – резануло по нервам. – Что я делаю?! Ведь это же горит вся моя сознательная жизнь, всё моё оправдание перед Всевышним!»
Полынцев плохо помнил, как метнулся по сырому двору, как падал, как стоял на четвереньках и поспешно выхватывал каштаны из огня – страницы, подёрнутые дымом и до сухого хруста уже закучерявленые жаром.
– Нашёлся тоже Гоголь, мать твою! – хрипел он, поплёвывая на обожжённые пальцы.
Дворник, опухший с похмелья, рядом стоял и под сурдинку посмеивался, глядя, как мужик на четвереньках ползает кругом костра и собирает то, что недавно выкинул.
– Перепутал, что ли, божий дар с яичницей? – удивился дворник, продолжая скалить прокуренные зубы, среди которых поблёскивала тёмно-желтая фикса, такая широкая, будто из ружейного патрона сделанная.
Фёдор Поликарлович так посмотрел на дворника – бедолага подавился смехом и закашлялся, отходя в сторонку от греха подальше.
Собирая обгорелые листы, Полынцев обратил внимание на кривые поэтические строки:
Звенела солнечная нить
И под луной цветы сияли,
И невозможно объяснить
Из-за чего мы так смеялись.
Нам было просто хорошо,
Поскольку дело молодое.
Как быстро век любви прошёл,
А вместе с ним и век покоя!
Порвалась солнечная нить,
А нитки снега вьются, вьются…
И невозможно объяснить
Из-за чего так слёзы льются!..
Поднявши ворот длинного, тёмно-голубого старого плаща, понизу окапанного грязью и водой, Полынцев понуро брёл по утреннему городу. Смотрел себе под ноги и временами видел странно опрокинувшийся мир: в лужах купола дрожали чистым золотом, небеса плескались рваной синевой. Трамвай над головою затрезвонил, когда Полынцев сутуло проходил по мокрым рельсам, где лежали насмерть зарезанные листья – красное раздавленное мясо. Затем заскрежетали тормоза машины, едва не сбившей горе-пешехода, бредущего на красный свет. Незрячими глазами глядя перед собой, он порою натыкался на прохожих, на фонарные столбы. Какая-то влюблённая парочка посмеялась над ним, говоря, что дяденька с утра уже поддатый.
«И мы тут смеялись!» – подумал дяденька, припоминая первую любовь, которая вот здесь, на этих мостах, перекрёстках и площадях жгла его юное сердце в пору белых, безумных ночей.
Остановившись, он закурил у гранитного сырого парапета, наклонился над холодной рябью узкого канала, где лебяжьим пухом плавали остатки тумана. Протёр глаза и посмотрел на солнце, восходящее над городом, на чёрный силуэт какого-то высотного здания.
И опять и опять – неожиданно ярко, подробно – вспоминал всё то, что недавно приснилось, то, что предстояло ещё сделать, или предстояло осознать, что этого делать не надо. Но как же – не надо? А что тогда надо? Лапки сложить и сидеть, ждать Божьей кары? А как же в таком случае понять священную Библию? «Мне отмщение, и аз воздам!» – «На мне лежит отмщение, и оно придёт от меня!» Разве не так проповедует Библия? Или я неправильно трактую церковно-славянские тексты?..
Решение о том, что делать дальше, Полынцев хотел принять позднее, ближе к вечеру – после того, как съездит на могилу дочери. А пока он шёл на встречу со своею бывшею семьёй.
Шёл медленно, устало, готовый плюхнуться на первую попавшуюся лавку и заплакать под тихим осенним дождём, так хорошо скрывающим слёзы.
Сквозь тучи пробивалось робкое шафрановое солнце.
Лужи слепящим светом вспыхивали, как прожектора, облепленные рваною листвой. На карнизах ворковали голуби, воробьи верещали. Утки плескались в каналах, ныряя за кормом, поплавками выставляли жирные зады.
Возле метро Полынцев увидел междугородний телефон-автомат и встряхнулся. В нём снова напрягались упрямые пружины, толкающие к действию. Боясь передумать, он начал дозваниваться до своего далёкого соседа, мысленно прося и умоляя всех богов, чтобы в эту минуту и связь не подкачала, и Самоха был бы на месте. И услышали боги его – всё в эту минуту срослось. Он представил, как Самоха, новоиспечённый сельский барин, руку тянет к трубке – бриллиантовый перстень в четыре «квадрата» сияет на указательном пальце.
– Семён! – твёрдо сказал Полынцев. – Я не приеду!
– Понял. Не дурак. – Самоха не удивился. – Значит, деньги за дом высылать?
– Обязательно! Делай всё, как мы договорились! – Лады. А ты?
– А я начинаю новую жизнь! У меня ведь здесь ещё сынок – Василир…
На том конце провода что-то ещё говорили, но Полынцев бросил трубку и пошёл – навстречу новой жизни.