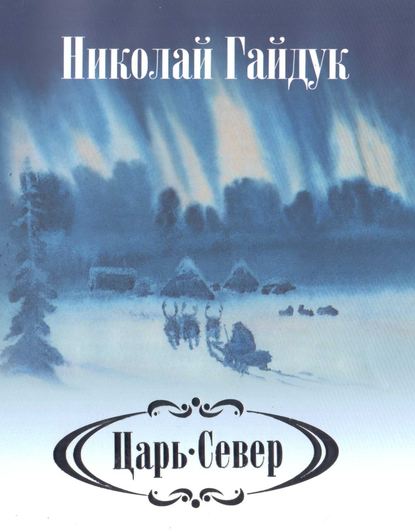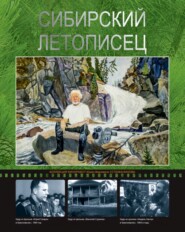По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Царь-Север
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он помалкивал, как заговорщик, только ещё нежнее и шире улыбался. Но однажды в полночь он проговорился, присев на край постели:
– Я думаю, что мы с ним скоро встретимся!
– С кем? – сонливо спросила Марья. – Ты про кого?
– Про Царька-Северка…
– А кто это?
Антон Северьяныч разволновался. Опять ушёл на кухню, закурил. Звёздный атлас в потёмках погладил, мечтательно глядя за окно и вздыхая. И при этом глаза у него золотились какими-то сумасбродными звёздами.
Божий промысел
1
Робкая весна капелью постучалась… Полярное солнце, за зиму насидевшееся в подземной темнице, на волю выкатилось, горело яростно, ошеломительно – круглые сутки. В тундре появились пуночки, лапландский подорожник, хищная птица зимняк. Сахарные влажные снега подёрнулись голубоватою дымкой, испариной. Кое-где растрескивался камень – пробирало незакатным жаром. Лёд на реках и озёрах пронзительно попискивал – будто стеклорезом полосовали. Развеселились поползни, чечётки. Засвистели рябчики. Заслышалось приглушенное бормотание косачей. Глухари, разминая крылья, делали пробные вылеты на токовище. Жизнь ликовала после дикой стужи.
Каждые субботу и воскресенье Антон Северьяныч вставал на лыжи и ускользал – в сияющую тундру. Только на лыжах далеко не убежишь – за десять, ну, от силы, за двадцать километров от города. Конечно, это хорошо, но не «фонтан». Храбореев деньжат подкопил, мотонарты купил. (Слово «снегоход» тогда ещё не выдумали). Он купил «Амурца» – самую по тем годам расхожую модель. Это был такой циклоп – с одною фарой, с туповатой мордой, на двух голенастых, вперёд выступающих лыжах. Теперь этот «Амурец» – как ископаемый мамонт – где-нибудь в музее под стеклом стоит, вызывая улыбки и ухмылки посетителей, а тогда…
Тогда ему с «Амурцем» жить стало веселее и свободней. Храбореев брал отгулы и на недельку пропадал в голубовато-сизой заманчивой дали, где проступали горы, словно призраки, парящие по-над землёй. Ему всё больше нравилось уединение. Всё внимательней и зорче становились у него глаза – хотелось присмотреться к великому и пёстрому миру. Тишину всей душою хотелось послушать – это очень редкое хотение для современных людей, полюбивших окружать себя шумом, гамом и треском, который заглушает всё очарование природы.
Однажды Северьяныч возвращался в город и по дороге встретил своих знакомых – с медного завода. Мужики тоже были на мотонартах – с прицепом, который накрыт брезентом и перевязан верёвками. Среди знакомых оказался лобастый рыжий парень – Меднолобый, так его Храбореев прозвал. Меднолобый непонятно за что невзлюбил Северьяныча, подкалывал нередко, ехидничал по поводу и без.
Они постояли на «перекрестке» двух дорог, протоптанных мотонартами. Покурили. От красных камней, выступающих из-под снега на обочине, пар валил как от кусков сырого мяса.
Анатолий Силычев, старший среди мужиков, сказал, сдвигая шапку на затылок:
– Припекает! Будто в плавильном цеху!
– Припекает, – с улыбкой согласился Храбореев. – Особенно вчера так припекло – едва не околел!
– Это где же?
– А тут, за перевалом, в избе заночевал.
– Ну-у! – поддержали мужики. – Там изба такая – решето, а не изба… А там клевало?
– Не так, чтобы очень. А вы? – Храбореев глазами показал на прицеп. – Я смотрю, нагрузились?
– Ерунда. Дрова с собой возили, да так… по мелочам…
– Ну, ладно, – сказал Северьяныч, бросая окурок. – Пора.
– Ты всё время один, – заметил Анатолий Силычев. – Не боишься?
– А что? – Северьяныч улыбался. – Медведь шалит?
Медный лоб возьми да брякни:
– Медведь-то ещё спит. А медвежонок балует.
– Медвежонок? – Северьяныч напрягся, глядя вдаль.
Медный Лоб, как видно, знал, что говорил; не просто так буровил.
– Ну, да, – продолжал он, сплюнув на чистый снег. – Белый такой медвежонок. С левым надорванным ухом. Я на прошлой неделе в тундру пошел…
Силычев небрежно перебил меднолобого:
– Ты на прошлой неделе пил, как собака, так что не надо «ля-ля»… – Он сурово посмотрел на Храбореева. – А ты, Северьяныч, смотри, осторожней… Медведь – это само собой. Весна. Но дело не только в этом. Ты же один всё время.
– Да я привык.
– Привык – это, брат, не считается. Мотор сломается, к примеру, или ногу подвернешь – тьфу, тьфу. И что тогда? Привык! Позавчера вон… Может, слышал, нет? Нашли тут одного. В трусах и в майке.
– Что? – Храбореев усмехнулся. – Загорал?
– Замерзал.
– А зачем же он раздевался? Замерзал – и разделся?
Опытный Акимов рассказал: когда человек замерзает, он доходит до такого умопомрачения, что вдруг начинает испытывать странный, необыкновенный жар – как в бане – и потому снимает всё лишнее с себя.
Мужики погнали дальше, а Храбореев долго курил ещё возле «Амурца». Глаза катал по горизонту, что-то выискивал. Проклятый Медный лоб разбередил ему душу.
«Ехидный чёрт! Но откуда он узнал о медвежонке с надорванным ухом? – удивился Храбореев и посмотрел на небо, где в эти минуты летел самолёт – серебристый инверсионный след растянулся над тундрой. – Неужели Мастаков растрепался? Да нет, не такой он мужик. Да и некогда ему, летуну, дружбу водить с такими дураками, как Медный лоб…»
Храбореев забывал или подсознательно упускал из виду одну деталь: раза три уже, когда он крепко выпивал, он приезжал в магазин детских игрушек и всех медведей поднимал там если не на уши, то за уши – буквально. Он искал какого-то особенного медвежонка – белого с левым надорванным ухом. А продавщица в магазине детских игрушек – одна из трёх – жена этого ехидного Меднолобого парня. Всё очень просто.
Самолёт, серебристым ножом располосовавший синюю буханку небосвода, сверкая красновато-ржаными крошками на лезвии крыла, сделал небольшой вираж и пропал где-то за горами – в стороне Северного Ледовитого океана.
И Храборееву захотелось туда же – в безбрежность тундры, в беспредельность океана.
«Бросать надо завод! – подумал он уже не в первый раз. – Надо в тундру уходить. Может, где повстречаю Царька-Северка…»
Он завёл мотонарты – поехал по распадку, где ещё лежали нетронутые, крепкие снега. Но чем ближе к городу он приближался, тем сильнее морщился.
В тундре весна смотрелась – как невеста в белом. Вся она блестела и горела дорогими нарядами, алмазными украшениями. Сияла синими влюбленными глазами. А в городе та же весна – все равно что баба, или замухрышка в засаленном платье, унылая, замордованная работой по дому. В городе, в тесном и замкнутом каменном пространстве, весна ощущалась только по грязному прелому снегу, угарно дымившему на солнцепеке, точно угольная пыль, плохо разгоравшаяся в печке. Сосульки нарастали на крышах. Длинные толстые колья, сорвавшись, могли человека проколоть с такой же легкостью, как булавка прокалывает бабочку. Весна обнажала мусор, банки-склянки, бумаги, облупленные серые дома, улочки и тупики. Пудами и тоннами на город за зиму навалилось разное пахучее добро, в переизбытке вылетающее из-под хвоста неутомимого советского молоха, кошмарно чернящего небо и землю – во имя светлого будущего.
2
Весенним вечером Храбореев, как обычно, отмантулил на заводе, принял душ после смены, переоделся в чистое и приехал домой. Поужинать собрался, но посмотрел в окно…
– Чайки! – закричал он таким голосом, каким обычно кричат: «Пожар!»
Жена за стенкой вздрогнула и что-то уронила на пол. Прибежала на кухню – в недоумении уставилась на плиту.
– Чайник? – спросила. – Я вскипятила чайник.
– Я думаю, что мы с ним скоро встретимся!
– С кем? – сонливо спросила Марья. – Ты про кого?
– Про Царька-Северка…
– А кто это?
Антон Северьяныч разволновался. Опять ушёл на кухню, закурил. Звёздный атлас в потёмках погладил, мечтательно глядя за окно и вздыхая. И при этом глаза у него золотились какими-то сумасбродными звёздами.
Божий промысел
1
Робкая весна капелью постучалась… Полярное солнце, за зиму насидевшееся в подземной темнице, на волю выкатилось, горело яростно, ошеломительно – круглые сутки. В тундре появились пуночки, лапландский подорожник, хищная птица зимняк. Сахарные влажные снега подёрнулись голубоватою дымкой, испариной. Кое-где растрескивался камень – пробирало незакатным жаром. Лёд на реках и озёрах пронзительно попискивал – будто стеклорезом полосовали. Развеселились поползни, чечётки. Засвистели рябчики. Заслышалось приглушенное бормотание косачей. Глухари, разминая крылья, делали пробные вылеты на токовище. Жизнь ликовала после дикой стужи.
Каждые субботу и воскресенье Антон Северьяныч вставал на лыжи и ускользал – в сияющую тундру. Только на лыжах далеко не убежишь – за десять, ну, от силы, за двадцать километров от города. Конечно, это хорошо, но не «фонтан». Храбореев деньжат подкопил, мотонарты купил. (Слово «снегоход» тогда ещё не выдумали). Он купил «Амурца» – самую по тем годам расхожую модель. Это был такой циклоп – с одною фарой, с туповатой мордой, на двух голенастых, вперёд выступающих лыжах. Теперь этот «Амурец» – как ископаемый мамонт – где-нибудь в музее под стеклом стоит, вызывая улыбки и ухмылки посетителей, а тогда…
Тогда ему с «Амурцем» жить стало веселее и свободней. Храбореев брал отгулы и на недельку пропадал в голубовато-сизой заманчивой дали, где проступали горы, словно призраки, парящие по-над землёй. Ему всё больше нравилось уединение. Всё внимательней и зорче становились у него глаза – хотелось присмотреться к великому и пёстрому миру. Тишину всей душою хотелось послушать – это очень редкое хотение для современных людей, полюбивших окружать себя шумом, гамом и треском, который заглушает всё очарование природы.
Однажды Северьяныч возвращался в город и по дороге встретил своих знакомых – с медного завода. Мужики тоже были на мотонартах – с прицепом, который накрыт брезентом и перевязан верёвками. Среди знакомых оказался лобастый рыжий парень – Меднолобый, так его Храбореев прозвал. Меднолобый непонятно за что невзлюбил Северьяныча, подкалывал нередко, ехидничал по поводу и без.
Они постояли на «перекрестке» двух дорог, протоптанных мотонартами. Покурили. От красных камней, выступающих из-под снега на обочине, пар валил как от кусков сырого мяса.
Анатолий Силычев, старший среди мужиков, сказал, сдвигая шапку на затылок:
– Припекает! Будто в плавильном цеху!
– Припекает, – с улыбкой согласился Храбореев. – Особенно вчера так припекло – едва не околел!
– Это где же?
– А тут, за перевалом, в избе заночевал.
– Ну-у! – поддержали мужики. – Там изба такая – решето, а не изба… А там клевало?
– Не так, чтобы очень. А вы? – Храбореев глазами показал на прицеп. – Я смотрю, нагрузились?
– Ерунда. Дрова с собой возили, да так… по мелочам…
– Ну, ладно, – сказал Северьяныч, бросая окурок. – Пора.
– Ты всё время один, – заметил Анатолий Силычев. – Не боишься?
– А что? – Северьяныч улыбался. – Медведь шалит?
Медный лоб возьми да брякни:
– Медведь-то ещё спит. А медвежонок балует.
– Медвежонок? – Северьяныч напрягся, глядя вдаль.
Медный Лоб, как видно, знал, что говорил; не просто так буровил.
– Ну, да, – продолжал он, сплюнув на чистый снег. – Белый такой медвежонок. С левым надорванным ухом. Я на прошлой неделе в тундру пошел…
Силычев небрежно перебил меднолобого:
– Ты на прошлой неделе пил, как собака, так что не надо «ля-ля»… – Он сурово посмотрел на Храбореева. – А ты, Северьяныч, смотри, осторожней… Медведь – это само собой. Весна. Но дело не только в этом. Ты же один всё время.
– Да я привык.
– Привык – это, брат, не считается. Мотор сломается, к примеру, или ногу подвернешь – тьфу, тьфу. И что тогда? Привык! Позавчера вон… Может, слышал, нет? Нашли тут одного. В трусах и в майке.
– Что? – Храбореев усмехнулся. – Загорал?
– Замерзал.
– А зачем же он раздевался? Замерзал – и разделся?
Опытный Акимов рассказал: когда человек замерзает, он доходит до такого умопомрачения, что вдруг начинает испытывать странный, необыкновенный жар – как в бане – и потому снимает всё лишнее с себя.
Мужики погнали дальше, а Храбореев долго курил ещё возле «Амурца». Глаза катал по горизонту, что-то выискивал. Проклятый Медный лоб разбередил ему душу.
«Ехидный чёрт! Но откуда он узнал о медвежонке с надорванным ухом? – удивился Храбореев и посмотрел на небо, где в эти минуты летел самолёт – серебристый инверсионный след растянулся над тундрой. – Неужели Мастаков растрепался? Да нет, не такой он мужик. Да и некогда ему, летуну, дружбу водить с такими дураками, как Медный лоб…»
Храбореев забывал или подсознательно упускал из виду одну деталь: раза три уже, когда он крепко выпивал, он приезжал в магазин детских игрушек и всех медведей поднимал там если не на уши, то за уши – буквально. Он искал какого-то особенного медвежонка – белого с левым надорванным ухом. А продавщица в магазине детских игрушек – одна из трёх – жена этого ехидного Меднолобого парня. Всё очень просто.
Самолёт, серебристым ножом располосовавший синюю буханку небосвода, сверкая красновато-ржаными крошками на лезвии крыла, сделал небольшой вираж и пропал где-то за горами – в стороне Северного Ледовитого океана.
И Храборееву захотелось туда же – в безбрежность тундры, в беспредельность океана.
«Бросать надо завод! – подумал он уже не в первый раз. – Надо в тундру уходить. Может, где повстречаю Царька-Северка…»
Он завёл мотонарты – поехал по распадку, где ещё лежали нетронутые, крепкие снега. Но чем ближе к городу он приближался, тем сильнее морщился.
В тундре весна смотрелась – как невеста в белом. Вся она блестела и горела дорогими нарядами, алмазными украшениями. Сияла синими влюбленными глазами. А в городе та же весна – все равно что баба, или замухрышка в засаленном платье, унылая, замордованная работой по дому. В городе, в тесном и замкнутом каменном пространстве, весна ощущалась только по грязному прелому снегу, угарно дымившему на солнцепеке, точно угольная пыль, плохо разгоравшаяся в печке. Сосульки нарастали на крышах. Длинные толстые колья, сорвавшись, могли человека проколоть с такой же легкостью, как булавка прокалывает бабочку. Весна обнажала мусор, банки-склянки, бумаги, облупленные серые дома, улочки и тупики. Пудами и тоннами на город за зиму навалилось разное пахучее добро, в переизбытке вылетающее из-под хвоста неутомимого советского молоха, кошмарно чернящего небо и землю – во имя светлого будущего.
2
Весенним вечером Храбореев, как обычно, отмантулил на заводе, принял душ после смены, переоделся в чистое и приехал домой. Поужинать собрался, но посмотрел в окно…
– Чайки! – закричал он таким голосом, каким обычно кричат: «Пожар!»
Жена за стенкой вздрогнула и что-то уронила на пол. Прибежала на кухню – в недоумении уставилась на плиту.
– Чайник? – спросила. – Я вскипятила чайник.