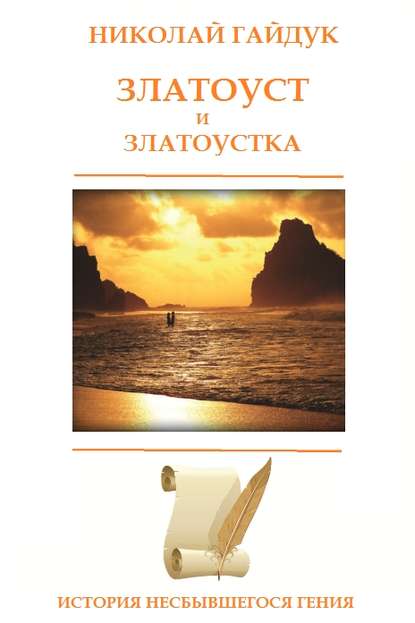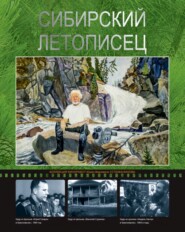По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Златоуст и Златоустка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, так есть или нет?
Помедлив, дед нехотя ответил:
– Есть маленько. В подполе.
– Я достану. Ты будешь?
Вытирая губы рукавом, дед пробормотал:
– Батька проснётся, он тебе достанет…
– Это ещё неизвестно, кто кого достанет! – сердито просипел Ивашка, вспоминая про уголек, который поднял на пепелище. – Ты посмотри, что я нашёл у Золотого Устья. – Пошарив по карманам, парень замер, округляя глаза. – Посеял где-то… Ёлки! Вот растяпа! Теперь ничего никому не докажешь!
Лежебока не понял, о чём это внук трындычит. Покосился на тёмную прорубь окна.
– Стало быть, уехала? Царевна-то?
– Может, уехала… Может, сгорела живьём. Дед пустую кружку чуть не выронил.
– Ты чо болтаешь? Как это – живьём?
– Угли там, вот как.
– Ох, мать твою!.. Прости ты меня, господи! – Дед перекрестился на сверкающий оклад иконы, стоящей в красном углу. – Это кто же разбой учинил?
– Я откуда знаю?.. Узнаю, так убью.
– Ну и дурак. Пойдёшь на каторгу.
– А мне теперь, дед, всё равно, хоть на каторгу, хоть куда… Косматая, седая голова дремучего старца придвинулась ближе.
– Я, Ванька, тоже так думал, когда по уши втюрился, а девка-то моя возьми да замуж выскочи за вахлака из соседней деревни. До сих пор не знаю, что она такого в нём нашла. А вот нашла, однако, то, что бабы ночью под одеялом ищут. – Дед сдавленно хихикнул, но тут же и вздохнул. – Ох, горевал я тогда, самогонку хлестал…
– Ну, вот! Сам хлестал, а мне так не даёшь?
– Да я-то что? Бери. Тока самогонка не помощница.
– А кто? Кто помощница? Дед почесал под мышкой.
– Клин клином вышибают. Другую девку надобно искать.
– Ты что?! – Глаза Подкидыша возмущённо сверкнули. – Никто другой и даром мне не нужен!
– И я так думал, паря, и я так говорил. А через полгода бабку встретил, царство ей небесное. Она тогда, конечно, была совсем не бабка. Молодая была, всё при ней. И когда я увидел всё то, что при ней, так и забыл своё горе. Такие вот дела, Иван-царевич. Так что не горюй. Всё перемелется – будет мука.
Ненадолго задумавшись, внук сказал упрямо:
– Это у тебя так было. А у меня всё будет по-другому. Почёсывая бороду, дед Мурава философски заметил:
– Всё уже было, паря, и вряд ли новое произойдёт. Почитай вон святое писание, там про это хорошо обсказано в этом самом, в Екклесиасте.
Посмотрев на Библию, находящуюся на печи рядом с дедом, Ивашка руку равнодушно протянул:
– Ну, давай, полистаю.
Коричневато-красная Библия – увесистая и тёплая – показалась кирпичом, который вынули из тела русской печки.
4
Уютный, тихий закуток озарился тремя свечами и только тут – при слабом свете напротив зеркала – Подкидыш заметил перемены, произошедшие с ним за эти несколько часов печали и безутешного горя. Будто серым пеплом присыпанные волосы возле висков отсвечивали странным серебрецом. Вертикально вздувшаяся вена перечеркнула широкий и высокий лоб. Усишки обвисли, будто намокшие. Рот плотно сжался – желваки проступили на скулах, кое-где побитых щедринами.
«Краше в гроб кладут! – Он отвернулся от зеркала. – Что-то я расквасился. Но ничего! Переживём, перекуём мечи на калачи!» Подсев поближе к свету, он стал читать потрёпанную Библию, во многих местах подчёркнутую грубым дедовским ногтем, похожим на тупое лезвие ножа.
«Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что хорош; и отделил Бог свет от тьмы…»
Подкидыш зевнул. Библия показалась откровенно скучной; безалаберный парень, он тогда ещё не знал, что такие книги читаются не глазами, а сердцем. Закрыв потрёпанную Библию, он задумался, глядя на багрово-синий лепесток свечи: «Интересно, как это Бог свет отделил от темени? Да побасёнки это!» Глядя на чёрный фитиль, поедаемый пламенем, Ивашка вспомнил чёрную горелую заимку на поляне; вспомнил царские кудри – сказочные цветы, которые будто бы выросли на месте волоска, упавшего с головы ненаглядной царевны. «А это разве не побасёнки? Эти кудри… – Парень засомневался. – А разве могут вырасти, к примеру, кукушкины слёзы – цветы – возле того дерева, где куковала-плакала кукушка?»
Он осторожно достал из короба царские кудри – глубоко вдохнул цветочный аромат и с трудом сдержался, чтобы не заплакать; сердце больно дёрнулось, точно загораясь от любви, от нежности, от горя и отчаянья. «Где теперь искать? Да и найдёшь ли? – бились-колотились мысли в голове. – Всё сгорело! Всё прахом пошло! Утоплюсь!.. Напьюсь!..»
И опять он попытался Библию читать – и опять захлопнул. Причём захлопнул с такою силой, что потоком воздуха от книги пламя над свечою повалило набок. Огонёк затрепетал, норовя подняться – и погас. И тогда Подкидыш с каким-то странным удовольствием задул две другие свечи – и в комнату ввалилась темнота вперемежку с гробовою тишиной. И чёрный-чёрный крест вознёсся в головах – оконная рама. «Вот умру я, умру, похоронят меня…» – закрутился унылый мотив.
Он прилег на постель, руки сделал замком на груди – как покойник. Сердце гулко билось где-то под руками, а он – угрюмо и озлобленно – приказывал ему не биться. И удары становились реже, реже. И стало вдруг не по себе, аж морозец по хребту царапнул. Не в силах лежать в этой тёмной и страшной «могиле», он торопливо пошёл во двор, ногу больно ушиб о железную какую-то фиговину – батя вечно таскает с кузни, бросает, где попало.
«А может, надо мне туда вернуться? – Пламя в горне вспомнилось, перезвоны молотков и шумное дыхание кожаных мехов. – Хорошо там было. Зачем забросил? Зачем с суконным рылом полез в калашный ряд?..»
На дворе было свежо, пряно пахло травами, цветами в палисаднике; черёмуха в белом стояла – заневестилась на бугорке; река за огородами журчала жаворонками; умиротворённо спали соседние избы, амбары. И от сознания того, что всё кругом так славно и так приятственно – ещё хуже становилось, горше. Лучше бы камни кубарем падали с небес, лучше бы молния кромсала темноту, сжигала бы высокие деревья – всё как-то легче было бы…
Парень устыдился этих мыслей.
«О, господи, прости, ну что за глупость? – Он посмотрел на небо. – Переживём как-нибудь! Перекуём мечи на калачи!»
Не зная, что делать, куда себя деть, он бесцельно покружился по двору и неожиданно упёрся лбом в чёрную бревенчатую стену сарая, за которой впросонках захрюкала и завозилась жирная свинья. Тоскливое отчаянье охватило душу; вот как надо жить, любить свою кормушку, чавкать день и ночь, и никогда, никогда не смотреть в небеса, не соблазняться мечтами, стихами. С каждой минутой слабея – не столько телом, сколько духом – Подкидыш на берег ушёл, сел на перевёрнутую лодку и застонал, обеими руками охватывая голову. Слёзы, падая на лодку, тускло мерцали под звёздами и сами порою казались звёздочками, крохотно дрожащими в глубинах мирозданья…
5
Глухотемень была ужасная. И в этой глухотемени будто кто-то пластинку завёл по-над ухом: «Вот умру я, умру, похоронят меня…» Тоска тисками сдавила сердце. Леса, поля и горы, и долины – всё кругом опустело, осиротело без царевны Златоустки. И птицы разучились петь, и вода в ручьях и река разучилась бежать. И в небесах как будто чёрная дыра, кровоточащая холодной кровушкой рассвета. И в сердце тоже сквозная рана стонет, ноет и непонятно как, и неизвестно чем заполнить можно эту пустоту, дыру вселенскую – огромное кольцо, которому ни края, ни конца.
Парень вздрогнул, вспомнил два золотистых кольца, связанных стальною паутинкой. Вернулся в дом, в котором было пусто – работники рано вставали и расходились. «А где же кольца? – Он в недоумении осмотрел свой закуток. – Что за чертовщина? Вот здесь висели. Странно! Может, мамка подцепляла колечки, а потом забрала? Только зачем ей это?» Он вспомнил, как в детстве ячмень сводили с глаза колдовством золотого кольца. Мать говорила, нужно десять раз золотым обручальным кольцом провести по ячменю.
Встающее солнце уронило уголёк на половицы – первый луч в окошко прострелил. И вспомнился волшебный уголёк, который найден был на пепелище. Как тот уголёк попал на Золотое Устье? Кто, если не батя, владеет целой россыпью таких угольков?
А если ещё вспомнить, что он тишком, тайком работает на сатану, курные лапы куёт для избушки.
Скулы Подкидыша затвердели. Он пошёл на кузню. Надо было срочно поговорить с отцом – это во-первых, а во-вторых, как хорошо бы сейчас поработать на кузне. У горячего горна, бывало, всякая грусть пропадала, разбитая молотом, все дурные мысли улетучивались.
Берёзовый лесок, стоящий на пути, был переполнен соловьиными звонами – долетали из кузницы. Рабочий и одновременно праздничный звон-трезвон порождал многократное эхо, в березняке игравшее десятками и сотнями молотков с молоточками.
«Кузнецарь! – уважительно говорили в деревне. – Кузнецарство наше звонит в колокола!»