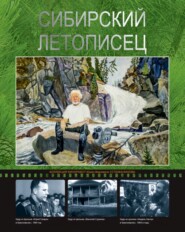По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Спасибо одиночеству (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Физиономия у бригадира крупная, круглая – точно по циркулю. Красная, цвета морёного дуба. Стакан в левой руке – почти не виден – как стограммовая рюмочка. А вот правая рука – увы, во время незапамятного шторма на реке брёвнами раздавленная правая кисть бригадира превратилась в клешню без ногтей – жутковато смотреть с непривычки.
– Ну, что, мужики? Со свиданьицем! Слава богу, все живые, – зарокотал он, снимая помятую фуражку. – А то ведь как бывает? Всяко. Лес рубят – кепки летят… – Это была его излюбленная присказка; перед тем, как взять топор в тайге, он, снимая кепку, постоянно так приговаривал.
Плотогоны, выслушав «пламенную речь», с такою силой чокнулись – гранёные стаканы чуть не раскрошили. Через минуту-другую Зимоох опять налил, как на весах отмерил, изумляя точностью.
– Глаз-алмаз! – похвалили.
– Ерунда. – Зимоох отмахнулся «клешнёй». – Вот у дядьки моего был глаз, так глаз. Он одно время работал на огранке алмазов, а потом в тюрягу загремел. За что? А за то, что у него был глаз-алмаз.
– Пил, что ли, много?
– Нет, он не пил вообще. За ним другой грешок водился. Дядька левый глаз потерял на войне, вставил искусственный. Протез, короче. И вот когда он пришёл работать на огранку алмазов, так что придумал, чёрт кривой? Искусственный глаз вынимал, клал туда алмаз, потом вставлял протез и проходил спокойненько через проходную. Хотел себе счастливую старость обеспечить, а получил строгача восемь лет. Серьёзно говорю. Клешней клянусь.
Плотогоны заржали, кто откачнулся от стола, а кто, наоборот, грудью на стол навалился, кулаком колотя по столешнице.
Но бригада скоро упала духом – денег-то нет. Бригада приуныла, тоскливо глядя на пустые поллитровки, в которые уже забрались мухи – жужжали, обалдев от водочного духа. – Разве это выпивка? – Бригадир своей клешнёю без ногтей поцарапал кадык. – Издевательство над организмом.
Мужики согласно покачали разношёрстными головами. Сеня Часовщик, молодой плотогон с обожженным лицом, похожим на сосновую кору, умоляюще уставился на бригадира.
– Ну, и что будем делать, бугор? Когда вот они рассчитаются с нами?
– Над ними не каплет! – Зимоох, пуще прежнего раскрасневшийся мордастым «морёным дубом», по-волчьи сверкнул глазищами. – Хоть бери топор, багор и подламывай кассу!
Ругая конторских крыс, бригада горевала по поводу того, что деньги за перегон плотов можно будет получить только в Якутске.
– А где наша птичка? – вспомнил бригадир. – У Птахи должны быть бабки.
– Нет, бугор, – заверил Часовщик. – Он пустой. Гитару купил. Мореман какой-то загнал ему гитару. Там только что причалил сухогруз, идёт из загранки, а сюда завернул из-за неполадки дизеля.
– Ну? – Зимоох набычился, выдыхая белую дымную струю. – А гитара причём?
– Говорят, что после шторма под бортом сухогруза обнаружили корейский контейнер, цветной, герметичный. Ночная вахта зацепила краном, подняли на палубу, сбили пломбы да замки и поделили меж собой заморское добро, а пустой контейнер утопили.
– Молодцы. За морем телушка полушка, да рупь перевоз, – проворчал бригадир, натягивая кепку до бровей. – А я надеялся. Птаха всегда при деньгах.
За столом зашумели, обсуждая Пашкин поступок.
– Нашёл чо купить. Ладно, хоть не рояль.
4
Страна Плотогония или страна Плотогонь – так называл он дикие таёжные места на Ленских берегах, где приходилось трудиться. Неисправимый мечтатель, Птаха в последние годы жил как тот герой из русской сказки: иди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю что.
И в результате дорога привела его в сказочный лес, наполненный бородатыми берендеями, весёлыми и хмурыми лешаками, одетыми в телогрейки, в полушубки, в сапоги и унты. Эти берендеи – лесорубы – обитали в старых и новых избушках с небольшими оконцами, чтобы медведь не залез. Берендеи любили вино и водку, табак смолили так, что топоры и даже пилы висели в воздухе. Задорно матюгаясь, они в морозы неутомимо шастали по снеговью, не тронутому ни зверем, ни птицей. С утра и до вечера тайга перекликалась голосами лешаков и стонала под грубыми лапами. Бензопилами и топорами валили звенящие сосны, кудлатые кедры и железно гремящий листвяк – из этого добра затем плоты вязали. Рубили избушку на самом охвостье плота. Кусок звенящей жести приколачивали – пьедестал для огня. С нетерпением ждали весёлой поры, когда старый приятель-кулик прилетит из заморья и выведет весну из затворья. Река вспухала как беременная баба, синела от натуги, не в силах разродиться ледоходом, тогда приходилось делать «кесарево сечение»; взрывники появлялись в районе заторов – глыбы ледяного изумруда серебра тоннами взлетали в небеса, выпуская на вольную волю бешено вскипающую реку. И после этого на чистоводах начинали поскрипывать могучие туши плотов. Как деревянные мастодонты, как динозавры, вышедшие из дремучей тайги, – плоты потихоньку отваливали от берегов, устремляясь мордами на Север, пугая здешних русалок, водяных и возмущая Нептуна: кто там нарушил покой подводного царства, кто над головою солнце погасил?
Вот такая страна Плотогония существовала в воображении взрослого человека, имеющего сердце романтического юноши.
Страна Плотогония была, конечно, далеко не райским садом, однако Скрипалёв любил и почитал её. Дремучая, глухая Плотогония давала прибежище, деньги, а самое главное – ощущение воли. Не просто так давала, нет, приходилось батрачить, дай боже. Но Скрипалёв – трудяга, он умеет пахать, зарабатывать честным трудом, чтобы потом размашисто потратить несчастные эти бумажки.
Он бы не только гитару – целый оркестр купил бы, ничуть не сожалея о деньгах.
Уединившись после покупки инструмента, Птаха ощутил забытое волнение. Пригладив непокорный чубчик, бережно обнял гитару с женскими формами. Улыбнулся, облизнулся в предчувствии музыкального «вкусного блюда». Но после нескольких сложных пассажей огоньки в глазах погасли.
«Лажа! – Он посмотрел на руки. – Ну, что это? Клещи, а не пальцы. Какие к черту струны? Гвозди нужно дёргать такими пальцами!»
Продолжая подбирать аккорды замысловатой мелодии, Скрипалёв подумал: «Нет, пора покидать Плотогонию! Деньги получу, махну куда-нибудь, на черноморский берег, например. Хотя, ну их на фиг, эти берега! Лучше сынишку навестить, к деду наведаться в Соловьиную Балку».
Потихоньку, полегоньку он разыгрался, начал импровизировать на тему своей сердечной тоски и печали. А это значит – родина зазвенела в серебряных струнах.
Душа истосковалась по родимым раздольям, по запаху цветного разнотравья, среди которого ходят косари, ослепительно сверкая зеркалами литовок. Там свежие копны сейчас теремами поднялись в лугах, источая сладковато-угарный аромат. Берёзы на полянах свечками белеют. Избушка в Соловьиной Балке дремлет, пасека пчёлами жужжит. Боже, как там было хорошо! Вечером выйдешь – ох, матушка родная, тихо-то кругом, как тихо! И такая светлынь, что слеза на глаза наворачивается. Огромная луна в лугах восходит – половину неба отхватила. И река вдалеке, и родник у избушки под боком, и туман, что белой парусиной стелется, и малая росинка, дрожащая в стебле, – всё горит волшебным светом, всё переливается, играя причудливыми тенями. И в избушке, и в тёмном овраге – везде невероятная светлынь. И даже, наверно, светло в самой глубокой норе степной лисицы или бродяги-волка. Вечерами такими, захлёстнутый чувством восторга, он любил босиком прогуляться по «лунной» дороге. Шлёпает, бывало, по серебристой пыли – она встаёт, разбуженная, и лениво тянется, бледно-голубой извёсткой осыпает придорожные кусты, унизанные продолговатыми серёжками ягод. А он идёт себе, идёт и улыбается ночному небу, дремлющей земле. Останавливаясь, тёплой ладошкой ласкает сырые косички овса, наклоненного к самой дороге. Ласкает полынь, а потом, улыбаясь, губами зачем-то пробует на вкус креплёную полынную росу, в которой отражаются капельки раздробленной луны. Затем встаёт на цыпочки и, затаив дыхание, приближается к потаённым соловьиным гнёздам – святая святых. Приближается и замирает на почтительном расстоянии. Хочется ближе подойти, наклониться, посмотреть на спящих соловьят, в руках понянчить будущую песню, способную ошеломить окрестные поля, луга, леса. Но этого делать нельзя ни в коем случае – он знает. Зверёныш или птица, побывавшие в руках человека, могут быть потом обречены на голодную смерть; могут стать «чужими» для своих родителей, которые не переносят запах человека. Скорее всего, что к пернатым не относится подобная жестокость родителей, но лучше не рисковать. Птицу можно приручить, но птичью песню ручной не сделаешь, только навредишь ей своими неумелыми руками.
Вот о чём звенела семиструнная, откликаясь грубым пальцам плотогона, который так вдохновенно играл, прикрыв глаза, что даже не заметил, когда к нему пристроился Зиновий Зимоох.
Бригадир, дождавшись тишины, закурил и сказал:
– Ну, вот теперь я понял, что ты не зря угробил кучу денег.
Вставай, пошли. Такую красоту надо исполнять на публике.
В допотопном ресторанчике постоянно грохотал дешевый магнитофон, но сегодня усилитель сломался – два парня с отвертками ковырялись, провода распутывали.
– О! – приветливо крикнул один из них, с любопытством поглядев на Скрипалёва. – Музыка пришла. А ну-ка, сбацай нам чего-нибудь!
Для храбрости приняв грамм сто, Птаха плечи расправил. Гитара всё больше и больше покорялась ему. Поначалу игравшая глуховато как-то, под сурдинку, гитара стала сыпом сыпать серебро…
И неказистый, мрачный, прокуренный кабак, до потолка набитый матерками, начал затихать – прислушивались. Музыканта стали приглашать за столики. Другой на месте Пашки не преминул бы этим воспользоваться – на дармовщинку можно хорошенько «газануть». Но Скрипалёв не мог себе позволить рюмки собирать с чужого столика. Из вежливости, правда, он осушил рюмаху, но закуску – жареного тайменя – демонстративно отодвинул.
Разгоряченный выпивкой, он преобразился. Глаза по-орлиному зорко, возбуждённо поблескивали. На лбу расправилась глубокая, продольная морщина. Прямой и утончённый нос немного вздёрнулся. Припухлые губы, собранные в щепоть, расслабились, затаивши в уголках полуулыбку.
Дамы в ресторанчике стали засматриваться на музыканта.
И мужики, хмелея, косяка давили – что за фраер? Он это видел, он это чувствовал, и его подмывало от странного какого-то куража и, может быть, от предстоящей драки – дело привычное. Закинув ногу на ногу – независимый, раскрепощенный – Скрипалёв восседал у окошка и самозабвенно шерстил семиструнку, только что перестроенную на цыганский разбитной манер.
Музыка дразнила и звала плясать. И вот уже какой-то громадный северянин, покачнувшись, распрямился – достал кудрями до потолка. Это был всем тут хорошо знакомый Каторжавин Филипп Максимович. В Тикси он появлялся часто, потому заработал оригинальное отчество – Тиксимович.
Выйдя на средину между столиков, богатырь Тиксимович, потешно хлопая себя по ляжкам, взялся кирзачи от грязи околачивать, изображая лихой перепляс.
Кто-то в тельняшке гаркнул из угла, из дымного облака:
– Палубу, гляди, не проломи!
Весело разглядывая пьяного танцора, Скрипалёв не заметил, когда к нему за столик подсели две красавицы, от которых густо пахло чесноком и луком, недавно привезенным в Тикси. (Лук, чеснок и прочую бодягу, спасающую от цинги, здесь едят без ложного стеснения).
Прекратив плясовую, Птаха речитативом пропел:
И медленно пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна…
– Ну, что, мужики? Со свиданьицем! Слава богу, все живые, – зарокотал он, снимая помятую фуражку. – А то ведь как бывает? Всяко. Лес рубят – кепки летят… – Это была его излюбленная присказка; перед тем, как взять топор в тайге, он, снимая кепку, постоянно так приговаривал.
Плотогоны, выслушав «пламенную речь», с такою силой чокнулись – гранёные стаканы чуть не раскрошили. Через минуту-другую Зимоох опять налил, как на весах отмерил, изумляя точностью.
– Глаз-алмаз! – похвалили.
– Ерунда. – Зимоох отмахнулся «клешнёй». – Вот у дядьки моего был глаз, так глаз. Он одно время работал на огранке алмазов, а потом в тюрягу загремел. За что? А за то, что у него был глаз-алмаз.
– Пил, что ли, много?
– Нет, он не пил вообще. За ним другой грешок водился. Дядька левый глаз потерял на войне, вставил искусственный. Протез, короче. И вот когда он пришёл работать на огранку алмазов, так что придумал, чёрт кривой? Искусственный глаз вынимал, клал туда алмаз, потом вставлял протез и проходил спокойненько через проходную. Хотел себе счастливую старость обеспечить, а получил строгача восемь лет. Серьёзно говорю. Клешней клянусь.
Плотогоны заржали, кто откачнулся от стола, а кто, наоборот, грудью на стол навалился, кулаком колотя по столешнице.
Но бригада скоро упала духом – денег-то нет. Бригада приуныла, тоскливо глядя на пустые поллитровки, в которые уже забрались мухи – жужжали, обалдев от водочного духа. – Разве это выпивка? – Бригадир своей клешнёю без ногтей поцарапал кадык. – Издевательство над организмом.
Мужики согласно покачали разношёрстными головами. Сеня Часовщик, молодой плотогон с обожженным лицом, похожим на сосновую кору, умоляюще уставился на бригадира.
– Ну, и что будем делать, бугор? Когда вот они рассчитаются с нами?
– Над ними не каплет! – Зимоох, пуще прежнего раскрасневшийся мордастым «морёным дубом», по-волчьи сверкнул глазищами. – Хоть бери топор, багор и подламывай кассу!
Ругая конторских крыс, бригада горевала по поводу того, что деньги за перегон плотов можно будет получить только в Якутске.
– А где наша птичка? – вспомнил бригадир. – У Птахи должны быть бабки.
– Нет, бугор, – заверил Часовщик. – Он пустой. Гитару купил. Мореман какой-то загнал ему гитару. Там только что причалил сухогруз, идёт из загранки, а сюда завернул из-за неполадки дизеля.
– Ну? – Зимоох набычился, выдыхая белую дымную струю. – А гитара причём?
– Говорят, что после шторма под бортом сухогруза обнаружили корейский контейнер, цветной, герметичный. Ночная вахта зацепила краном, подняли на палубу, сбили пломбы да замки и поделили меж собой заморское добро, а пустой контейнер утопили.
– Молодцы. За морем телушка полушка, да рупь перевоз, – проворчал бригадир, натягивая кепку до бровей. – А я надеялся. Птаха всегда при деньгах.
За столом зашумели, обсуждая Пашкин поступок.
– Нашёл чо купить. Ладно, хоть не рояль.
4
Страна Плотогония или страна Плотогонь – так называл он дикие таёжные места на Ленских берегах, где приходилось трудиться. Неисправимый мечтатель, Птаха в последние годы жил как тот герой из русской сказки: иди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю что.
И в результате дорога привела его в сказочный лес, наполненный бородатыми берендеями, весёлыми и хмурыми лешаками, одетыми в телогрейки, в полушубки, в сапоги и унты. Эти берендеи – лесорубы – обитали в старых и новых избушках с небольшими оконцами, чтобы медведь не залез. Берендеи любили вино и водку, табак смолили так, что топоры и даже пилы висели в воздухе. Задорно матюгаясь, они в морозы неутомимо шастали по снеговью, не тронутому ни зверем, ни птицей. С утра и до вечера тайга перекликалась голосами лешаков и стонала под грубыми лапами. Бензопилами и топорами валили звенящие сосны, кудлатые кедры и железно гремящий листвяк – из этого добра затем плоты вязали. Рубили избушку на самом охвостье плота. Кусок звенящей жести приколачивали – пьедестал для огня. С нетерпением ждали весёлой поры, когда старый приятель-кулик прилетит из заморья и выведет весну из затворья. Река вспухала как беременная баба, синела от натуги, не в силах разродиться ледоходом, тогда приходилось делать «кесарево сечение»; взрывники появлялись в районе заторов – глыбы ледяного изумруда серебра тоннами взлетали в небеса, выпуская на вольную волю бешено вскипающую реку. И после этого на чистоводах начинали поскрипывать могучие туши плотов. Как деревянные мастодонты, как динозавры, вышедшие из дремучей тайги, – плоты потихоньку отваливали от берегов, устремляясь мордами на Север, пугая здешних русалок, водяных и возмущая Нептуна: кто там нарушил покой подводного царства, кто над головою солнце погасил?
Вот такая страна Плотогония существовала в воображении взрослого человека, имеющего сердце романтического юноши.
Страна Плотогония была, конечно, далеко не райским садом, однако Скрипалёв любил и почитал её. Дремучая, глухая Плотогония давала прибежище, деньги, а самое главное – ощущение воли. Не просто так давала, нет, приходилось батрачить, дай боже. Но Скрипалёв – трудяга, он умеет пахать, зарабатывать честным трудом, чтобы потом размашисто потратить несчастные эти бумажки.
Он бы не только гитару – целый оркестр купил бы, ничуть не сожалея о деньгах.
Уединившись после покупки инструмента, Птаха ощутил забытое волнение. Пригладив непокорный чубчик, бережно обнял гитару с женскими формами. Улыбнулся, облизнулся в предчувствии музыкального «вкусного блюда». Но после нескольких сложных пассажей огоньки в глазах погасли.
«Лажа! – Он посмотрел на руки. – Ну, что это? Клещи, а не пальцы. Какие к черту струны? Гвозди нужно дёргать такими пальцами!»
Продолжая подбирать аккорды замысловатой мелодии, Скрипалёв подумал: «Нет, пора покидать Плотогонию! Деньги получу, махну куда-нибудь, на черноморский берег, например. Хотя, ну их на фиг, эти берега! Лучше сынишку навестить, к деду наведаться в Соловьиную Балку».
Потихоньку, полегоньку он разыгрался, начал импровизировать на тему своей сердечной тоски и печали. А это значит – родина зазвенела в серебряных струнах.
Душа истосковалась по родимым раздольям, по запаху цветного разнотравья, среди которого ходят косари, ослепительно сверкая зеркалами литовок. Там свежие копны сейчас теремами поднялись в лугах, источая сладковато-угарный аромат. Берёзы на полянах свечками белеют. Избушка в Соловьиной Балке дремлет, пасека пчёлами жужжит. Боже, как там было хорошо! Вечером выйдешь – ох, матушка родная, тихо-то кругом, как тихо! И такая светлынь, что слеза на глаза наворачивается. Огромная луна в лугах восходит – половину неба отхватила. И река вдалеке, и родник у избушки под боком, и туман, что белой парусиной стелется, и малая росинка, дрожащая в стебле, – всё горит волшебным светом, всё переливается, играя причудливыми тенями. И в избушке, и в тёмном овраге – везде невероятная светлынь. И даже, наверно, светло в самой глубокой норе степной лисицы или бродяги-волка. Вечерами такими, захлёстнутый чувством восторга, он любил босиком прогуляться по «лунной» дороге. Шлёпает, бывало, по серебристой пыли – она встаёт, разбуженная, и лениво тянется, бледно-голубой извёсткой осыпает придорожные кусты, унизанные продолговатыми серёжками ягод. А он идёт себе, идёт и улыбается ночному небу, дремлющей земле. Останавливаясь, тёплой ладошкой ласкает сырые косички овса, наклоненного к самой дороге. Ласкает полынь, а потом, улыбаясь, губами зачем-то пробует на вкус креплёную полынную росу, в которой отражаются капельки раздробленной луны. Затем встаёт на цыпочки и, затаив дыхание, приближается к потаённым соловьиным гнёздам – святая святых. Приближается и замирает на почтительном расстоянии. Хочется ближе подойти, наклониться, посмотреть на спящих соловьят, в руках понянчить будущую песню, способную ошеломить окрестные поля, луга, леса. Но этого делать нельзя ни в коем случае – он знает. Зверёныш или птица, побывавшие в руках человека, могут быть потом обречены на голодную смерть; могут стать «чужими» для своих родителей, которые не переносят запах человека. Скорее всего, что к пернатым не относится подобная жестокость родителей, но лучше не рисковать. Птицу можно приручить, но птичью песню ручной не сделаешь, только навредишь ей своими неумелыми руками.
Вот о чём звенела семиструнная, откликаясь грубым пальцам плотогона, который так вдохновенно играл, прикрыв глаза, что даже не заметил, когда к нему пристроился Зиновий Зимоох.
Бригадир, дождавшись тишины, закурил и сказал:
– Ну, вот теперь я понял, что ты не зря угробил кучу денег.
Вставай, пошли. Такую красоту надо исполнять на публике.
В допотопном ресторанчике постоянно грохотал дешевый магнитофон, но сегодня усилитель сломался – два парня с отвертками ковырялись, провода распутывали.
– О! – приветливо крикнул один из них, с любопытством поглядев на Скрипалёва. – Музыка пришла. А ну-ка, сбацай нам чего-нибудь!
Для храбрости приняв грамм сто, Птаха плечи расправил. Гитара всё больше и больше покорялась ему. Поначалу игравшая глуховато как-то, под сурдинку, гитара стала сыпом сыпать серебро…
И неказистый, мрачный, прокуренный кабак, до потолка набитый матерками, начал затихать – прислушивались. Музыканта стали приглашать за столики. Другой на месте Пашки не преминул бы этим воспользоваться – на дармовщинку можно хорошенько «газануть». Но Скрипалёв не мог себе позволить рюмки собирать с чужого столика. Из вежливости, правда, он осушил рюмаху, но закуску – жареного тайменя – демонстративно отодвинул.
Разгоряченный выпивкой, он преобразился. Глаза по-орлиному зорко, возбуждённо поблескивали. На лбу расправилась глубокая, продольная морщина. Прямой и утончённый нос немного вздёрнулся. Припухлые губы, собранные в щепоть, расслабились, затаивши в уголках полуулыбку.
Дамы в ресторанчике стали засматриваться на музыканта.
И мужики, хмелея, косяка давили – что за фраер? Он это видел, он это чувствовал, и его подмывало от странного какого-то куража и, может быть, от предстоящей драки – дело привычное. Закинув ногу на ногу – независимый, раскрепощенный – Скрипалёв восседал у окошка и самозабвенно шерстил семиструнку, только что перестроенную на цыганский разбитной манер.
Музыка дразнила и звала плясать. И вот уже какой-то громадный северянин, покачнувшись, распрямился – достал кудрями до потолка. Это был всем тут хорошо знакомый Каторжавин Филипп Максимович. В Тикси он появлялся часто, потому заработал оригинальное отчество – Тиксимович.
Выйдя на средину между столиков, богатырь Тиксимович, потешно хлопая себя по ляжкам, взялся кирзачи от грязи околачивать, изображая лихой перепляс.
Кто-то в тельняшке гаркнул из угла, из дымного облака:
– Палубу, гляди, не проломи!
Весело разглядывая пьяного танцора, Скрипалёв не заметил, когда к нему за столик подсели две красавицы, от которых густо пахло чесноком и луком, недавно привезенным в Тикси. (Лук, чеснок и прочую бодягу, спасающую от цинги, здесь едят без ложного стеснения).
Прекратив плясовую, Птаха речитативом пропел:
И медленно пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна…