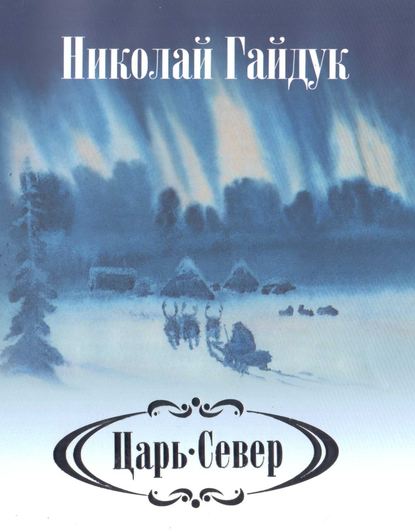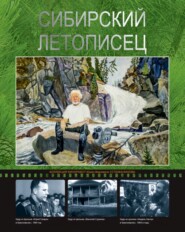По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Царь-Север
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я пущу! Дам коленом под ж…, будешь катиться до самого до этого… до Бледовитого океана.
Мужики опять захохотали, довольные; ловко, мол, управился бугор, заломил салазки Северьянычу. Но Храбореева не так-то просто одолеть. Бородатое лицо его налилось кипящей кровью. Он присел и неожиданно распрямился – точно сработал железный шатун на железных суставах.
Тяжелая туша артельного атамана легко взлетела в воздух, беспомощно болтая руками и ногами. Казимир чуть не ухнул в майну – вниз башкой.
Артельщики так и застыли – как будто подавились хохотом. Потом они гурьбою подскочили к Северьянычу. Рыча и матерясь, повисли на нём, угрожая:
– Остынь! А то мы тебя в майне замуруем!
Эти угрозы только раззадорили его.
– Успокойся, Нюра! Это десантура!
Бешено сверкая раскалённым взглядом, он раскидал матёрых мужиков, точно котят. Взял пешню наперевес и занял оборону возле майны – встал таким образом, чтобы с тылу подойти не могли. Но никто ни спереди, ни сзади в эту минуту даже и не думал подходить – нарываться на верную смерть. Мужики демонстративно отвернулись, делая вид, что никакого дела им не было и нет до этого придурка.
Он постоял, хрипя от напряжения. Разбитою верхней губой попытался дотянуться до носа. Потом шумно сплюнул бригадиру под ноги, бросил пешню и устало, медленно побрёл, куда глаза глядели.
Увязая в сугробах, спотыкаясь о льдины, торчком вмороженные в озеро, дошел до упора – до чёрной скалы, угловатой, изрядно изъеденной временем. Ветер, остро воющий на вершине скалы, не давал закрепиться ни деревцу, ни кустику – сбривал самую малую былинку.
Упираясь разгорячённым лбом в холодный голый камень, Храбореев заметил торчащий из трещины стебель незнакомого засохшего цветка, обряженного мохнатой изморозью. Остывая от сокрушительной ярости, он рассматривал мёрзлый цветок. Слушал, как горячее дыхание трещит и превращается в труху. Значит, завернуло под пятьдесят – выдыхаемый воздух смерзается и потрескивает при минус сорока пяти.
Отойдя от скалы, Храбореев остановился. Присел на камень, давней грозою отколотый от скалы. Тоскливо смотрел и смотрел на далёкие заснеженные горы. Смотрел и думал: там, за хребтами, на высокогорных тундровых пастбищах зимуют стада оленей, чтобы весной устремиться к берегам океана, оленят рожать в прохладных и зелёных тундровых привольях, где нет ни мошкары, ни калёной летающей «пули» под названием шмель.
Где-то в горах приглушенно гавкнул выстрел, – гулко раскатился в морозном воздухе. Белая былинка, стоявшая неподалёку от Северьяныча, – словно белая нитка, унизанная стеклярусом, тихонько покачнулась, отзываясь на движение воздуха, – пушинки инея косо и лениво поплыли по студёному пространству, чтобы через несколько секунд бесследно раствориться в тишине.
И Северьяныч вдруг улыбнулся. Его осенило. Разбитая губа, потревоженная улыбкой, закровоточила ещё сильнее. Сплюнутая кровь, замерзая, покатилась брусничной ягодой.
Возвратился он примерно через полчаса.
– Всё! – миролюбиво сказал, обращаясь ко всем. – Прости, атаман. И вы, казаки, не серчайте…
– Бог простит, – угрюмо ответил бригадир, почёсывая поясницу. – А премиальных тебе не видать, как собственных ушей!
Северьяныч улыбнулся, зачарованно глядя вдаль.
– Премиальные теперь я сам себе буду выписывать.
– Да? – Канюшина глаза увеличил. – Это как же?
– А так – одной левой.
– Ну, ну, посмотрим…
И снова Храбореев улыбнулся.
– Нет, бугор, ты не увидишь.
– Это почему?
Храбореев шапку снял, пригладил потные волосы.
– Слышь, бугор, – сказал он, глядя в небо. – А когда вертушка прилетит?
– Завтра. – Канюшина пожал плечами. – А тебе-то что? Зачем?
4
Рыбацкая хоромина стояла на пригорке. Над старою проржавленной трубой подрагивал еле заметный дымок.
Тяжело скрипя обувкою по снегу, Храбореев решительно двинулся к тёмной, покосившейся избе. Там находился дежурный – печку топил, похлёбку варил. Глаза у дежурного были насторожённые и даже несколько испуганные – он, видимо, был уже в курсе произошедших событий. «У курсе», как говорил Канюшина. Дежурный так постарался, так подсуетился – все ножи и вилки куда-то запропали.
«Вот это сдрейфили!» – подумал Антон Северьяныч, глядя в спину дежурного, торопливо и молча скрывающегося в дверях.
Он стал собирать нехитрые пожитки. Потом посидел у печи. Осмотрелся, глубоко вздыхая.
В рыбацкой хоромине в первую очередь пахло – естественно – рыбой. Здесь даже смола, протопившаяся на брёвнах, казалась золотистым рыбьим жиром. Да что там смола! Даже сами бревна – волнообразная желтовато-белая структура дерева – представлялась большими рыбинами, с которых топорами стесали мясо, обрубили сучки-позвонки. В избе с утра пораньше топилась печь – артельная, здоровая, куда на рассвете дежурный ставил замурзанный чугунный, двадцатилитровый жбан, в котором варится еда: и обед, и ужин. С утра тут было суетно, нервозно – никому не хотелось выходить на мороз, от которого зубы могли раскрошиться. Зато по вечерам здесь было так чудесно – не пересказать. Усталые артельщики, от еды и тепла разомлевшие – да если ещё по сто грамм пропустившие – вдруг становились неузнаваемыми. Куда-то уходила угрюмость, озлобленность, оттаивали строгие и ожесточённые глаза. И слова у них под языками как будто бы тоже оттаивали – слова всё больше добрые, спокойные, слова, обращённые к дому своему, своей семье, к ненаглядной северной природе. Это было то краткое время, когда Храбореев уважал их всех – поголовно, что называется. Уважал и любил молчаливой мужицкой любовью. В такие минуты он был уверен, что вот это и есть – Народ, или частица Народа, на котором всегда стояла и стоит держава. Сколько тут было шуток, прибауток! Сколько тут сердечных историй открывалось – иногда весёлых, но чаще, увы, драматичных и даже трагичных. И ему было жалко, обидно до слёз, когда этот же самый Народ вдруг становился народом с маленькой буквы. Мужики превращались в каких-то мелких и плюгавых мужичков, что-то не поделивших, готовых глотку перегрызть друг другу из-за лишней рыбины или банки икры. Этот народ в нём вызывал презрение, потому что он бревна не видел в своём глазу – забывал, как сам он когда-то рвал и метал на озёрах и реках, браконьерским способом пытаясь разбогатеть.
Под ногами что-то затрещало, отвлекая от грустных раздумий. Храбореев раздавил поплавок – из-под кровати выкатился, когда он вещи собирал.
Дежурный вернулся – раскраснелся от мороза сильней, чем от плиты.
– Собираешься? – с грустью спросил он. – А может, остался бы? А? Канюшина мне сейчас сказал, ты сходи, мол, намекни ему, дураку, что вся артель не против…
Приятно было слышать этот жалкий лепет от губошлёпа-дежурного.
Человек – это всё же стадная животина, вот почему Храборееву вдруг стало жаль покидать уютную эту, хотя и убогую, рыбацкую хоромину. Здесь – в кругу артели – было теплей и надёжней. И всякое решение здесь принимали за тебя. А там, куда он теперь нацелился – там нужно будет всё брать на себя. А это нелегко. Порою даже очень нелегко. И потому сейчас, когда пришёл дежурный и залепетал; сейчас, когда он закурил «на посошок» – ему вдруг стало зябко возле печки. Зябко от того, что предстоит… И где-то в подсознании – глубоко в пещере потаённых мыслей – какой-то чёртик вильнул хвостом и стал ему нашёптывать: «Зачем, зачем тебе вся эта канитель? Здесь было так уютно и так сытно – возле этого артельного котла…»
– Да пошёл ты! – поднимаясь, сказал Северьяныч и вдруг засмеялся, обращаясь к дежурному: – Это я не тебе, не подумай худого…
Дежурный посмотрел на скрипнувшую дверь. Пожал плечами.
«А если не мне, то кому? – подумал он, озираясь. – А может, хорошо, если уедет? Странный всё-таки дядя…»
Вертушка прилетела по расписанию – привезла продукты, горючку для бензопил и новые отточенные цепи; старые или уже затупились, или порвались где-то в глубине могучей майны.
Северьяныч улетел без сожаления.
Так началась его охотничья судьба – судьба одинокого полярного волка, всей душой полюбившего тундровые просторы. Житьё таких вольных «волков» не отличается весельем, достатком или сытостью, но тот, кто вкусил этой воли, кто вдохнул в себя этот вселенский первозданный простор – тот уже свою судьбу не променяет ни на какие земные блага.
5
Весной – на переломе к полярному лету – в небесах над Севером становилось громко, тесно, весело. Из дальних уголков Земного шара – из Манчжурии, Африки, Нидерландов – опять сюда стремились перелётные птицы, горячим сердцем чувствуя магнитное поле Земли также безошибочно, как стрелка компаса. На родные «дворянские» гнёзда возвращались лебеди, гуси, журавли, краснозобые казарки и множество другого пернатого народонаселения. На открытых просторах тундры и под сенью таинственных потеплевших лесов затевались любовные игры.
Хорошо, любо-дорого вешними днями. Можно выйти из душного зимовья, сесть на пенёк, смотреть на Божий мир – не насмотреться. Вот промелькнула проворная кукша. Трудяга. Не покладая крыльев, кукша таскает в клюве оленью шерсть; раздобыла где-то, мастерит гнездо. Проголодавшись, кукша опустилась около избушки. Хитровато скособочилась на охотничью лайку, дремлющую на солнцепеке. Подлетела, схватила из кормушки кусочек мяса – и тикать. А собака – ноль внимания и фунт презрения. Сытая, дурында, сонная. Лениво разлепив глаза, лайка зевнула и опять на боковую.
Охотник сердито сказал:
– Чо ты дрыхнешь? Тетеря. Она тебя скоро ограбит, а ты лежишь, ушами хлопаешь. Балда.
Мужики опять захохотали, довольные; ловко, мол, управился бугор, заломил салазки Северьянычу. Но Храбореева не так-то просто одолеть. Бородатое лицо его налилось кипящей кровью. Он присел и неожиданно распрямился – точно сработал железный шатун на железных суставах.
Тяжелая туша артельного атамана легко взлетела в воздух, беспомощно болтая руками и ногами. Казимир чуть не ухнул в майну – вниз башкой.
Артельщики так и застыли – как будто подавились хохотом. Потом они гурьбою подскочили к Северьянычу. Рыча и матерясь, повисли на нём, угрожая:
– Остынь! А то мы тебя в майне замуруем!
Эти угрозы только раззадорили его.
– Успокойся, Нюра! Это десантура!
Бешено сверкая раскалённым взглядом, он раскидал матёрых мужиков, точно котят. Взял пешню наперевес и занял оборону возле майны – встал таким образом, чтобы с тылу подойти не могли. Но никто ни спереди, ни сзади в эту минуту даже и не думал подходить – нарываться на верную смерть. Мужики демонстративно отвернулись, делая вид, что никакого дела им не было и нет до этого придурка.
Он постоял, хрипя от напряжения. Разбитою верхней губой попытался дотянуться до носа. Потом шумно сплюнул бригадиру под ноги, бросил пешню и устало, медленно побрёл, куда глаза глядели.
Увязая в сугробах, спотыкаясь о льдины, торчком вмороженные в озеро, дошел до упора – до чёрной скалы, угловатой, изрядно изъеденной временем. Ветер, остро воющий на вершине скалы, не давал закрепиться ни деревцу, ни кустику – сбривал самую малую былинку.
Упираясь разгорячённым лбом в холодный голый камень, Храбореев заметил торчащий из трещины стебель незнакомого засохшего цветка, обряженного мохнатой изморозью. Остывая от сокрушительной ярости, он рассматривал мёрзлый цветок. Слушал, как горячее дыхание трещит и превращается в труху. Значит, завернуло под пятьдесят – выдыхаемый воздух смерзается и потрескивает при минус сорока пяти.
Отойдя от скалы, Храбореев остановился. Присел на камень, давней грозою отколотый от скалы. Тоскливо смотрел и смотрел на далёкие заснеженные горы. Смотрел и думал: там, за хребтами, на высокогорных тундровых пастбищах зимуют стада оленей, чтобы весной устремиться к берегам океана, оленят рожать в прохладных и зелёных тундровых привольях, где нет ни мошкары, ни калёной летающей «пули» под названием шмель.
Где-то в горах приглушенно гавкнул выстрел, – гулко раскатился в морозном воздухе. Белая былинка, стоявшая неподалёку от Северьяныча, – словно белая нитка, унизанная стеклярусом, тихонько покачнулась, отзываясь на движение воздуха, – пушинки инея косо и лениво поплыли по студёному пространству, чтобы через несколько секунд бесследно раствориться в тишине.
И Северьяныч вдруг улыбнулся. Его осенило. Разбитая губа, потревоженная улыбкой, закровоточила ещё сильнее. Сплюнутая кровь, замерзая, покатилась брусничной ягодой.
Возвратился он примерно через полчаса.
– Всё! – миролюбиво сказал, обращаясь ко всем. – Прости, атаман. И вы, казаки, не серчайте…
– Бог простит, – угрюмо ответил бригадир, почёсывая поясницу. – А премиальных тебе не видать, как собственных ушей!
Северьяныч улыбнулся, зачарованно глядя вдаль.
– Премиальные теперь я сам себе буду выписывать.
– Да? – Канюшина глаза увеличил. – Это как же?
– А так – одной левой.
– Ну, ну, посмотрим…
И снова Храбореев улыбнулся.
– Нет, бугор, ты не увидишь.
– Это почему?
Храбореев шапку снял, пригладил потные волосы.
– Слышь, бугор, – сказал он, глядя в небо. – А когда вертушка прилетит?
– Завтра. – Канюшина пожал плечами. – А тебе-то что? Зачем?
4
Рыбацкая хоромина стояла на пригорке. Над старою проржавленной трубой подрагивал еле заметный дымок.
Тяжело скрипя обувкою по снегу, Храбореев решительно двинулся к тёмной, покосившейся избе. Там находился дежурный – печку топил, похлёбку варил. Глаза у дежурного были насторожённые и даже несколько испуганные – он, видимо, был уже в курсе произошедших событий. «У курсе», как говорил Канюшина. Дежурный так постарался, так подсуетился – все ножи и вилки куда-то запропали.
«Вот это сдрейфили!» – подумал Антон Северьяныч, глядя в спину дежурного, торопливо и молча скрывающегося в дверях.
Он стал собирать нехитрые пожитки. Потом посидел у печи. Осмотрелся, глубоко вздыхая.
В рыбацкой хоромине в первую очередь пахло – естественно – рыбой. Здесь даже смола, протопившаяся на брёвнах, казалась золотистым рыбьим жиром. Да что там смола! Даже сами бревна – волнообразная желтовато-белая структура дерева – представлялась большими рыбинами, с которых топорами стесали мясо, обрубили сучки-позвонки. В избе с утра пораньше топилась печь – артельная, здоровая, куда на рассвете дежурный ставил замурзанный чугунный, двадцатилитровый жбан, в котором варится еда: и обед, и ужин. С утра тут было суетно, нервозно – никому не хотелось выходить на мороз, от которого зубы могли раскрошиться. Зато по вечерам здесь было так чудесно – не пересказать. Усталые артельщики, от еды и тепла разомлевшие – да если ещё по сто грамм пропустившие – вдруг становились неузнаваемыми. Куда-то уходила угрюмость, озлобленность, оттаивали строгие и ожесточённые глаза. И слова у них под языками как будто бы тоже оттаивали – слова всё больше добрые, спокойные, слова, обращённые к дому своему, своей семье, к ненаглядной северной природе. Это было то краткое время, когда Храбореев уважал их всех – поголовно, что называется. Уважал и любил молчаливой мужицкой любовью. В такие минуты он был уверен, что вот это и есть – Народ, или частица Народа, на котором всегда стояла и стоит держава. Сколько тут было шуток, прибауток! Сколько тут сердечных историй открывалось – иногда весёлых, но чаще, увы, драматичных и даже трагичных. И ему было жалко, обидно до слёз, когда этот же самый Народ вдруг становился народом с маленькой буквы. Мужики превращались в каких-то мелких и плюгавых мужичков, что-то не поделивших, готовых глотку перегрызть друг другу из-за лишней рыбины или банки икры. Этот народ в нём вызывал презрение, потому что он бревна не видел в своём глазу – забывал, как сам он когда-то рвал и метал на озёрах и реках, браконьерским способом пытаясь разбогатеть.
Под ногами что-то затрещало, отвлекая от грустных раздумий. Храбореев раздавил поплавок – из-под кровати выкатился, когда он вещи собирал.
Дежурный вернулся – раскраснелся от мороза сильней, чем от плиты.
– Собираешься? – с грустью спросил он. – А может, остался бы? А? Канюшина мне сейчас сказал, ты сходи, мол, намекни ему, дураку, что вся артель не против…
Приятно было слышать этот жалкий лепет от губошлёпа-дежурного.
Человек – это всё же стадная животина, вот почему Храборееву вдруг стало жаль покидать уютную эту, хотя и убогую, рыбацкую хоромину. Здесь – в кругу артели – было теплей и надёжней. И всякое решение здесь принимали за тебя. А там, куда он теперь нацелился – там нужно будет всё брать на себя. А это нелегко. Порою даже очень нелегко. И потому сейчас, когда пришёл дежурный и залепетал; сейчас, когда он закурил «на посошок» – ему вдруг стало зябко возле печки. Зябко от того, что предстоит… И где-то в подсознании – глубоко в пещере потаённых мыслей – какой-то чёртик вильнул хвостом и стал ему нашёптывать: «Зачем, зачем тебе вся эта канитель? Здесь было так уютно и так сытно – возле этого артельного котла…»
– Да пошёл ты! – поднимаясь, сказал Северьяныч и вдруг засмеялся, обращаясь к дежурному: – Это я не тебе, не подумай худого…
Дежурный посмотрел на скрипнувшую дверь. Пожал плечами.
«А если не мне, то кому? – подумал он, озираясь. – А может, хорошо, если уедет? Странный всё-таки дядя…»
Вертушка прилетела по расписанию – привезла продукты, горючку для бензопил и новые отточенные цепи; старые или уже затупились, или порвались где-то в глубине могучей майны.
Северьяныч улетел без сожаления.
Так началась его охотничья судьба – судьба одинокого полярного волка, всей душой полюбившего тундровые просторы. Житьё таких вольных «волков» не отличается весельем, достатком или сытостью, но тот, кто вкусил этой воли, кто вдохнул в себя этот вселенский первозданный простор – тот уже свою судьбу не променяет ни на какие земные блага.
5
Весной – на переломе к полярному лету – в небесах над Севером становилось громко, тесно, весело. Из дальних уголков Земного шара – из Манчжурии, Африки, Нидерландов – опять сюда стремились перелётные птицы, горячим сердцем чувствуя магнитное поле Земли также безошибочно, как стрелка компаса. На родные «дворянские» гнёзда возвращались лебеди, гуси, журавли, краснозобые казарки и множество другого пернатого народонаселения. На открытых просторах тундры и под сенью таинственных потеплевших лесов затевались любовные игры.
Хорошо, любо-дорого вешними днями. Можно выйти из душного зимовья, сесть на пенёк, смотреть на Божий мир – не насмотреться. Вот промелькнула проворная кукша. Трудяга. Не покладая крыльев, кукша таскает в клюве оленью шерсть; раздобыла где-то, мастерит гнездо. Проголодавшись, кукша опустилась около избушки. Хитровато скособочилась на охотничью лайку, дремлющую на солнцепеке. Подлетела, схватила из кормушки кусочек мяса – и тикать. А собака – ноль внимания и фунт презрения. Сытая, дурында, сонная. Лениво разлепив глаза, лайка зевнула и опять на боковую.
Охотник сердито сказал:
– Чо ты дрыхнешь? Тетеря. Она тебя скоро ограбит, а ты лежишь, ушами хлопаешь. Балда.