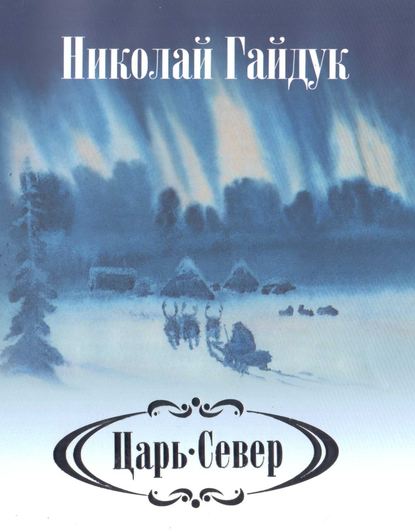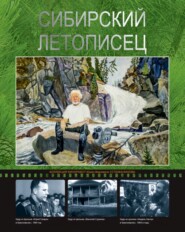По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Царь-Север
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как это ни обидно, а всё же факт: наивность хороша до определённых пределов, а дальше – увы! – начинается глупость. Не сразу до художника дошло, что его разыгрывают как мальчишку. Напрягаясь, он летел как курва с котелком – с потёртым, заштопанным рюкзаком-парашютом. Летел, потел, пыхтел и другие звуки издавал – звуки испуга и изумления, понемногу перерастающего в восторг.
Редкий человек не восторгался этим гениальным лётчиком.
Абросим Алексеевич Мастаков был мастер своего дела. Мастак. Не зря его прозвали воздушным акробатом. Но Тиморей пока ещё не знал и потому кольцо «парашюта» готовился рвануть, когда Ми-8 – уже в который раз – неожиданно резко заваливался набок, словно теряя управление и грозя опрокинуться в пучину, вскипающую белыми стружками пены. Это был нормальный почерк Мастакова, азартного рыбака. В тундре он частенько так летал – «набекрень». Зависал над реками, высматривал тайменя на перекатах, в омутах, в ямах с обратным течением и даже под водопадами – в излюбленных местах кормёжки. Обнаружив тайменя, Абросим Алексеевич отдавал штурвал помощнику, а сам хватал рыбацкое орудие. Вертушка зависала над рекой – и начиналось цирковое представление. Командир не успевал блесну закидывать. Таймень хватал рывком, как бешеный. Садился на мёртвый зацеп и превращался в «летающую рыбу». Яростно сопротивляясь, таймень взмывал на леске. Калёными жестянками жабры топорщил, одуревая от воздуха. Толстым брусковатым телом кренделя выделывал, пытаясь сорваться с крючьев. Попадая в тёмную трясучую кабину, таймень ударялся крупной башкой о грязный пол и ошарашено пялился на хохочущего рыбака, с кровью, с мясом впопыхах вырывающего из рыбьей пасти самопальную блесну, вооруженную тройником из кованых крючьев. Скоро в салоне вертолёта на полу трепыхалось несколько упитанных «зверей». Как в магазин сходили. Бросая спиннинг, вытирая руки, Мастаков садился за штурвал. Подмигивал помощнику и дальше гнал вертушку.
Довольный рыбалкой с воздуха, Абросим Алексеевич пригласил новичка в кабину.
– А мы ведь знакомы! – сказал Мастаков. – Забыл? Мы с тобою вместе ссылку в Туруханске отбывали. Ха-ха…
– Ссылку? – Лицо Тиморея вдруг просияло. – А я сижу и думаю, ну, где я видел вас? А там, в салоне-то, немного свету, не разглядел. А вот теперь – узнаю! Да, да, мы с вами встречались во время грозы в Туруханске. Я даже хотел портрет ваш написать. Натюрморду, как сказал один великий…
– Верно, верно! – Мастаков засмеялся. – Мир тесен! Ну, как ты? Где живешь?
– Всё там же. На Валдае.
– Чем занимаешься?
– Работаю… валдайским колокольчиком.
– Это как понять?
– А так, болтаюсь под дугой… – Тиморей усмехнулся. – Это называется – быть на вольных хлебах.
– Да? Ты что-то не сильно поправился на этих хлебах.
– Ничего, поправлюсь. Хочу в Ленинград перебраться. Там можно будет выставку устроить.
– Правильно мыслишь. Надо на большую дорогу выходить.
– На большую дорогу с топором выходят. – Парень засмеялся. – А у меня только кисточка да карандаш.
В ту далёкую пору Тиморей Дорогин только-только начал зарабатывать на жизнь своим робким художеством, с хлеба на квас перебивался. Приходилось малевать портреты передовиков социалистического соревнования – «натюрморды», как шутил Дорогин. А для души у него была работа над «Красной книгой», которую правильнее было бы назвать «красной фигой»: смотришь в эту книгу, а видишь фигу – исчезающие растения, редких животных и зверьё. Красную книгу пишет всё человечество, бездарно пишет, не переставая удивлять тупым упорством в деле «покорения» природы.
2
Алмазом чистейшей воды заповедное озеро покоилось в горной расселине – в гигантских каменных ладонях. Два берега, далёких друг от друга берега – южный и северный – выглядели, как сын и пасынок в семье у матери-природы. На южном берегу – тайга темнела. Верней, остатки тех богатырей, которые с боями и потерями добрались до этой суровой широты. Узловатыми лапами упираясь в каменистую землю, возвышались матёрые мудрые кедры, немилосердно мятые ветрами, битые градом, колотые молнией. Редко, но картинно стояли пихты – бородатые как лешаки. Чёрные дыры, ведущие в ельник, напоминали чумазое чрево огромной печи, где под осень лежат калачи – белые крепкие грузди, на шляпе своей сохранившие брильянтовую брошечку росы. В небесах над южным побережьем можно видеть редкого сокола – белого кречета. А верхний берег, северный, – своеобразный приют печали. Там, как пьяный мужичонка, покачиваясь, «за воздух» держался худосочный листвяк. Полярные березки закручены узлами. Чахоточные кустики с листом в копейку, побитую зелёной плесенью. Голые утёсы, сложенные из плитняка, прошиты камнеломкой. На карнизах утесов короткою летней порой шустрили и шумели птичьи базары, где «торговали» многочисленные чайки и прожорливые нагловатые бургомистры; так здесь именуют полярную чайку, самую крупную из этих птиц.
Заслоняя солнце по-над озером, вертушка развернулась стеклянным лбом на ветер и плавно опустилась на берег Тайгаыра – на маленькую ровную подошву.
Мастаков, выходя, осмотрелся. Громко, озабоченно спросил у Архангельского:
– А где он?
– Был на месте.
– Да где на месте-то? Не видно.
Эдуард развел руками.
– Я не трогал, не знаю…
– А где же он тогда?
Тиморей в недоумении смотрел на них.
– Вы что-то потеряли?
Абросим Алексеевич нахмурился.
– Тимка! Не в службу, а в дружбу, сходи, посмотри. Вон за тем пригорком должен быть круг… полярный… Если никто не забрал. Людишки-то разные бродят.
Волны шумели под берегом, и Тиморей толком не расслышал, что от него хотят. Поднявшись на каменистый пригорок, он увидел полярные маки, длинноногими цыплятами желтевшие среди лохмотьев снега. Опустившись на колено, художник полюбовался двумя-тремя «цыплятами» – крылья бойко трепетали на ветру.
– Нашел?! – позвали парня. – Ты где?
Выходя из-за пригорка, Тиморей пожал плечами.
– Там цветы… – Он отряхнул колено. – А что вы ищете?
Переглянувшись, вертолетчики за животы схватились.
– Да мы-то ничего. А ты? Нашел?..
– А кого я тут должен найти?
– Полярный круг! – Мастаков ногой потопал по земле. – Он где-то здесь проходит! На широте шестьдесят шестого градуса.
– Правда? Во, как хорошо!
– Хорошо-то хорошо, – со вздохом согласился вертолётчик. – Одно только плохо: пощупать нельзя.
– Так он же не баба… – Архангельский опять расхохотался. – Чего его щупать?
Художник усмехнулся.
– А, по-моему, вы заливаете!
– А мы всегда перед полётом заливаем, – подхватил Мастаков. – Полные баки причём. А как иначе? С пустыми далеко не улетишь!
«Острый ум, – отметил Тиморей. – Вот хохмачи!»
За спинами у них раздался приглушённый собачий лай – эхо покатилось между деревьями.
Со стороны избушки, стоящей на берегу, чуть припадая на левую ногу, шагал промысловик. Следом, шныряя носом по кустам, строчила северная лайка, белая, с чёрной меткой на груди, в чёрных носочках «на босу ногу».
– Здорово, Дед-Борей! – издалека поприветствовал командир. – Гостя привезли тебе. Художник. Будет портрет малевать.
Охотник отмахнулся, подходя:
Редкий человек не восторгался этим гениальным лётчиком.
Абросим Алексеевич Мастаков был мастер своего дела. Мастак. Не зря его прозвали воздушным акробатом. Но Тиморей пока ещё не знал и потому кольцо «парашюта» готовился рвануть, когда Ми-8 – уже в который раз – неожиданно резко заваливался набок, словно теряя управление и грозя опрокинуться в пучину, вскипающую белыми стружками пены. Это был нормальный почерк Мастакова, азартного рыбака. В тундре он частенько так летал – «набекрень». Зависал над реками, высматривал тайменя на перекатах, в омутах, в ямах с обратным течением и даже под водопадами – в излюбленных местах кормёжки. Обнаружив тайменя, Абросим Алексеевич отдавал штурвал помощнику, а сам хватал рыбацкое орудие. Вертушка зависала над рекой – и начиналось цирковое представление. Командир не успевал блесну закидывать. Таймень хватал рывком, как бешеный. Садился на мёртвый зацеп и превращался в «летающую рыбу». Яростно сопротивляясь, таймень взмывал на леске. Калёными жестянками жабры топорщил, одуревая от воздуха. Толстым брусковатым телом кренделя выделывал, пытаясь сорваться с крючьев. Попадая в тёмную трясучую кабину, таймень ударялся крупной башкой о грязный пол и ошарашено пялился на хохочущего рыбака, с кровью, с мясом впопыхах вырывающего из рыбьей пасти самопальную блесну, вооруженную тройником из кованых крючьев. Скоро в салоне вертолёта на полу трепыхалось несколько упитанных «зверей». Как в магазин сходили. Бросая спиннинг, вытирая руки, Мастаков садился за штурвал. Подмигивал помощнику и дальше гнал вертушку.
Довольный рыбалкой с воздуха, Абросим Алексеевич пригласил новичка в кабину.
– А мы ведь знакомы! – сказал Мастаков. – Забыл? Мы с тобою вместе ссылку в Туруханске отбывали. Ха-ха…
– Ссылку? – Лицо Тиморея вдруг просияло. – А я сижу и думаю, ну, где я видел вас? А там, в салоне-то, немного свету, не разглядел. А вот теперь – узнаю! Да, да, мы с вами встречались во время грозы в Туруханске. Я даже хотел портрет ваш написать. Натюрморду, как сказал один великий…
– Верно, верно! – Мастаков засмеялся. – Мир тесен! Ну, как ты? Где живешь?
– Всё там же. На Валдае.
– Чем занимаешься?
– Работаю… валдайским колокольчиком.
– Это как понять?
– А так, болтаюсь под дугой… – Тиморей усмехнулся. – Это называется – быть на вольных хлебах.
– Да? Ты что-то не сильно поправился на этих хлебах.
– Ничего, поправлюсь. Хочу в Ленинград перебраться. Там можно будет выставку устроить.
– Правильно мыслишь. Надо на большую дорогу выходить.
– На большую дорогу с топором выходят. – Парень засмеялся. – А у меня только кисточка да карандаш.
В ту далёкую пору Тиморей Дорогин только-только начал зарабатывать на жизнь своим робким художеством, с хлеба на квас перебивался. Приходилось малевать портреты передовиков социалистического соревнования – «натюрморды», как шутил Дорогин. А для души у него была работа над «Красной книгой», которую правильнее было бы назвать «красной фигой»: смотришь в эту книгу, а видишь фигу – исчезающие растения, редких животных и зверьё. Красную книгу пишет всё человечество, бездарно пишет, не переставая удивлять тупым упорством в деле «покорения» природы.
2
Алмазом чистейшей воды заповедное озеро покоилось в горной расселине – в гигантских каменных ладонях. Два берега, далёких друг от друга берега – южный и северный – выглядели, как сын и пасынок в семье у матери-природы. На южном берегу – тайга темнела. Верней, остатки тех богатырей, которые с боями и потерями добрались до этой суровой широты. Узловатыми лапами упираясь в каменистую землю, возвышались матёрые мудрые кедры, немилосердно мятые ветрами, битые градом, колотые молнией. Редко, но картинно стояли пихты – бородатые как лешаки. Чёрные дыры, ведущие в ельник, напоминали чумазое чрево огромной печи, где под осень лежат калачи – белые крепкие грузди, на шляпе своей сохранившие брильянтовую брошечку росы. В небесах над южным побережьем можно видеть редкого сокола – белого кречета. А верхний берег, северный, – своеобразный приют печали. Там, как пьяный мужичонка, покачиваясь, «за воздух» держался худосочный листвяк. Полярные березки закручены узлами. Чахоточные кустики с листом в копейку, побитую зелёной плесенью. Голые утёсы, сложенные из плитняка, прошиты камнеломкой. На карнизах утесов короткою летней порой шустрили и шумели птичьи базары, где «торговали» многочисленные чайки и прожорливые нагловатые бургомистры; так здесь именуют полярную чайку, самую крупную из этих птиц.
Заслоняя солнце по-над озером, вертушка развернулась стеклянным лбом на ветер и плавно опустилась на берег Тайгаыра – на маленькую ровную подошву.
Мастаков, выходя, осмотрелся. Громко, озабоченно спросил у Архангельского:
– А где он?
– Был на месте.
– Да где на месте-то? Не видно.
Эдуард развел руками.
– Я не трогал, не знаю…
– А где же он тогда?
Тиморей в недоумении смотрел на них.
– Вы что-то потеряли?
Абросим Алексеевич нахмурился.
– Тимка! Не в службу, а в дружбу, сходи, посмотри. Вон за тем пригорком должен быть круг… полярный… Если никто не забрал. Людишки-то разные бродят.
Волны шумели под берегом, и Тиморей толком не расслышал, что от него хотят. Поднявшись на каменистый пригорок, он увидел полярные маки, длинноногими цыплятами желтевшие среди лохмотьев снега. Опустившись на колено, художник полюбовался двумя-тремя «цыплятами» – крылья бойко трепетали на ветру.
– Нашел?! – позвали парня. – Ты где?
Выходя из-за пригорка, Тиморей пожал плечами.
– Там цветы… – Он отряхнул колено. – А что вы ищете?
Переглянувшись, вертолетчики за животы схватились.
– Да мы-то ничего. А ты? Нашел?..
– А кого я тут должен найти?
– Полярный круг! – Мастаков ногой потопал по земле. – Он где-то здесь проходит! На широте шестьдесят шестого градуса.
– Правда? Во, как хорошо!
– Хорошо-то хорошо, – со вздохом согласился вертолётчик. – Одно только плохо: пощупать нельзя.
– Так он же не баба… – Архангельский опять расхохотался. – Чего его щупать?
Художник усмехнулся.
– А, по-моему, вы заливаете!
– А мы всегда перед полётом заливаем, – подхватил Мастаков. – Полные баки причём. А как иначе? С пустыми далеко не улетишь!
«Острый ум, – отметил Тиморей. – Вот хохмачи!»
За спинами у них раздался приглушённый собачий лай – эхо покатилось между деревьями.
Со стороны избушки, стоящей на берегу, чуть припадая на левую ногу, шагал промысловик. Следом, шныряя носом по кустам, строчила северная лайка, белая, с чёрной меткой на груди, в чёрных носочках «на босу ногу».
– Здорово, Дед-Борей! – издалека поприветствовал командир. – Гостя привезли тебе. Художник. Будет портрет малевать.
Охотник отмахнулся, подходя: