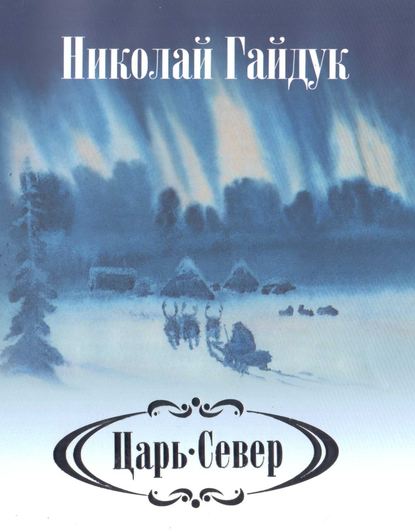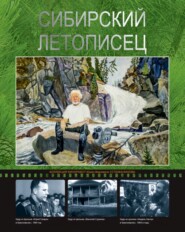По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Царь-Север
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Много званых, да мало избранных.
– Это как же? Рад бы в рай, да грехи не пускают?
– Примерно так, – подтвердил небожитель. – Знаешь, как смешно и грустно нам бывает смотреть оттуда на вашу Землю, вашу возню…
– И что же вам оттуда видно?
– Всё! Видно, как вы тут, на Крайнем Севере, коптите небеса – аж до звезды долетает проклятая сажа. Как вы тут здоровье гробите своё. И за что? За копейку? Горло друг дружке грызёте. Совестью торгуете…
Дед-Борей насупился.
– Я уж давно не гонюсь за копейкой. По молодости, по глупости было, не спорю…
– Я не про тебя… Я вообще – про людей говорю. Несчастные они какие-то. Мне их так бывает жалко, взял бы, зачерпнул и золотом осыпал бы – нате, сколько хотите, только не ройтесь в земле, оторвитесь и посмотрите, какое сказочное небо над головами.
И в самом деле, Господи, какое изумительное небо над землей! И день за днём оно становится ещё великолепнее. Припекает солнце. Смеются ручейки на склонах, куда-то пробегая по своим делам. Расплавленными яркими дробинами под окошком охотничьего зимовья стучит капель… Желтый прошлогодний лист, перезимовавший в снегу, оттаял под берёзой, ожил и вдруг откликнулся игривому ветру: встрепенувшись, листик поднялся на крыло и улетел восвояси. На заповедном озере вода вспухает около берега, становится увеличительным стеклом – жарко отражает яркие лучи. Каменный Бык, много веков назад сгорбатившийся на противоположном берегу, принимается «жевать солому» – желтоватая вода, играя отраженным солнцем, плещется возле гранитного рыла. Трясогузки появились, весело порхают около избушки, пробуют мох теребить между бревнами, куда выползают погреться какие-то букашки да козявки. В прошлогодней спутанной грязной траве шмыгают рыжие лемминги, словно чертики, только без рожек, без хвоста.
– Эй, – шутливо сердится охотник, – вы еще тут будете под ногами путаться!
Мышь с разгона пулей втыкается в мягкий подмокший сугроб – дырка синеет в снегу. На крыше колокольцами позванивают воробьи, весенним ветром принесенные Бог весь откуда-то. Ласточка-береговушка стремглав ныряет с неба к солнечной воде и взмывает над голыми крутыми лбами соседних скал. Угрюмый, всю зиму сурово молчавший утес разговорился вешними днями – светлым длинным языком из гранитной пасти высунулась шумная вода. Потоки дробятся у подножья утеса, а ночью там нарастает белая рафинадная глыба.
По ночам – с характерным хрясканьем и утробным уханьем – на озере ломается ледяная броня, словно там горбатится бригада рыбаков: пешнями долбит, колуном дубасит, вырубая глубокие майны во льду; люди спускаются по ступеням к воде, чтобы сетями таскать жирного сига, чира и пелядь, как делали это далёкие дерзкие пращуры.
Полуденное солнышко ласкает так, что в заветерье можно загорать – не надо ни Крыма, ни Рима. Заснеженные кедры, сосны, лиственницы, медово млея на солнцепеке, неохотно разголяются; поскрипывая в тишине, покряхтывая, снимают боярские шубы и кафтаны, стеганые ветром. На водоразделах оживают ручьи, серебряными сверлами буравят аквамариновый лед на притоках. По каменному желобу, проточенному в скале, вода катом катится с верхнего яруса гор – вылетает на край, раскрывается шумным водопадом, издалека похожим на стекловидные трепетные крылья огромной стрекозы.
По тайге, по тундре двинулся песец.
– Люблю я эту зверушку, – говорит Северьяныч. – Я могу про песца песни под гармошку петь или поэмы слагать, только слушай.
* * *
Песец – это бродяга, романтик Севера, великий бесшабашный странник. Восемь месяцев в году песец, забубенный шельмец, пропадает где-то в чужих краях. Не иначе как вино и водку хлещет где-нибудь по кабакам, песни орёт и рубаху на груди своей в лохмотья рвёт, другим песцам, бродягам-братьям доказывая что-то. А с первыми весенними припёками – в марте или в апреле, – заслышав голос сердца, вековечный зов природы, он говорит себе: ну, все, песец, пора, мол, покоя сердце просит, летят за днями дни и каждый день уносит… В общем, бродяга торопится к родине. Бродяга Байкал переехал, рыбацкую лодку берет… Добравшись до родных краев, песец начинает искать на бесконечных тундровых просторах, и находит – обязательно находит! – самую лучшую в мире песчиху. Под музыку ветра с капелями, под свирельное журчание ручьев сыграют они свою скромную свадьбу, станут одной семьей – семьей Песцовых. И пойдут искать себе жилье, благо, здесь – в тайге и в тундре – нет проблемы с квартирами. Из века в век, не покладая мозолистых лап, трудились пращуры песцов, понастроили чёртову уйму подземных дворцов. Крылечко, то есть бугорок, удобренный отходами и остатками многолетней пищи, издалека видать.
Присмотрев хорошую хоромину, молодожёны берутся очищать да освещать жильё, расширяя подземные галереи, делая отнорки и пробивая дополнительные выходы – на всякий пожарный случай. А через пятьдесят деньков, когда земляная завалинка возле дома обрастет, обтыкается зеленой пахучей травкой и зацветет неярким тундровым цветком, – на пятьдесят втором или на третьем дне, – в доме Песцовых появятся детишки. И душа у родителей тоже зацветёт незримым, но ярким цветком. То-то радости в доме! Возможно, два иль три детеныша родится. Может быть, четыре. А может, все двадцать песчат по углам зазывно запищат, – это уж как папа с мамой постарались. Но главный вершитель судьбы, – конечно, сама Природа, которая знает, каким будет грядущий год и надо ли «нищету плодить», как люди говорят.
Товарищ или господин Песцов, ставши отцом, неожиданно преображается. Он теперь водку не пьёт и не курит табак. И позабыл он дорогу в кабак. Вчерашний бродяга, беспечный романтик тундрового простора, Песцов прижимает свой хвост и превращается в добропорядочного солидного семьянина. И денно и нощно таскает он пищу домой, кормит бабёнку свою в первые дни, когда она благополучно разродилась. Летом в доме на столе в семье Песцовых можно увидеть ягоды, птичьи яйца, мясо птиц или животных, погибших во время шторма на озере.
Дети вырастают в августе, иногда в сентябре. Выкормив пушистых бесенят, родители с чувством исполненного долга, с чувством грусти и невыразимой печали посидят на тёплой завалинке около дома, о том, о сем поговорят на своем песцовом языке. Потом обнимутся, прощально расцелуются, да и разойдутся, разбегутся на все четыре стороны, как в море корабли, чтобы никогда уже не встретиться. Что делать! Такова природа, не признающая сантиментов и лирики.
Жизнь продолжается. В августе изумрудная тундра поблекнет. Вспыхнут пожары осин и полярных берёз, но потухнет, стеклом загустеет вода. Голубика поспеет – крохотный кустарник, отличающийся удивительной жизнестойкостью: голубичник доживает почти до ста годков. Жёлтой и оранжевой россыпью драже раскатится по тундре морошка. Подберёзовик и подосиновик шляпы надевают – пижоны! – выходят себя показать и на мир посмотреть. В небесах гортанно гогочут гуси. Молодые утки пролетают. Птицы пробуют крылья, готовятся к далёким серьёзным перелётам.
И песец, бродяга, заволновался, будто крылья у него под шубой чешутся. Вечерами в непонятной истоме, в тоске песец негромко лает на холодную луну, засыпавшую озеро бесчисленными блестками, похожими на серебристую чешую.
И опять он говорит себе: ну, все, песец, пора – туда, где за тучей синеет гора. А что там, за горой? Он сам не ведает. Он только знает, что пора приспела. И в первых числах сентября этот бродяга опять отправится в путь. И вот что интересно: бывает так, что лемминга полно – это основное пропитание песца, – бывает так, что и квартира у него, и дача, и машина, всё имеется. А вот поди ж ты! Нет в душе покоя, да и всё! Не сидится, не лежится дома, чёрт возьми! Бродягу и романтика опять зовут вековые голубые дали, и ничуть не пугает погибель, на каждом шагу стерегущая.
Что ей надо, песцовой душе? Ах, если бы охотник мог ответить на этот вопрос, он был бы уже не охотник – профессор или доктор каких-нибудь наук. В том-то и дело, что никто не знает, что надо песцу за горами, за реками. Куда он идет? И зачем? У песца душа хоть и под белой шубой, а все равно – потёмки в той чужой душе. Ясно только одно: придёт весна – и тот бродяга снова побежит на родину. Никак нельзя нам без неё, без нашей милой родины – бродяги это знают лучше всех.
9
Эта фантастическая повесть или, точнее сказать, наивная сказка о Царьке-Северке, сказка, шитая белыми нитками полярной пурги, почему-то произвела на художника очень сильное впечатление. Целые сутки потом – в ожидании вертолёта – Дорогин ходил кругом заповедного озера. Думал о чём-то. Грустил. Возвращаясь к избушке, он просил охотника ещё «маленько соврать», продолжить сказку.
Поздно вечером они сидели у костра – около избушки. Собака с хрустом поедала кости куропатки. Дед-Борей чинил свою обувку – порвал на камнях. Расплавленное золото огня бросало тени в сумерки полярного, голубовато-аспидного вечера. Земля после недавнего дождя обсохла. Повеселели травы и цветы, вдоволь напоённые.
Поддаваясь уговорам, Дед-Борей ещё немного рассказал, а вернее, попробовал рассказать про Царька-Северка, но прежнего запала и азарта уже не было. Охотник почувствовал это и замолчал – пора и меру знать. И огонь «замолчал», утомился пощёлкивать своим озорным языком. Костёр догорал, угольки рассыпались жёлто-красной ягодой. Последний крупный уголь остывал, приобретая цвет, который среди живописцев называется довольно жутковато – цвет адского пламени; лиловый оттенок красного или чёрный с красными разводами.
Охотник попрощался и ушёл отдыхать – завтра снова рано подниматься.
Оставшись один, художник с сожалением вздохнул. Посидел возле огня, подумал: «Хорошо рассказывает. Ведь знаю, что врёт, а всё равно интересно…» Отгоняя комаров, парень звонко похлопал себя по мордасам. Встал, поглядывая по сторонам.
Ущелье набивалось туманным пухом. Обострились ароматы цветов и трав. Запахи стылого камня вызывали озноб. Отсырела крыша зимовья, будто новыми гвоздями старые плахи приколотили – шляпки росы блестели.
Огромным цветком – во все небо! – белая ночь цвела и пахла над Крайним Севером. Лепестками летели на землю и воду серебристые отблески, напоминая далёкую юность; она вдруг показалась такой далёкой, такой недосягаемой, как будто Тиморей сто лет уже торчит на Крайнем Севере. В юности, когда он впервые оказался в Ленинграде – белые ночи околдовали его, и с тех пор никто и ничто не может «порчу» снять с души. Не спится белыми ночами, хоть глаз коли. Всё кажется: непременно что-то должно произойти в такую ночь.
Подживляя костёр, он любовался горным озером, туманными вершинами и фантастической игрою света. Словно кто-то в небесах медленно вращал волшебный калейдоскоп. Такое волхвование бывает лишь на северных широтах, где чистый воздух и великое пространство мечтают о прекрасном или бредят о чём-то несбыточном. Или, может быть, кто пытается показать человеку, какое богатство таит в себе душа Земли? Окружающий мир всё время что-то силится сказать нам, только мы, увы, не понимаем. Или не хотим понять.
Временами он ощущал необъяснимую тревогу. Гнус в тишине, подлетая под ухо, гнусавил и откатывался мелким бисером, почуяв густую мазь. Волны под берегом с боку на бок ворочались, перед сном укладываясь поудобнее. Вихрастый барашек, вставая, толкнулся в берег – согнал бургомистра с насиженного, нагретого места. Важностью налитый «начальник озера» нехотя отодвинулся, расправил крылья и, неожиданно плаксиво, обиженно попискивая, перелетел на другой валун. И снова – покой. И тревога. Странно. Что за волнение витало в воздухе, в бескрайнем призрачном покое задремавшей тундры? Что смущало человека в затаённой загадочности этой белой полярной ночи? Мир словно спал с открытыми глазами, и что-то неестественное было в этом состоянии.
Осмотревшись, Тиморей удивился. Вот уж не думал, что на Крайнем Севере можно встретить мираж. Ладно – в пустыне, в пекле; там, на огромной раскалённой сковороде, любой мираж «поджарится». Но здесь – это дико. Здесь по ущельям спят ещё сугробы, а на притоках каменно сверкают зеленоватые многопудовые крыги, изъеденные солнцем, зализанные шершавыми языками ветров.
И, тем не менее, мираж – вот он, родимый. Да не один. Сначала вдали замаячил древний «Летучий Голландец», призрачно подрагивавший на горизонте. Форштевнем отражая тусклое солнце, посудина подняла паруса и медленно откочевала, уменьшаясь до размеров детского кораблика. Оторвавшись от линии горизонта, корабль мягко растворился в небе. Затем упряжка северных оленей побежала по зеркалу спокойного озера, не касаясь копытом зыбкой поверхности. Тихое таинство северной белоликой ночи, наполняясь миражами, становилось ещё более таинственным, пугающим и одновременно привлекательным.
Забывая о времени, о комарах-вурдалаках, зачарованно глядя в туманную даль, Тиморей шагал вдоль берега, не отдавая себе отчета в том, что вперед его толкало сумасбродное желание догнать мираж, забраться на скользящую нарту, запрыгнуть на борт белоснежного судна. Улететь или уплыть в неведомую даль… И что за отрава такая, этот северный стылый мираж? Не одного человека, наверное, он сбил с панталыку, закружил по тундре и подарил только одну отраду – скорую погибель?!
Странное, болезненное головокружение «раскрутило» землю под ногами художника. На душе запели райские пташки, и зацвели «ландыши вспыхнувших сил», заставляя весело встряхнуться. Как будто вино разливалось по воздуху. Но ещё никогда никакое вино не давало ему такого отдохновения.
Сова над прибрежной скалой пролетела. Снежным комом села на сухую вершину лиственницы – на мачту корабля, как показалось, на заострённый клотик. «Необыкновенный слух совы, – подумал Дорогин, – позволяет ей сейчас слышать, как растет молодая трава, как созревает ягода и тяжелеет роса, как часто чакают часы на моём запястье».
Наблюдая за совой, он с удивлением отметил: птица неожиданно сорвалась со шпиля «мачты». Будто кто спугнул. И парочка белых гусей, лежащих остатками снега под берегом, всполошилась почему-то. Вытягивая шеи с желтыми наконечниками клювов, расправляя крылья, гуси, уронив на воду щепотку перьев, шумно пошли по воздуху и приземлились – на том берегу Тайгаыра.
Тревога росла. Точно струна в душе натягивалась. В ушах позванивало. Звук становился выше, выше. Струна – всё тоньше, тоньше… Вот-вот порвется…
И вдруг он увидел оленей. И в тот же миг в душе как будто лопнула струна – грудь обожгла обрывком.
Дивные олени на берегу стояли. Кончики рогов светились. Копыта мерцали подошвами, точно полумесяцем подкованные. Крайний олень с закуржавелым храпом пугливо покосился на человека, забеспокоился, перебирая передними копытами – искры посыпались, зашипели, попадая на мокрый песок, на воду. Олень горделиво встряхнул головой – колокольчик звоном отозвался на мохнатой шее. Белым репейником под копыта куржак посыпался.
Рядом с призрачной нартой кто-то находился. Небольшой человек был окутан цветною дымкой, напоминающей северное сияние. Одежда незнакомца сверкала жемчужными узорами созвездий. Заметив тревогу оленя, возница подошёл к нему – ноги земли не касались. Погладив заиндевелое лицо оленя, погонщик что-то шепнул ему на ухо, и олень перестал беспокоиться, глубоко и облегченно вздыхая.
В руке у погонщика – позднее шутил Тиморей – был какой-то длинный «поэтический инструмент». То ли хорей, то ли ямб, то ли анапест. Да, он явно был поэтом, этот милый отрок в сказочных одеждах, поэтом весьма одарённым. Плавно, ритмично покачивая хореем, он выговаривал:
Ай да мороз, ты силён, знаменит,
На оленях всю тундру объездил!
Притронешься к ёлке – там небо звенит
Миллионами льдистых созвездий!
«Насчет мороза – это особенно круто сейчас, в июне, – подумал Тиморей. – А так – неплохо. Ишь ты, какой он, Царёк-Северок. Или кто это? Да, он! Конечно, он!»
Спустившись к воде, Царёк-Северок неожиданно заговорил с большим тайменем, вышедшим на камни. Примерил зачем-то корону легендарной царицы-рыбы.
– У меня куда лучше! – сказал, возвращая корону.
– Это как же? Рад бы в рай, да грехи не пускают?
– Примерно так, – подтвердил небожитель. – Знаешь, как смешно и грустно нам бывает смотреть оттуда на вашу Землю, вашу возню…
– И что же вам оттуда видно?
– Всё! Видно, как вы тут, на Крайнем Севере, коптите небеса – аж до звезды долетает проклятая сажа. Как вы тут здоровье гробите своё. И за что? За копейку? Горло друг дружке грызёте. Совестью торгуете…
Дед-Борей насупился.
– Я уж давно не гонюсь за копейкой. По молодости, по глупости было, не спорю…
– Я не про тебя… Я вообще – про людей говорю. Несчастные они какие-то. Мне их так бывает жалко, взял бы, зачерпнул и золотом осыпал бы – нате, сколько хотите, только не ройтесь в земле, оторвитесь и посмотрите, какое сказочное небо над головами.
И в самом деле, Господи, какое изумительное небо над землей! И день за днём оно становится ещё великолепнее. Припекает солнце. Смеются ручейки на склонах, куда-то пробегая по своим делам. Расплавленными яркими дробинами под окошком охотничьего зимовья стучит капель… Желтый прошлогодний лист, перезимовавший в снегу, оттаял под берёзой, ожил и вдруг откликнулся игривому ветру: встрепенувшись, листик поднялся на крыло и улетел восвояси. На заповедном озере вода вспухает около берега, становится увеличительным стеклом – жарко отражает яркие лучи. Каменный Бык, много веков назад сгорбатившийся на противоположном берегу, принимается «жевать солому» – желтоватая вода, играя отраженным солнцем, плещется возле гранитного рыла. Трясогузки появились, весело порхают около избушки, пробуют мох теребить между бревнами, куда выползают погреться какие-то букашки да козявки. В прошлогодней спутанной грязной траве шмыгают рыжие лемминги, словно чертики, только без рожек, без хвоста.
– Эй, – шутливо сердится охотник, – вы еще тут будете под ногами путаться!
Мышь с разгона пулей втыкается в мягкий подмокший сугроб – дырка синеет в снегу. На крыше колокольцами позванивают воробьи, весенним ветром принесенные Бог весь откуда-то. Ласточка-береговушка стремглав ныряет с неба к солнечной воде и взмывает над голыми крутыми лбами соседних скал. Угрюмый, всю зиму сурово молчавший утес разговорился вешними днями – светлым длинным языком из гранитной пасти высунулась шумная вода. Потоки дробятся у подножья утеса, а ночью там нарастает белая рафинадная глыба.
По ночам – с характерным хрясканьем и утробным уханьем – на озере ломается ледяная броня, словно там горбатится бригада рыбаков: пешнями долбит, колуном дубасит, вырубая глубокие майны во льду; люди спускаются по ступеням к воде, чтобы сетями таскать жирного сига, чира и пелядь, как делали это далёкие дерзкие пращуры.
Полуденное солнышко ласкает так, что в заветерье можно загорать – не надо ни Крыма, ни Рима. Заснеженные кедры, сосны, лиственницы, медово млея на солнцепеке, неохотно разголяются; поскрипывая в тишине, покряхтывая, снимают боярские шубы и кафтаны, стеганые ветром. На водоразделах оживают ручьи, серебряными сверлами буравят аквамариновый лед на притоках. По каменному желобу, проточенному в скале, вода катом катится с верхнего яруса гор – вылетает на край, раскрывается шумным водопадом, издалека похожим на стекловидные трепетные крылья огромной стрекозы.
По тайге, по тундре двинулся песец.
– Люблю я эту зверушку, – говорит Северьяныч. – Я могу про песца песни под гармошку петь или поэмы слагать, только слушай.
* * *
Песец – это бродяга, романтик Севера, великий бесшабашный странник. Восемь месяцев в году песец, забубенный шельмец, пропадает где-то в чужих краях. Не иначе как вино и водку хлещет где-нибудь по кабакам, песни орёт и рубаху на груди своей в лохмотья рвёт, другим песцам, бродягам-братьям доказывая что-то. А с первыми весенними припёками – в марте или в апреле, – заслышав голос сердца, вековечный зов природы, он говорит себе: ну, все, песец, пора, мол, покоя сердце просит, летят за днями дни и каждый день уносит… В общем, бродяга торопится к родине. Бродяга Байкал переехал, рыбацкую лодку берет… Добравшись до родных краев, песец начинает искать на бесконечных тундровых просторах, и находит – обязательно находит! – самую лучшую в мире песчиху. Под музыку ветра с капелями, под свирельное журчание ручьев сыграют они свою скромную свадьбу, станут одной семьей – семьей Песцовых. И пойдут искать себе жилье, благо, здесь – в тайге и в тундре – нет проблемы с квартирами. Из века в век, не покладая мозолистых лап, трудились пращуры песцов, понастроили чёртову уйму подземных дворцов. Крылечко, то есть бугорок, удобренный отходами и остатками многолетней пищи, издалека видать.
Присмотрев хорошую хоромину, молодожёны берутся очищать да освещать жильё, расширяя подземные галереи, делая отнорки и пробивая дополнительные выходы – на всякий пожарный случай. А через пятьдесят деньков, когда земляная завалинка возле дома обрастет, обтыкается зеленой пахучей травкой и зацветет неярким тундровым цветком, – на пятьдесят втором или на третьем дне, – в доме Песцовых появятся детишки. И душа у родителей тоже зацветёт незримым, но ярким цветком. То-то радости в доме! Возможно, два иль три детеныша родится. Может быть, четыре. А может, все двадцать песчат по углам зазывно запищат, – это уж как папа с мамой постарались. Но главный вершитель судьбы, – конечно, сама Природа, которая знает, каким будет грядущий год и надо ли «нищету плодить», как люди говорят.
Товарищ или господин Песцов, ставши отцом, неожиданно преображается. Он теперь водку не пьёт и не курит табак. И позабыл он дорогу в кабак. Вчерашний бродяга, беспечный романтик тундрового простора, Песцов прижимает свой хвост и превращается в добропорядочного солидного семьянина. И денно и нощно таскает он пищу домой, кормит бабёнку свою в первые дни, когда она благополучно разродилась. Летом в доме на столе в семье Песцовых можно увидеть ягоды, птичьи яйца, мясо птиц или животных, погибших во время шторма на озере.
Дети вырастают в августе, иногда в сентябре. Выкормив пушистых бесенят, родители с чувством исполненного долга, с чувством грусти и невыразимой печали посидят на тёплой завалинке около дома, о том, о сем поговорят на своем песцовом языке. Потом обнимутся, прощально расцелуются, да и разойдутся, разбегутся на все четыре стороны, как в море корабли, чтобы никогда уже не встретиться. Что делать! Такова природа, не признающая сантиментов и лирики.
Жизнь продолжается. В августе изумрудная тундра поблекнет. Вспыхнут пожары осин и полярных берёз, но потухнет, стеклом загустеет вода. Голубика поспеет – крохотный кустарник, отличающийся удивительной жизнестойкостью: голубичник доживает почти до ста годков. Жёлтой и оранжевой россыпью драже раскатится по тундре морошка. Подберёзовик и подосиновик шляпы надевают – пижоны! – выходят себя показать и на мир посмотреть. В небесах гортанно гогочут гуси. Молодые утки пролетают. Птицы пробуют крылья, готовятся к далёким серьёзным перелётам.
И песец, бродяга, заволновался, будто крылья у него под шубой чешутся. Вечерами в непонятной истоме, в тоске песец негромко лает на холодную луну, засыпавшую озеро бесчисленными блестками, похожими на серебристую чешую.
И опять он говорит себе: ну, все, песец, пора – туда, где за тучей синеет гора. А что там, за горой? Он сам не ведает. Он только знает, что пора приспела. И в первых числах сентября этот бродяга опять отправится в путь. И вот что интересно: бывает так, что лемминга полно – это основное пропитание песца, – бывает так, что и квартира у него, и дача, и машина, всё имеется. А вот поди ж ты! Нет в душе покоя, да и всё! Не сидится, не лежится дома, чёрт возьми! Бродягу и романтика опять зовут вековые голубые дали, и ничуть не пугает погибель, на каждом шагу стерегущая.
Что ей надо, песцовой душе? Ах, если бы охотник мог ответить на этот вопрос, он был бы уже не охотник – профессор или доктор каких-нибудь наук. В том-то и дело, что никто не знает, что надо песцу за горами, за реками. Куда он идет? И зачем? У песца душа хоть и под белой шубой, а все равно – потёмки в той чужой душе. Ясно только одно: придёт весна – и тот бродяга снова побежит на родину. Никак нельзя нам без неё, без нашей милой родины – бродяги это знают лучше всех.
9
Эта фантастическая повесть или, точнее сказать, наивная сказка о Царьке-Северке, сказка, шитая белыми нитками полярной пурги, почему-то произвела на художника очень сильное впечатление. Целые сутки потом – в ожидании вертолёта – Дорогин ходил кругом заповедного озера. Думал о чём-то. Грустил. Возвращаясь к избушке, он просил охотника ещё «маленько соврать», продолжить сказку.
Поздно вечером они сидели у костра – около избушки. Собака с хрустом поедала кости куропатки. Дед-Борей чинил свою обувку – порвал на камнях. Расплавленное золото огня бросало тени в сумерки полярного, голубовато-аспидного вечера. Земля после недавнего дождя обсохла. Повеселели травы и цветы, вдоволь напоённые.
Поддаваясь уговорам, Дед-Борей ещё немного рассказал, а вернее, попробовал рассказать про Царька-Северка, но прежнего запала и азарта уже не было. Охотник почувствовал это и замолчал – пора и меру знать. И огонь «замолчал», утомился пощёлкивать своим озорным языком. Костёр догорал, угольки рассыпались жёлто-красной ягодой. Последний крупный уголь остывал, приобретая цвет, который среди живописцев называется довольно жутковато – цвет адского пламени; лиловый оттенок красного или чёрный с красными разводами.
Охотник попрощался и ушёл отдыхать – завтра снова рано подниматься.
Оставшись один, художник с сожалением вздохнул. Посидел возле огня, подумал: «Хорошо рассказывает. Ведь знаю, что врёт, а всё равно интересно…» Отгоняя комаров, парень звонко похлопал себя по мордасам. Встал, поглядывая по сторонам.
Ущелье набивалось туманным пухом. Обострились ароматы цветов и трав. Запахи стылого камня вызывали озноб. Отсырела крыша зимовья, будто новыми гвоздями старые плахи приколотили – шляпки росы блестели.
Огромным цветком – во все небо! – белая ночь цвела и пахла над Крайним Севером. Лепестками летели на землю и воду серебристые отблески, напоминая далёкую юность; она вдруг показалась такой далёкой, такой недосягаемой, как будто Тиморей сто лет уже торчит на Крайнем Севере. В юности, когда он впервые оказался в Ленинграде – белые ночи околдовали его, и с тех пор никто и ничто не может «порчу» снять с души. Не спится белыми ночами, хоть глаз коли. Всё кажется: непременно что-то должно произойти в такую ночь.
Подживляя костёр, он любовался горным озером, туманными вершинами и фантастической игрою света. Словно кто-то в небесах медленно вращал волшебный калейдоскоп. Такое волхвование бывает лишь на северных широтах, где чистый воздух и великое пространство мечтают о прекрасном или бредят о чём-то несбыточном. Или, может быть, кто пытается показать человеку, какое богатство таит в себе душа Земли? Окружающий мир всё время что-то силится сказать нам, только мы, увы, не понимаем. Или не хотим понять.
Временами он ощущал необъяснимую тревогу. Гнус в тишине, подлетая под ухо, гнусавил и откатывался мелким бисером, почуяв густую мазь. Волны под берегом с боку на бок ворочались, перед сном укладываясь поудобнее. Вихрастый барашек, вставая, толкнулся в берег – согнал бургомистра с насиженного, нагретого места. Важностью налитый «начальник озера» нехотя отодвинулся, расправил крылья и, неожиданно плаксиво, обиженно попискивая, перелетел на другой валун. И снова – покой. И тревога. Странно. Что за волнение витало в воздухе, в бескрайнем призрачном покое задремавшей тундры? Что смущало человека в затаённой загадочности этой белой полярной ночи? Мир словно спал с открытыми глазами, и что-то неестественное было в этом состоянии.
Осмотревшись, Тиморей удивился. Вот уж не думал, что на Крайнем Севере можно встретить мираж. Ладно – в пустыне, в пекле; там, на огромной раскалённой сковороде, любой мираж «поджарится». Но здесь – это дико. Здесь по ущельям спят ещё сугробы, а на притоках каменно сверкают зеленоватые многопудовые крыги, изъеденные солнцем, зализанные шершавыми языками ветров.
И, тем не менее, мираж – вот он, родимый. Да не один. Сначала вдали замаячил древний «Летучий Голландец», призрачно подрагивавший на горизонте. Форштевнем отражая тусклое солнце, посудина подняла паруса и медленно откочевала, уменьшаясь до размеров детского кораблика. Оторвавшись от линии горизонта, корабль мягко растворился в небе. Затем упряжка северных оленей побежала по зеркалу спокойного озера, не касаясь копытом зыбкой поверхности. Тихое таинство северной белоликой ночи, наполняясь миражами, становилось ещё более таинственным, пугающим и одновременно привлекательным.
Забывая о времени, о комарах-вурдалаках, зачарованно глядя в туманную даль, Тиморей шагал вдоль берега, не отдавая себе отчета в том, что вперед его толкало сумасбродное желание догнать мираж, забраться на скользящую нарту, запрыгнуть на борт белоснежного судна. Улететь или уплыть в неведомую даль… И что за отрава такая, этот северный стылый мираж? Не одного человека, наверное, он сбил с панталыку, закружил по тундре и подарил только одну отраду – скорую погибель?!
Странное, болезненное головокружение «раскрутило» землю под ногами художника. На душе запели райские пташки, и зацвели «ландыши вспыхнувших сил», заставляя весело встряхнуться. Как будто вино разливалось по воздуху. Но ещё никогда никакое вино не давало ему такого отдохновения.
Сова над прибрежной скалой пролетела. Снежным комом села на сухую вершину лиственницы – на мачту корабля, как показалось, на заострённый клотик. «Необыкновенный слух совы, – подумал Дорогин, – позволяет ей сейчас слышать, как растет молодая трава, как созревает ягода и тяжелеет роса, как часто чакают часы на моём запястье».
Наблюдая за совой, он с удивлением отметил: птица неожиданно сорвалась со шпиля «мачты». Будто кто спугнул. И парочка белых гусей, лежащих остатками снега под берегом, всполошилась почему-то. Вытягивая шеи с желтыми наконечниками клювов, расправляя крылья, гуси, уронив на воду щепотку перьев, шумно пошли по воздуху и приземлились – на том берегу Тайгаыра.
Тревога росла. Точно струна в душе натягивалась. В ушах позванивало. Звук становился выше, выше. Струна – всё тоньше, тоньше… Вот-вот порвется…
И вдруг он увидел оленей. И в тот же миг в душе как будто лопнула струна – грудь обожгла обрывком.
Дивные олени на берегу стояли. Кончики рогов светились. Копыта мерцали подошвами, точно полумесяцем подкованные. Крайний олень с закуржавелым храпом пугливо покосился на человека, забеспокоился, перебирая передними копытами – искры посыпались, зашипели, попадая на мокрый песок, на воду. Олень горделиво встряхнул головой – колокольчик звоном отозвался на мохнатой шее. Белым репейником под копыта куржак посыпался.
Рядом с призрачной нартой кто-то находился. Небольшой человек был окутан цветною дымкой, напоминающей северное сияние. Одежда незнакомца сверкала жемчужными узорами созвездий. Заметив тревогу оленя, возница подошёл к нему – ноги земли не касались. Погладив заиндевелое лицо оленя, погонщик что-то шепнул ему на ухо, и олень перестал беспокоиться, глубоко и облегченно вздыхая.
В руке у погонщика – позднее шутил Тиморей – был какой-то длинный «поэтический инструмент». То ли хорей, то ли ямб, то ли анапест. Да, он явно был поэтом, этот милый отрок в сказочных одеждах, поэтом весьма одарённым. Плавно, ритмично покачивая хореем, он выговаривал:
Ай да мороз, ты силён, знаменит,
На оленях всю тундру объездил!
Притронешься к ёлке – там небо звенит
Миллионами льдистых созвездий!
«Насчет мороза – это особенно круто сейчас, в июне, – подумал Тиморей. – А так – неплохо. Ишь ты, какой он, Царёк-Северок. Или кто это? Да, он! Конечно, он!»
Спустившись к воде, Царёк-Северок неожиданно заговорил с большим тайменем, вышедшим на камни. Примерил зачем-то корону легендарной царицы-рыбы.
– У меня куда лучше! – сказал, возвращая корону.