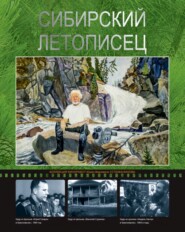По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Святая Грусть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И наконец-то палач соизволил повернуться к нему. Взял грамоту, прочёл, присмотрелся к печати и даже понюхал её. Сунул грамоту себе за пазуху и покачал головою: хорошо, мол, согласен.
Что за боярин шапку перед ним ломает?
Царский прихвостень.
Кто поближе был, засомневался, а кто-то узнавал:
Э, мужики, да если он боярин, то я князь, мордой в грязь. Это же фартовый парень – Серьгагулька.
Брось болтать, у него царская грамота с печаткой.
Боярин постарался – дорогими коврами устелил дорогу палача. Топтар Обездаглаевич доволен был: суровая рожа отмякла.
Слободские бабёнки с завистью смотрели, как палач попирает сапогами узорчатый мягонький путь: по таким коврам не только в сапогах – босиком-то жалко было бы топтаться бережливым бабёнкам.
Фу, какой вонький табачишше, – зароптала одна из них, прикрывая нос платком. Стоящая рядом молодка наклонилась к ней, глаза по ложке сделала и зашептала:
Кости человеческие в ступе натолкеть, натолкеть, насушит, с табаком перемешает…
У бабы от страха глаза – в пол-лица.
– Ой? – перекрестилась. – Брешешь?
Горилампушка протолкнулся в первые ряды. Ладонью отломив от глаз утренние лучи, разглядывал гостя. Сухо сплюнул, отходя.
– Одно слово – заморыш. Сам чуть больше топора.
Права была бабка Смотрилиха. Только зря карасин перевел на маяке. Знал бы, дак не светил…
Три косолапеньких пигмея, похожие на постаревших детей, вызывали в народе жалость. Седые волосы пигмеев никак не подходили к мальчишескому росту. Уродливо-миниатюрные лица, помятые морщинами, казались шутовскими масками.
– А это что за огрызки?
Оруженосцы. Видишь, бандуру несут.
Это не бандура, а скорей бандурак. Ишь, какой дорогущий футляр.
– У него серебряный струмент, я слышал. Один раз наточит – на сто лет хватает головы крушить.
А девки-то, девки-то наши, гляди, вот лахудры. Бегут к нему с цветочками!
Заморский гость. Какой ни есть, а надо встретить, как жениха.
– Ага, выйди замуж за такого, будешь суп варить из топора да из человеческого мяса.
По дороге, ведущей к причалу, закопытила тройка. Пыль поднялась.
– Карета едет!
Ох ты, царский кучер – Фалалейка.
Значит, будут казнить?
А ты думал, помилуют? Нет, брат, напакостил, наразбойничал – ступай на плаху, палач тебя погладит по башке топором.
Значит, сказка это – про доброго царя?
Ты не путай, где добрый, где добренький. Правильно делает царь, чтоб другим неповадно. Пожалей одного да второго… на шею сядут, станут погонять.
Что-то здесь нечисто, мужики. Боярин этот… Серьгагуля Чернолис. А в темнице – его дружок, атаманец.
Атаманцу этому царь, говорят, ноги моет.
Сам чёрт не разберет их! Айда, мужики, дело делать. Солнце вон уже где, а мы всё толчемся у берега.
Царская карета, сработанная специально для праздничного выезда, поразила палача: обтянутая бархатом; на крыше сияет пятиглавие из чистого золота; кучер Фалалейка «бархатный» и почти вся упряжь на конях – бархат, серебро и драгоценные увесистые камни.
Топтар Обездаглаевич остановился пред каретой. Сапоги старательно стал вытирать о цветистый ковер.
Садясь в карету, палач ослепительно сверкнул плешиной. Издалека показалось, будто на плечах топор огнём горит.
Глава восемнадцатая. Колокола никогда не картавят
1
Топтар Обездаглаевич-Ибн-Обуглы на далёкую святогрустную землю отплыл с потаённым заданием. «Секир башка царю!» – вот какой у него был приказ.
Кроме того, в каюте палача стояла железная клетка с крылатым «чёртом»; в клетке терпеливо томился здоровенный чёрный ворон – Черноворец. Был он не простою птицей. Сам чёрт, наверное, ходил в родителях этого хищного злобного Черноворца.
Когда в море-океане шторм закончился, Топтар Обездаглаевич клетку распахнул, и Черноворец полетел в сторону Царь-Города. В голубоватых рассветных сумерках бесшумно опустился на золотую крестовину колокольни; воровато избоченил голову, прислушиваясь.
Уже скрипела лестница внутри, внизу – старый звонарь поднимался, бормоча молитву. Смолистое перо на вороне вдруг стало выстветляться под действием молитвенного слова. Так, чего доброго, глядишь, и в белую ворону превратишься. Торопиться надо, подумал Черноворец, появляясь в проеме звонницы.
Колоколов здесь много. Большие, гулкие, таящие в крепких телах отголоски недавней грозы, – ворон услышал это, когда уселся на округлое колокольное темя: живая дрожь металла предавалась когтям… Дрожали дождевые серебристые капельки, перебегая одна к другой. Как будто с испугу дрожали. Чёрный глаз варначины вспыхнул огоньком злорадства.
Опуская голову, прицелился к червоточинке, образовавшейся ещё во время плавки.
Ударил клювом и отскочил, изумленный; колокол вместо привычного «бом, бом!» вдруг стал выговаривать:
– Бог! Бог! Бог!
Черноворец собрался с духом и снова оседлал центральный колокол. После третьего удара крепким клювом раздался характерный сухой щелчок – трещина скользнула в глубину металла.
Ступени стонали поблизости. Седая шевелюра звонаря выплывала облачком из открытого квадратного проема колокольни.
Расправляя крылья, Черноворец упал на ветер – скрылся. Черную грудь распирала чёрная радость. Чероворец крикнул в тихий сумрак. Эхо помножило картавое карканье, будто сатана захохотал…
Старый звонарь – дед Колокольник – содрогнулся. Недоброе что-то почуял.
Что за боярин шапку перед ним ломает?
Царский прихвостень.
Кто поближе был, засомневался, а кто-то узнавал:
Э, мужики, да если он боярин, то я князь, мордой в грязь. Это же фартовый парень – Серьгагулька.
Брось болтать, у него царская грамота с печаткой.
Боярин постарался – дорогими коврами устелил дорогу палача. Топтар Обездаглаевич доволен был: суровая рожа отмякла.
Слободские бабёнки с завистью смотрели, как палач попирает сапогами узорчатый мягонький путь: по таким коврам не только в сапогах – босиком-то жалко было бы топтаться бережливым бабёнкам.
Фу, какой вонький табачишше, – зароптала одна из них, прикрывая нос платком. Стоящая рядом молодка наклонилась к ней, глаза по ложке сделала и зашептала:
Кости человеческие в ступе натолкеть, натолкеть, насушит, с табаком перемешает…
У бабы от страха глаза – в пол-лица.
– Ой? – перекрестилась. – Брешешь?
Горилампушка протолкнулся в первые ряды. Ладонью отломив от глаз утренние лучи, разглядывал гостя. Сухо сплюнул, отходя.
– Одно слово – заморыш. Сам чуть больше топора.
Права была бабка Смотрилиха. Только зря карасин перевел на маяке. Знал бы, дак не светил…
Три косолапеньких пигмея, похожие на постаревших детей, вызывали в народе жалость. Седые волосы пигмеев никак не подходили к мальчишескому росту. Уродливо-миниатюрные лица, помятые морщинами, казались шутовскими масками.
– А это что за огрызки?
Оруженосцы. Видишь, бандуру несут.
Это не бандура, а скорей бандурак. Ишь, какой дорогущий футляр.
– У него серебряный струмент, я слышал. Один раз наточит – на сто лет хватает головы крушить.
А девки-то, девки-то наши, гляди, вот лахудры. Бегут к нему с цветочками!
Заморский гость. Какой ни есть, а надо встретить, как жениха.
– Ага, выйди замуж за такого, будешь суп варить из топора да из человеческого мяса.
По дороге, ведущей к причалу, закопытила тройка. Пыль поднялась.
– Карета едет!
Ох ты, царский кучер – Фалалейка.
Значит, будут казнить?
А ты думал, помилуют? Нет, брат, напакостил, наразбойничал – ступай на плаху, палач тебя погладит по башке топором.
Значит, сказка это – про доброго царя?
Ты не путай, где добрый, где добренький. Правильно делает царь, чтоб другим неповадно. Пожалей одного да второго… на шею сядут, станут погонять.
Что-то здесь нечисто, мужики. Боярин этот… Серьгагуля Чернолис. А в темнице – его дружок, атаманец.
Атаманцу этому царь, говорят, ноги моет.
Сам чёрт не разберет их! Айда, мужики, дело делать. Солнце вон уже где, а мы всё толчемся у берега.
Царская карета, сработанная специально для праздничного выезда, поразила палача: обтянутая бархатом; на крыше сияет пятиглавие из чистого золота; кучер Фалалейка «бархатный» и почти вся упряжь на конях – бархат, серебро и драгоценные увесистые камни.
Топтар Обездаглаевич остановился пред каретой. Сапоги старательно стал вытирать о цветистый ковер.
Садясь в карету, палач ослепительно сверкнул плешиной. Издалека показалось, будто на плечах топор огнём горит.
Глава восемнадцатая. Колокола никогда не картавят
1
Топтар Обездаглаевич-Ибн-Обуглы на далёкую святогрустную землю отплыл с потаённым заданием. «Секир башка царю!» – вот какой у него был приказ.
Кроме того, в каюте палача стояла железная клетка с крылатым «чёртом»; в клетке терпеливо томился здоровенный чёрный ворон – Черноворец. Был он не простою птицей. Сам чёрт, наверное, ходил в родителях этого хищного злобного Черноворца.
Когда в море-океане шторм закончился, Топтар Обездаглаевич клетку распахнул, и Черноворец полетел в сторону Царь-Города. В голубоватых рассветных сумерках бесшумно опустился на золотую крестовину колокольни; воровато избоченил голову, прислушиваясь.
Уже скрипела лестница внутри, внизу – старый звонарь поднимался, бормоча молитву. Смолистое перо на вороне вдруг стало выстветляться под действием молитвенного слова. Так, чего доброго, глядишь, и в белую ворону превратишься. Торопиться надо, подумал Черноворец, появляясь в проеме звонницы.
Колоколов здесь много. Большие, гулкие, таящие в крепких телах отголоски недавней грозы, – ворон услышал это, когда уселся на округлое колокольное темя: живая дрожь металла предавалась когтям… Дрожали дождевые серебристые капельки, перебегая одна к другой. Как будто с испугу дрожали. Чёрный глаз варначины вспыхнул огоньком злорадства.
Опуская голову, прицелился к червоточинке, образовавшейся ещё во время плавки.
Ударил клювом и отскочил, изумленный; колокол вместо привычного «бом, бом!» вдруг стал выговаривать:
– Бог! Бог! Бог!
Черноворец собрался с духом и снова оседлал центральный колокол. После третьего удара крепким клювом раздался характерный сухой щелчок – трещина скользнула в глубину металла.
Ступени стонали поблизости. Седая шевелюра звонаря выплывала облачком из открытого квадратного проема колокольни.
Расправляя крылья, Черноворец упал на ветер – скрылся. Черную грудь распирала чёрная радость. Чероворец крикнул в тихий сумрак. Эхо помножило картавое карканье, будто сатана захохотал…
Старый звонарь – дед Колокольник – содрогнулся. Недоброе что-то почуял.