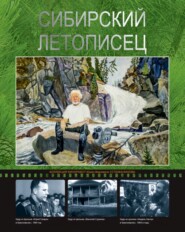По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Спасибо одиночеству (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Самоха, припыливший из города, купил развалюху по соседству с Полынцевым. Потом расчистил место для строительства и за короткий срок забабахал себе добротную дачу, пригодную для зимнего житья. Самоха был невероятно энергичным, предприимчивым, умудрялся деньги делать «из ничего». Будучи на высоте, на финансовом Эвересте, как сам он выражался, предприниматель этот курил дорогие сигары, попивал коньяки, одевался, как барин, и любил водрузить на свой указательный палец золотое кольцо с бриллиантом четыре «квадрата» – так он почему-то называл караты.
А затем приходила пора, и Самохин опять нещадно дымил дешевеньким куревом, пить не гнушался даже самогон, а волосатые пальцы его отдыхали от роскоши в четыре квадрата – все драгоценности утаскивал в ломбард. Но полоса неудач продолжалась недолго. Самоха снова умудрялся как-то изловчиться, извернуться и разбогатеть, не гнушаясь при этом никакими способами и средствами; поговаривали даже, что он наркотою торгует, хотя Самоха клялся во хмелю, что всё это вранье и происки конкурентов. Человек азартный, он горячо и отважно запрягался в какое-то новое дело, которое, в общем, у него неплохо получалось. Но деловая жилка в нём скоро остывала, и Семён Семизонович снова грустил возле разбитого корыта, перебивался с хлеба на квас, и при этом вынашивал новые какие-то наполеоновские планы и прожекты. Когда шуршали деньги по карманам – сосед не скупился, безоглядно занимал Полынцеву, отлично зная, что долг ему вернут только тогда, когда «раки раком встанут на горе», так Самоха говорил. Отравленный микробом стяжательства, он однажды пришёл к Полынцеву с оригинальным предложением. Пришёл, как всегда, со стеклянной «блондинкой».
– Фредерик! Ты как насчет того, чтобы продать избу? – Какую? Чью избу?
– Твою. Вот эту.
– Интересный сюжет. – Полынцев крякнул от удивления. – А зачем продавать? Где мне жить?
– У меня, Фредерик. У меня. Выбирай хоть первый, хоть второй этаж. – Самоха загорелся новою какою-то идеей. – Я даже покупателя нашёл. У него этих денег – как грязи.
Продадим и так с тобой раскрутимся – чертям станет тошно!
Фёдор Поликарлович, памятуя свой печальный опыт в городе Славянске-на-Кубани, покачал головой.
– Я уже раскручивался так, что было тошно…
Заячья губа Самохина самодовольно растянулась под коротким, но широким носом.
– Это потому, что без меня. А со мною дело, Фредерик, выгорит на сто пудов. Серьёзно. Ты здесь потом построишь особняк – лучше моего.
– Нет. Я под этим не подпишусь.
– Не грамотный, что ли? – хмыкнул сосед. – Ну, крестик хотя бы поставь.
– Крестик на своей судьбе? Нет, извини. Жареный петух меня уже клевал кое-куда.
После этого разговора Самоха подобиделся – долгое время не заходил. Отношения у них поздней наладились, но деньги Фёдор Поликарлович перестал занимать, осознавая опасность: в один прекрасный день Самоха потребует долги и тогда – хочешь, не хочешь – избу придётся продавать, а это равносильно самоубийству. Тоскливо становилось, хоть волком вой. Правая, горделиво вскинутая бровь Полынцева – год за годом линяла, теряя упругость – чёрной подковкой наползала на мутный глаз, в котором всё реже и реже вспыхивали искры оптимизма.
«Ну и что мне делать? – горевал он. – Сторожем пойти? Тут предлагали. Но опять же – противно. Буду сторожить добро, которое эти прощелыги наворовали. Нет, ну вас на фиг!» Он хорохорился, но выбирать уже не приходилось – пошёл, как под конвоём, и устроился в какую-то замурзанную кочегарку, дающую тепло сельской больнице и школе. Кривая кочегарка стояла в соснах на берегу; от страшного дыма и копоти ближайшие деревья задыхались, начиная жухнуть, а кое-какие из них облысели – рыжие хвойные волосы горстями осыпались под ветром и дождём.
Работёнка была пыльная и в то же время – очень огневая.
Особенно сильно это ощущалось зимой. За дверью стужа сосны рвала до сердцевины, или вьюга бесилась, будто чёрной сажей посыпала ночную землю и небеса. А он сидел в тепле, «давал стране угля», потом читал при свете чахоточной лампочки, которая так быстро покрывалась шерстинками копоти – протирать надоест. Раскрывая железную пасть огнедышащей топки, Фёдор Поликарлович, забывая про лопату, – неотступно смотрел на гудящее пламя и думал, думал о чём-то.
Кочегарка Полынцева не утомляла. Он приходил домой, пыль стряхивал с ушей, играючи споласкивался в бане, переодевался в чистое бельё и продолжал пахать, но уже за письменным столом. Продолжал ваять что-то великое, что-то бессмертное, что помогло бы ему разбогатеть и прославиться, и оправдать себя перед Всевышним.
Петербурге за всё это время – за шестнадцать лет – он побывал всего лишь раза три, четыре. Не на что было слетать даже поездом съездить.
Тоска по Ленинграду, переименованному в Петербург, заставила его читать и перечитывать романы Достоевского и всё то, что было так или иначе связано с жизнью и творчеством русского гения. И Полынцев потихоньку стал набрасывать что-то вроде очерка или сценария для будущего фильма о Достоевском.
Глава 10
«История дышит в затылок, – писал он, – нужно только замереть и оглянуться, чтобы воочию увидеть прошлое.
Именно так я и сделал вчера, отряхнувшись от пыли, отрешившись от суеты. Я вышел в город и замер. Я оглянулся – и вздрогнул, находясь в Барнауле на вечернем, пустынном проспекте, не похожем на Невский проспект, но, тем не менее, затаившем в себе великую тень Достоевского. Да, это был, конечно, он. Спутать невозможно. Из вечерней таинственной мглы, будто звёзды, мерцали глаза Достоевского – глаза потрясающей силы, обращённые в бездну человеческой, неистовой натуры и одновременно в бездну нежного неба, откуда он пришёл на эту Землю.
Бесшумная тень Достоевского прошла по Барнаулу и растворилась в том богатом, старинном доме, где горели свечи, перекликались тонкие бокалы, и звучала бравурная музыка – там кипело веселье провинциального бала в честь именин жены полковника Гернгросса, начальника Алтайских заводов. (Образ этой дамы у Достоевского аукнется позднее в большом, драматическом рассказе «Вечный муж»). А потом, через какое-то время, когда над Барнаулом располыхалась чистая, высокая луна, тень Достоевского вновь объявилась в этих местах. Только теперь он уже находился в барнаульском доме географа и путешественника Семёнова-Тян-Шанского. И вот как раз там-то с Достоевским приключился кошмарный припадок.
Приехавший на помощь доктор выдал жёсткий приговор:
– Настоящая эпилепсия.
Достоевский был подавлен не только диагнозом, но и тем, что вся эта история развернулась на глазах молодой жены Марии Дмитриевны – ни раньше, ни позже, а в период «медового месяца».
– Доктор, – вздыхая, прошептал Достоевский, – могу выпросить подробную откровенность?
Врач, выслушав, ответил:
– В один из этих припадков должно ожидать, что вы задохнётесь от горловой спазмы и умрёте не иначе как от этого.
В дверном проёме снова замаячило бледное лицо до смерти перепуганной жены, в голове которой Бог знает что пронеслось по поводу больного новоиспечённого супруга, с которым на днях она повенчалась в Кузнецке…
Затем луна свалилась в облака и всё, что мне пригрезилось, пропало: барнаульский дом Семёнова-Тян-Шанского будто воспарил под небеса, и там уже светились не простые окна – бессмертные звёзды привет посылали из прошлого.
И снова я замер. И снова великая тень Достоевского появилась на тихой, печальным сумраком окутанной Земле – только уже вдалеке от бескрайних просторов Алтая.
При свете слезящейся, одинокой свечи Достоевский писал письмецо Михаилу, старшему брату: «Если мне нельзя будет выехать из Сибири, я намерен поселиться в Барнауле…»
Как странно, как больно и сладко сердце моё припекают эти слова Достоевского, этот образ его, русский призрачный дух – отчасти придуманный, отчасти вполне реальный. На денёк, на другой Достоевский в середине XIX века заехал, промелькнул по сумеркам заснеженного Барнаула – и прописался тут на веки вечные»…
Глава 11
Тень Достоевского стала ему «помогать». Так, например, когда он в тихих деревенских соснах, в доме покойной матери остался в темноте – провода обрезали за неуплату – он не только не опечалился, даже возрадовался. Теперь он поневоле будет работать только при свечах, как Достоевский, Пушкин…
Великие всегда пером строчили – мысль уходила в перо, как молния в громоотвод. А сегодня, когда писанину строчат на компьютерах? Куда сегодня уходит мысль? Во всемирную паутину? Так это уже муха, а не мысль…
Вот так он в последнее время жил, не тужил: через день да каждый день «давал стране угля» в замурзанной, дышащей смрадом кочегарке, а затем строгал своё, нетленное, способное прославить и обогатить. Время шло, он всё больше печатался, но гонораров хватало только на хлеб да на водку, и никак не хватало на то, чтобы слетать или съездить в Санкт-Петербург. Хотя, наверно, дело было теперь не в деньгах. Просто всё давно перегорело в сердце, перекипело в душе. «Да и было ли всё это вообще?» – начинал он сомневаться полночною порой, хмуро глядя за окно своей полупустой, холостяцкой хибарки.
Другая страна за окном процветала и одновременно прозябала в нищете. Другие ценности, порядки другие и нравы. И сколько бы он ни присматривался к этим современным господам, преуспевающим дельцам и прощелыгам, среди которых, безусловно, встречались люди вполне приличные, как бы ни пытался он встраивать себя в эту новую русскую жизнь – бесполезно. Кажется, он навсегда остался в жизни прежней, старорусской.
Я человек не новый, что скрывать,
Остался в прошлом я одной ногою.
Спеша догнать стальную рать –
Скольжу и падаю другою…
Вспоминая стихи Есенина, он опять душой переносился в любимый город на Неве, где стояла гостиница «Англетер» – последнее пристанище великого русского лирика. И опять он мысленно бродил по роскошным улицам, проспектам, набережным. И опять над его головой – необъятным сказочным цветком – зацветало волшебство белой северной ночи, от которой светлела душа и на губах затепливалась нежная улыбка. Но это «волшебство», к сожалению, происходило под воздействием алкоголя, к которому он пристрастился как-то незаметно, как, впрочем, бывает всегда.
На Севере хотелось лишнюю рюмаху поцеловать «с морозу», на Юге выпивал «с устатку», а потом и причину придумывать не собирался, потому что два сошлись в одном: душа замёрзла, душа устала. Отогревая душу, он вновь и вновь уносился в прошлое, которое будто написано было простым карандашом – с каждым годом неумолимо стиралось; сначала пропадали отдельные буквы, затем исчезали слова, предложения целые абзацы прошлой жизни.
И, в конце концов, в нём укрепилось чувство, что этого славного прошлого не было, а если что-то было – поросло быльём. И даже тот кошмар, когда вдруг позвонила бывшая жена – даже это он воспринимал как нечто нереальное. Только в первые минуты его встряхнуло с такою силой, точно он сидел на бочке с порохом и чиркнул спичкой. Тогда он крепко выпил и на самом деле чиркнул – закурил после многолетнего воздержания. Закурил и задумался: «А могло ли быть как-то иначе? Что ни говори, а всякая случайность – это синоним закономерности. Отец ты был отличный – в том горьком смысле, что сильно отличался от других отцов. А если говорить серьёзно, то никаким отцом ты вовсе не был – деньгами откупался, алименты платил в добровольно-принудительном порядке. И поэтому всё, что случилось, – вполне закономерная печаль…»
Глава 12
В Петербурге в ту далёкую осень погибла дочь. Родилась Ленинграде, а погибла уже в Петербурге – такая вот гримаса жизни, одичавшей за последние годы. «В Ленинграде, – размышлял он, – никогда бы ЭТО не случилось. А теперь свобода – гуляй, ребята. Вместо соски – давай папироски.
А потом тебе подсунут гашиш, марихуану – под видом безобидных благовоний. И ты без ума, без памяти прыгнешь из окошка небоскрёба…»