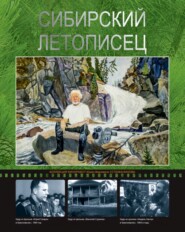По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Святая Грусть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Августина вышла из кареты, посмотрела на судорожно бьющуюся птицу, лежащую в лужице собственной крови. Отвернулась – и опять в карету. Умирающий лебедь показался ей недобрым знаком.
Молчали, возвращаясь во дворец. Свежей закатной кровью захлестнуло западные склоны горизонта.
Рука Августины подрагивала в руке царя.
Ну что ты, что ты?
Страшно… отчего-то.
Успокойся, Грустенька.
Приехали. Царь проводил ее в опочивальню и подумал: «Кто бы меня успокоил. И что это за диво дивное такое – «Стрела Умерлана»?
5
Стемнело. Поздний вечер звезды высыпал на горы, на долы и прямо на крышу царской палаты. Стоя у раскрытого окна, государь невольно обострялся ухом: не зазвенит ли где-нибудь в потёмках наконечник поющей стрелы?
Перед ним лежала чистая бумага, ждала приговора.
И снова пухла голова царева думами. Сомненьями душа терзалась. А потёмки подступающей ночи представлялись потёмками жизни. «Как быть? Что делать? Казнить разбойника или помиловать?»
Отец – на смертном одре – просил его быть строгим, но справедливым. Так в чём же справедливость? В том, чтобы казнить? Или в том, чтобы помиловать?.. Что ни говори, а сам отец помиловал того разбойника, поднявшего руку на старшего сына.
И снова появилось болезненное, тайное желание: поехать на Столетние Стоны, увидеть разбойника. Что с ним? Раскаялся? Нет ли?.. А этот, который в темнице, как теперь он? А что если пойти к нему в темницу? А? Посмотреть в глаза, поговорить, узнать, кто он такой. Говорят, что – дурохамец. А сам-то разбойник себя выдает за святогрустного человека. Так, может быть, и правда святогрустный? Может, сбился с пути господнего? И может быть, можно ещё наставить его на истинный путь?
Царь поглядел па Распятье, мерцающее над золотым огнём лампадки. И снова он услышал отзвук покойного отца: «Когда тебе не хочется делать что-то хорошее, доброе людям, – подумай о том, что Христос не гнушался даже ноги мыть своим ученикам!.. В каждом человеке – царь небесный. Понтий Пилат когда-то не помиловал – и не стало Христа!»
Отойдя от окна, царь подёргал шёлковый шнурок.
Вошёл Терентий. Заспанный, помятый. Пушинка из подушки застряла в волосах.
Скажи, пускай в подвал, в темницу подадут корыто с водою. Скажи, приду сейчас. – Царь помедлил. – И ещё скажи, пусть приготовят для того разбойника чистую рубаху… Ну что ты раззевался? Рот порвешь!..
Простите, Ваша Светлость. Времени-то скоко… Работаешь, работаешь не подкладая рук… Что там ещё сказать прикажете?
Царь неожиданно вспылил:
Ничего! Иди, спи! Раззевался тут… Раззява!
Терёшка в ухе пальцем покопался.
То есть, как это прикажете понять? Не ходить в подвал, в темницу?
Нет, я же сказал… – Царь отвернулся. – Исчезни с глаз долой!
Слуга улетучился – легкий, бесшумный, как тень. Тихохонько прикрывши дверь, он постоял за порогом, плечами пожал и зевнул. Вернулся к себе и прилёг на топчан, ладошки сделал «лодочкой» – под голову подсунул, блаженно жмурясь. А через минуту бедный слуга едва не рухнул на пол – царь снова дернул шёлковый шнурок, привязанный к колокольчику.
На этот раз Терентий вбежал в опочивальню, как на пожар.
Чего изволите?
Ты на какой подушке спишь?
Терентий растерянно хмыкнул, подумав: «Тут, пожалуй, поспишь!»
– Как «на какой»?.. На мягкой. Не камень же под голову толкать.
Царь помолчал, наблюдая, как слуга царапает висок. Пушинка от подушки, заблудившаяся в волосах, упала под ноги Терешки; он заметил, угрюмо поднял, покатал между пальцами, соображая, что ничего срочного не предвидится. Можно, стало быть, расслабиться, зевнуть.
– Принеси-ка мне подушку из заячьей шерсти! – приказал государь.
Зевком раскоряченный рот слуги так и остался – широкой дырой. Терентий спохватился – ладошкою прикрыл.
Заячья? Подушка? Не знаю, Ваша Свет…
Ты, однако, сам на ней храпишь! – Царь сверкнул сердитыми глазами. – Живо принеси! А то, клянусь короной, ты у меня дождёшься!
Не на шутку перепуганный Терентий засеменил, отбегая к порогу. За дверями остановился. Опять зевнул, пожал плечом.
– То корыто с водой принести, то подушку в корыте…
Он запалил фонарь, вошёл в хоромину, где пахло старой пылью, деревом и одеждами. Сундуки поблескивали медными обивками. Пудовые замки – в виде каких-то звериных оскаленных морд – висели на сундуках. Мышь проскользнула под ногами, пискнула. Терёшка замахнулся на неё… Качнувшийся фонарь потянул причудливые тени по углам, потолку… Терёшка огляделся и руку протянул. Погладил шубу – искорки из-под руки посыпались; того и гляди, чтоб не вспыхнуло пламя. Тут были всевозможные собольи меха. Лисье рыжее «золото». Потом Терёшка покопался в грудах шерсти, в её великом разнообразии: ангорская, верблюжья, баранья…
Крышка сундука, которую Терёшка приподнял, так противно заскрипела, что слуга поежился, крестясь: «Как гробовая крышка!» Он чихнул, едва не погасив огонь – фонарь стоял поблизости.
Подушка из заячьей шерсти хорошо помогает страдающим бессонницей. Так уверяет Звездочёт. Царь не очень-то верил, но делать нечего, надо попробовать.
Принимая подушку из рук Терентия, он спросил:
А это точно – заяц?
Да как сказать? – Слуга зевнул. – Не обдирал, не знаю. Я посмотрел шерстинки, вроде заяц.
Ой, гляди, а то лишь бы подсунуть…
Да заяц, заяц. Точно.
Святогрустный венценосец согласно покачал головой.
– Хорошо. Ну, спасибо, Терёшка. Ступай. Спокойной ночи.
Слуга обречённо вздохнул:
– Да уж какой там! Работаешь, работаешь не подкладая рук…
Оставшись один, Царь Государьевич сунул «зайца» под голову. Глаза закрыл. Затих. Но ненадолго. Поминутно он вертелся на кровати с боку на бок. Так вертелся, как будто не кровать, а сковородка, постепенно раскалявшаяся снизу. В конце концов, он нехотя поднялся. Поколотил подушку, помутузил, покряхтывая. Вспомнил Звездочёта и пробормотал:
– «Помогает, помогает заячья подушка!..» Да где же она помогает? Не спится, хоть тресни!
Молчали, возвращаясь во дворец. Свежей закатной кровью захлестнуло западные склоны горизонта.
Рука Августины подрагивала в руке царя.
Ну что ты, что ты?
Страшно… отчего-то.
Успокойся, Грустенька.
Приехали. Царь проводил ее в опочивальню и подумал: «Кто бы меня успокоил. И что это за диво дивное такое – «Стрела Умерлана»?
5
Стемнело. Поздний вечер звезды высыпал на горы, на долы и прямо на крышу царской палаты. Стоя у раскрытого окна, государь невольно обострялся ухом: не зазвенит ли где-нибудь в потёмках наконечник поющей стрелы?
Перед ним лежала чистая бумага, ждала приговора.
И снова пухла голова царева думами. Сомненьями душа терзалась. А потёмки подступающей ночи представлялись потёмками жизни. «Как быть? Что делать? Казнить разбойника или помиловать?»
Отец – на смертном одре – просил его быть строгим, но справедливым. Так в чём же справедливость? В том, чтобы казнить? Или в том, чтобы помиловать?.. Что ни говори, а сам отец помиловал того разбойника, поднявшего руку на старшего сына.
И снова появилось болезненное, тайное желание: поехать на Столетние Стоны, увидеть разбойника. Что с ним? Раскаялся? Нет ли?.. А этот, который в темнице, как теперь он? А что если пойти к нему в темницу? А? Посмотреть в глаза, поговорить, узнать, кто он такой. Говорят, что – дурохамец. А сам-то разбойник себя выдает за святогрустного человека. Так, может быть, и правда святогрустный? Может, сбился с пути господнего? И может быть, можно ещё наставить его на истинный путь?
Царь поглядел па Распятье, мерцающее над золотым огнём лампадки. И снова он услышал отзвук покойного отца: «Когда тебе не хочется делать что-то хорошее, доброе людям, – подумай о том, что Христос не гнушался даже ноги мыть своим ученикам!.. В каждом человеке – царь небесный. Понтий Пилат когда-то не помиловал – и не стало Христа!»
Отойдя от окна, царь подёргал шёлковый шнурок.
Вошёл Терентий. Заспанный, помятый. Пушинка из подушки застряла в волосах.
Скажи, пускай в подвал, в темницу подадут корыто с водою. Скажи, приду сейчас. – Царь помедлил. – И ещё скажи, пусть приготовят для того разбойника чистую рубаху… Ну что ты раззевался? Рот порвешь!..
Простите, Ваша Светлость. Времени-то скоко… Работаешь, работаешь не подкладая рук… Что там ещё сказать прикажете?
Царь неожиданно вспылил:
Ничего! Иди, спи! Раззевался тут… Раззява!
Терёшка в ухе пальцем покопался.
То есть, как это прикажете понять? Не ходить в подвал, в темницу?
Нет, я же сказал… – Царь отвернулся. – Исчезни с глаз долой!
Слуга улетучился – легкий, бесшумный, как тень. Тихохонько прикрывши дверь, он постоял за порогом, плечами пожал и зевнул. Вернулся к себе и прилёг на топчан, ладошки сделал «лодочкой» – под голову подсунул, блаженно жмурясь. А через минуту бедный слуга едва не рухнул на пол – царь снова дернул шёлковый шнурок, привязанный к колокольчику.
На этот раз Терентий вбежал в опочивальню, как на пожар.
Чего изволите?
Ты на какой подушке спишь?
Терентий растерянно хмыкнул, подумав: «Тут, пожалуй, поспишь!»
– Как «на какой»?.. На мягкой. Не камень же под голову толкать.
Царь помолчал, наблюдая, как слуга царапает висок. Пушинка от подушки, заблудившаяся в волосах, упала под ноги Терешки; он заметил, угрюмо поднял, покатал между пальцами, соображая, что ничего срочного не предвидится. Можно, стало быть, расслабиться, зевнуть.
– Принеси-ка мне подушку из заячьей шерсти! – приказал государь.
Зевком раскоряченный рот слуги так и остался – широкой дырой. Терентий спохватился – ладошкою прикрыл.
Заячья? Подушка? Не знаю, Ваша Свет…
Ты, однако, сам на ней храпишь! – Царь сверкнул сердитыми глазами. – Живо принеси! А то, клянусь короной, ты у меня дождёшься!
Не на шутку перепуганный Терентий засеменил, отбегая к порогу. За дверями остановился. Опять зевнул, пожал плечом.
– То корыто с водой принести, то подушку в корыте…
Он запалил фонарь, вошёл в хоромину, где пахло старой пылью, деревом и одеждами. Сундуки поблескивали медными обивками. Пудовые замки – в виде каких-то звериных оскаленных морд – висели на сундуках. Мышь проскользнула под ногами, пискнула. Терёшка замахнулся на неё… Качнувшийся фонарь потянул причудливые тени по углам, потолку… Терёшка огляделся и руку протянул. Погладил шубу – искорки из-под руки посыпались; того и гляди, чтоб не вспыхнуло пламя. Тут были всевозможные собольи меха. Лисье рыжее «золото». Потом Терёшка покопался в грудах шерсти, в её великом разнообразии: ангорская, верблюжья, баранья…
Крышка сундука, которую Терёшка приподнял, так противно заскрипела, что слуга поежился, крестясь: «Как гробовая крышка!» Он чихнул, едва не погасив огонь – фонарь стоял поблизости.
Подушка из заячьей шерсти хорошо помогает страдающим бессонницей. Так уверяет Звездочёт. Царь не очень-то верил, но делать нечего, надо попробовать.
Принимая подушку из рук Терентия, он спросил:
А это точно – заяц?
Да как сказать? – Слуга зевнул. – Не обдирал, не знаю. Я посмотрел шерстинки, вроде заяц.
Ой, гляди, а то лишь бы подсунуть…
Да заяц, заяц. Точно.
Святогрустный венценосец согласно покачал головой.
– Хорошо. Ну, спасибо, Терёшка. Ступай. Спокойной ночи.
Слуга обречённо вздохнул:
– Да уж какой там! Работаешь, работаешь не подкладая рук…
Оставшись один, Царь Государьевич сунул «зайца» под голову. Глаза закрыл. Затих. Но ненадолго. Поминутно он вертелся на кровати с боку на бок. Так вертелся, как будто не кровать, а сковородка, постепенно раскалявшаяся снизу. В конце концов, он нехотя поднялся. Поколотил подушку, помутузил, покряхтывая. Вспомнил Звездочёта и пробормотал:
– «Помогает, помогает заячья подушка!..» Да где же она помогает? Не спится, хоть тресни!