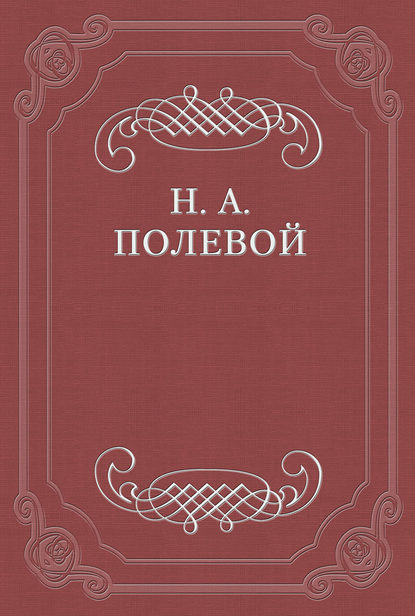По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Иоанн Цимисхий
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Так завтра преклонятся пред тобою, самовластительницею Царьграда и Востока, колена миллионов! Участь Никифора неотвратима. Мы все погибнем, если не предупредим его гибелью предстоящего бедствия. Народ раздражен; войско волнуется и ропщет; казна государственная истощена ненасытною жадностью его родственников, а богатство народное – его непостижимым корыстолюбием. Завтра может вспыхнуть мятеж…»
– Жизнь его будет пощажена! Клянись мне, Цимисхий!
«Охотно, великая владычица, но жаль, что прежде не знал я этого и не предупредил товарищей… Впрочем, жизнь человеческая всегда и вообще казалась мне излишнею тягостью для многих… По крайней мере, если судить по наружности, до сих пор жизнь не слишком веселит Никифора – он так угрюмо смотрит на нее…»
Шорох шагов раздался в ближней комнате. Феофания ужаснулась – даже Цимисхий смутился. Поспешно вскочил он и хотел убежать в потайную дверь, закрытую занавесами, роскошно раскинутыми по стене. Но Цимисхий не успел исполнить своего намерения, и немой карлик вбежал уже в это время в комнату; со страхом делал он какие-то знаки Феофании.
– Несчастный! что ты хочешь объяснить? Никифор? Теперь, в это время? Что значит такое нечаянное посещение? – проговорила вполголоса Феофания, вскакивая со своего дивана.
«Великая повелительница! если я обманут, – скоро прошептал ей Цимисхий, – горе обманщику! Еще на одно мгновение, – продолжал он, крепко держа Феофанию за руку, когда она силилась удалиться от него, – на одно мгновение: этот вероломный обманщик должен знать, что тот, кто бросается между льва и тигра, когда они устремляются друг на друга – тот погибнет первый…» – Он распахнул епанчу свою и указал Феофании на два кинжала, заткнутые за его поясом.
– Клянусь тебе, Цимисхий… Удались, беги…
«Я давно знаком со смертью… Бежать? За тем, чтобы наткнуться на нож подставленного убийцы? Я – останусь здесь!» – Он обнажил один из своих кинжалов.
Уже слышна была тяжелая походка Никифора. Цимисхий бросился за занавес и скрылся в нем. Феофания устремила неподвижные глаза свои на то место, где стоял он. Его нельзя было заметить. Феофания отдохнула. Никифор входил в комнату. Низко преклонилась перед ним Феофания, скрывая страшное смущение под видом скромной покорности. Никифор остановился, смотрел на нее, будто любовался ее красотою.
«Феофания! – сказал он, – прошу твоего прощения, если мой нечаянный приход встревожил тебя. Сядь, моя достойная, милая супруга, успокойся».
Феофания почтительно села на диван, и подле нее поместился Никифор. «Удивляюсь, – сказал он, стараясь смягчить грубый голос свой, – удивляюсь, что вижу тебя неодетою, когда уже так близок час начала торжества и ты должна явиться во всем величии, приличном супруге властителя царьградского… Ты кажешься смущенною? Ты здесь одна…»
– Одна, государь! – с ужасом отвечала Феофания.
«Да, я разумею, что с тобой нет никого из твоих приближенных, ни одной невольницы – а не другое что-нибудь!» – Никифор улыбнулся.
– Я… я… – хотела сказать что-то Феофания и не могла ничего выговорить.
«Как прекрасна, как прелестна ты, Феофания, в этом наряде! – сказал Никифор, целуя руку ее. – Тебя изумляют, может быть, слова мои, но я так рад, так доволен – я хотел разделить с тобою радость мою и благодарить тебя…»
– Радость, великий супруг мой? Благодарить меня?
«Да, да, я хотел поговорить с тобою о Цимисхии».
Шорох послышался в комнате. Никифор небрежно оглянулся кругом и оборотился спиною к той стене, где скрывался Цимисхий. Тихо, украдкою оборотила беглый взор свой Феофания к месту его убежища и увидела Цимисхия. Забывшись, выставился он из-за занавеса, и – кинжал виден был в руке его. Феофания окаменела на месте.
Только пять шагов разделяли Никифора от Цимисхия – пять шагов отделяли Никифора от его могилы, а он беспечно сидел подле Феофании, не думая, не зная о своей участи. И подле него была она – обольстительная Сирена[277 - Сирены – в греческой мифологии злые демоны в образе птиц с женской головой; обитали на одном из островов, своим волшебным пением зачаровывали мореплавателей, которые поворачивали корабли, плыли на их голос и разбивались о скалы.], готовая предать его мечу убийцы. Одно слово могло открыть Цимисхия, но с этим словом Никифор задохся бы в крови своей… Ужасное состояние!
Да, порок и преступление знают ад и до смерти, знают его, еще скитаясь на здешней земле, постигают мучения и скорби, ожидающие грешника за пределами гроба… Зачем не умеют они объяснить этого ада заживо другим? Зачем не всегда чувствуют его?
«Я хотел поговорить с тобою о Цимисхии, – продолжал Никифор. – Каких скорбей избавился бы я, если бы знал прежде этого благородного, великодушного человека!»
Феофания с изумлением смотрела на Никифора и не понимала, что значат слова его? Хитрое испытание, или…
«Недоверчивость есть недостаток во всяком человеке, – продолжал Никифор, – так как и излишняя доверчивость. Но в человеке моего высокого сана – недоверчивость порок. Сознаюсь в этом и признаю, что великодушие должно быть всегдашнею добродетелью властителей. Я почитал Иоанна человеком, запятнанного злобою и пороками…»
Говоря это, Никифор употребил аттическое выражение[278 - Аттическое выражение – т. е. утонченно-насмешливо-образное, отличавшее манеру высказывания жителей Аттики и прежде всего Афин в пору наивысшего культурного расцвета города, расположенного в этой части Греции и объединившего под своей властью население области.] ???????? ?????? ??? ??????? (замаранный кровью и грязью) – и Феофания невольно повторила эти слова.
«Да, – сказал Никифор, – я думал так и теперь стыжусь своей недоверчивости. Знаешь ли, что Цимисхий спас жизнь мою от ужасного заговора? Он, он открыл мне тайну страшного возмущения, которое таилось в Царьграде. Ненавистные „синие“ и „зеленые“ скрывали пагубную мысль бунта, и все было готово к погибели моей, погибели тебя, детей твоих, погублению граждан, хищению. Чего хотели проклятые заговорщики? Не знаю хорошо, ибо не исследованы еще все подробности заговора, но уже более двадцати злоумышленников схвачено и брошено в темницу; открываются глубокие, отдаленные следы. Кажется, что тут соединено было согласие еретиков, заговорщиков старых, философов – один из самых злых возмутителей, тот безбожник-философ, которого еще так недавно простил я, теперь в кандалах – и все это сделал Цимисхий – все, когда так гордо, так презорливо оскорблял я его моими подозрениями!..
Не знаю, – продолжал Никифор, – не знаю, чем вознаградить мне благородного, великодушного Цимисхия! Хочу торжественно признать его заслуги, наименовать его Паниперсевастором, украсить его зелеными сандалиями, соединить, если ему будет угодно, с моею сестрою… Скажи, что думаешь ты обо всем этом, моя прекрасная подруга?»
– Мне ли решать, на кого и как должна изливаться река милостей твоих, мой повелитель!
«О, клянусь, блаженным родственником моим, Михаилом Малеином, что если прискорбны были обиды мои Цимисхию – торжественна и велика будет награда его! Чувствую теперь, как далеко доверчивость превосходит недоверенность, чувствую сладкую отраду в сердце моем, уверяясь наконец в добродетели людей; Цимисхию одолжен я всем этим!»
Никифор встал, начал ходить по комнате. «Отныне опять безопасно буду я подвергаться опасностям битвы, и для победы, являясь сам среди моих воинов, не буду щадить жизни моей – после меня останется еще доблий защитник Царьграда! Трепещите, умышляющие зло! Цимисхий будет стражем окрест моего престола. Трепещите, враги великой римской державы! Пока Никифор понесет ужас и победу на полки скифские – Цимисхий сокрушит на Востоке гордые стены Багдада!»
Подле самого занавеса стоял в это время Никифор, там, где скрывался в эту минуту Цимисхий. Протянув нечаянно руку, он встретил бы – кинжал Цимисхия! Феофания сидела безмолвная, потупив глаза в землю…
«Ты изумляешься словам моим, моя прекрасная Феофания? Ты не узнаешь меня? Я сам только в первый раз ощущаю сладость подобных чувствований, и – тебе одолжен я ими! Ты ходатайствовала за Цимисхия… Не скрою пред тобой самых тайных чувств моих и помышлений – мне надобно разделить радость сердца моего, и – с кем же разделю ее, если не с тобою! Мне казалось – прости меня, моя прекрасная Феофания – мне казалось подозрительным твое ходатайство; я думал, я страшился, что хитрый обман таится, скрывается в твоей просьбе… Вижу теперь, как глубоко проникла твоя мудрая, проницательная мудрость, как провидела она в Цимисхии то, чего не понимал я, ослепленный ненавистью, омраченный недоверчивостью, этим демоном, губящим веру в добродетель человеческую… А без этой спасительной веры может ли быть хоть что-нибудь священно для человека? Феофания! Ты убедила меня в том, в чем не могли убедить меня испытанные столько раз великодушные поступки Цимисхия…»
Никифор остановился против Феофании, пристально смотрел на нее и сказал: «Но, виноват ли, что доселе, воспитанный в шуме военного лагеря, приученный к грубым страстям воинов, к жизни бранной среди мечей и копий, я не верил ничему, что внушает человеку нежное ощущение души и сердца? Знаешь ли, Феофания, помнишь ли, что я был уже однажды обязан Цимисхию императорским венцом моим? Пусть завтра услышит от меня, из уст моих, признание в этом целый свет – посмотрим: кто из нас отныне победит один другого великодушием… Гордый Никифор явится таким, каким создал его Бог, а не таким, какого сделали из него люди и обстоятельства… Прощение заговорщикам, которых предала мне в руки верность Цимисхия, почесть и слава Иоанну Цимисхию, образцу верности и великодушия. Только перед тобою, теперь, в первый еще раз, Никифор является в истинном своем виде. Доселе знали во мне воина, властителя – ты видишь Никифора человека!»
Он протянул руку к Феофании, пожал ее руку и с умилением смотрел на нее.
«Довольно, – сказал он, – сердце мое было полно таких чувств, которые мне надобно было высказать; они переполняли мою душу, Вспоминаю премудрые слова твои, император Василий: „Все преимущества телесные не столько украшают царя, сколько украшают его милость и великодушие. Красота исчезает с летами; богатство рождает леность и страсти; сила смущает душу гордостью. Единая добродетель выше силы, красоты и богатств, и ею должен украшаться царь, а начало ее составляют милость и великодушие…“[279 - «Главизны увещаний» («???????? ???????????») Василия Македонского.] Но уж все готово, думаю, к началу пира – поспеши, моя прекрасная Феофания, и будь солнцем радости и веселья для дорогих гостей наших – не щади угощения!..»
Он взглянул еще раз на Феофанию, ласково, приветливо, благословил ее и вышел, напевая любимый стих свой: «Господь мне помощник и не убоюся зла…»
С минуту сидела Феофания на диване своем, как будто жезл волшебника оковал в ней все чувства, все помышления. Цимисхий вышел из скрытного убежища своего и стоял, сложа руки, потупив глаза, как преступник, которому произнесли приговор смертный.
– Цимисхий! – сказала Феофания умоляющим голосом, – отдай ключ!
Цимисхий не отвечал ни слова.
– Отдай мне ключ, ради будущего спасения тебя, меня, твоей и моей души на втором пришествии Спасителя!..
«Нет! это невозможно!»
– Умоляю тебя! – Феофания бросилась перед ним на колени.
«Нет!»
– Муж крови и смерти! трепещи – я иду и все открою Никифору!
«Хорошо, иди и скажи ему, что Цимисхий и убийцы введены были в тайный чертог твой твоею рукою, тою самою рукою, которая передала некогда Антипофеодору стакан прохладительного питья, поднесенный им Роману, сыну Константина Порфирородного…»
С ужасом отшатнулась от него Феофания, и болезненный стон вырвался из ее груди – нет! из ее души! Когда опомнилась она, Цимисхия уже не было в комнате, и невольно повторила она слова Никифора: ???????? ?????? ??? ???????.
Книга V
О Зевес! верить ли мне, что ты взираешь на жребий смертных, или мысль, что боги существуют, есть мысль ложная и обманчивая, и единый случай управляет судьбою человека?.. Что зрю: не се ли Царица великой Фригии, супруга могущего Приама? Пал град Приама добледушного, и его супруга – раба, удрученная летами, лишенная детей, повержена во прах священными сединами главы своей…[280 - Эпиграф – слова Талфибия из второго эпимодия трагедия «Гекуба» выдающегося греческого драматурга Еврипида (ок. 480—406 до н. э.).]
«Гекуба», трагедия Эврипида
Торжественный пир природы шумел и гремел над Царьградом – буря, каких мало могли запомнить даже старики, жители царьградские, возмущала небо и землю, и море; волны Эвксина мчались в Эгейское море, встречались с волнами моря Эгейского, сшибались в страшном разбеге, разлетались подоблачными брызгами и опеняли берега; вихрь срывал крыши домов, ломал деревья, разбивал лодки и корабли; снег взвивался клубами и, как будто сквозь сито, просевался на землю сквозь облака. К изумлению многих – несколько раз в то же время прогремел гром; может быть, так показалось жителям царьградским, и они почли громом необыкновенный гул и рев ветра. По крайней мере, многие уверяли впоследствии, что слышали громовые удары, крестились в это время и говорили окружавшим их: «Слышишь ли гром? Ну, это не к добру!» Царьградцы, жившие около Влахерна, были еще более испуганы и изумлены неожиданным событием в эту ночь. Огромная церковь, которую на память взятия Антиохии заложил Никифор, была уже в это время окончена наружною отделкою. Вдруг страшно завыл ветер, и среди воя его услышали какой-то треск, как будто лопнула гора каменная – глухой шум и стук последовали за этим треском; окрестные дома потряслись в основании. Жители в ужасе выбежали из домов и сначала не верили глазам своим: куда девалась огромная колокольня? где позолоченный купол новосозданного храма? Как будто кто-нибудь поднял этот храм в основании исполинскою рукою, потряс его и опустил опять на землю: до нижних окошек развалился храм, рухнулась до основания колокольня, и только безобразная груда развалин, как гора огромная, являлась на месте храма и колокольни. Говорили после того, будто окрестные жители слышали голос на развалинах: «Так не приемлет Господь жертвы грешника!» Другие рассказывали, будто в воздухе слышались им слова: «Горе зиждущему дом мой грехом и неправдою!» – Един Бог ведает, справедливы ль были все сии слухи; но через два часа после падения храма уже весь Царьград со страхом говорил: «Быть худу! Знамение страшное совершилось!» Никто не смел прибавить, что, по его мнению, предвещает это знамение, но каждый думал одно, и если бы сказал свое мнение другому, тот, конечно, согласился бы с ним. Безвестность особенно умножала страх жителей: в одном конце города говорили, что весь Влахернский дворец повалился в море; в другом прибавляли к этому Вукалеон, и если бы Софийский храм не был виден со всех концов города, верно, многие начали бы говорить, а другие верить, что и он развалился в основании. Половина Царьграда не спала всю ночь.
Но что было природе до беспокойства людского! Торжественный пир ее страшно гремел над Царьградом, как будто над бедным, ничтожным муравейником.