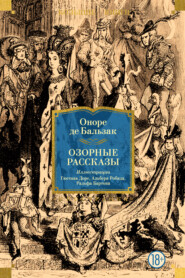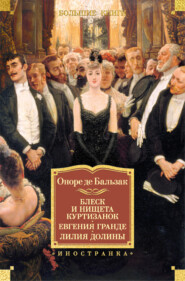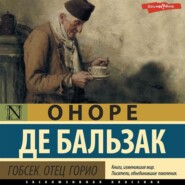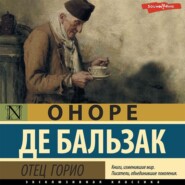По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сочинения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А вот и мадемуазель де Пен-Холь, – сказала Мариотта.
Действительно, по песку слышались осторожные шаги этой девицы, впереди которой шел с фонарем маленький слуга. Увидав его, Мариотта перенесла свою резиденцию в большую залу, чтобы поболтать с ним при свете осмоленной свечи, которую она нарочно не потушила, чтобы сэкономить хозяйское освещение и попользоваться от богатой и скупой гостьи.
Это была худая и высохшая старая дева, желтая, как старый пергамент, вся в морщинах, точно озеро, покрытое рябью. У нее были серые глаза, длинные выдавшиеся вперед зубы, руки совершенно мужские; роста она была небольшого, немного крива и даже горбата. Но никто никогда не интересовался вообще ее достоинствами и недостатками. Одета она была похоже на старуху дю Геник, и всякий раз, как ей надо было попасть в карман, она долго шарила рукой, не будучи в состоянии скоро разобраться в бесчисленных своих юбках, причем все время раздавалось звяканье ключей и звон мелких денег. С одного бока у нее висели все ключи по дому, а с другой – серебряная табакерка, наперсток, вязанье и тому подобные предметы, которые и производили этот шум. Вместо чепчика, как у девицы дю Геник, на голове ее красовалась зеленая шляпа, служившая ей и на огороде. Цвет ее из зеленого стал рыжим, а формой она напоминала шляпы биби, какие спустя двадцать лет снова вошли в моду в Париже. Шляпу эту делали ее племянницы под ее наблюдением: сделана она была из зеленой тафты, купленной в Геранде; что касается каркаса, то она покупала его в Нанте раз в пять лет, так что он возобновлялся при каждом законодательном собрании. Платья, всегда одного неизменного фасона, ей шили также племянницы. В руках у нее была тросточка с маленьким наконечником, как носили дамы в начале царствования Марии-Антуанетты. Девица происходила из одного из самых благородных семейств Бретани. На ее гербе была герцогская корона. Она с сестрой была последним отпрыском славной бретонской фамилии Пен-Холь.
Младшая сестра вышла замуж за Кергаруэта, который, не обращая внимания на общее неодобрение, прибавлял к своей фамилии и имя Пен-Холь и велел себя именовать виконтом де Кергаруэт-Пен-Холь.
– Небо наказало его, – говорила старая девица, – у него только дочери, так что имя Кергаруэтов-Пен-Холь должно прекратиться.
У мадемуазель де Пен-Холь были поместья, приносившие до семи тысяч ливров годового дохода. С тридцати шести лет она сама управляла своим именьем, верхом объезжала поля и проявляла в своих делах большую энергию, которой отличаются обыкновенно горбатые. Ее скупость была известна в окружности на десять лье и нигде не возбуждала порицания. Весь ее домашний штат состоял из одной женщины и маленького лакея. Тратила она, если не считать налогов, не более тысячи франков в год. Благодаря всему этому, за ней сильно ухаживали Кергаруэты-Пен-Холь, проводившие зиму в Нанте, а лето в своем имении на берегу Луары, немного ниже Индра. Они знали, что тетка откажет свой капитал и все свои сбережения той племяннице, которая ей больше придется по сердцу. И вот раз в три месяца, одна из четырех девиц де Кергаруэт – из которых младшей было десять, а старшей двадцать лет – приезжала на несколько дней к старушке. Жакелина де Пен-Холь, старинная подруга Зефирины дю Геник, была воспитана в благоговейном преклонении перед величием дю Геников и с самого рождения Калиста строила планы о том, чтобы завещать все свое имущество молодому шевалье, женив его на будущей дочери виконтессы де Кергаруэт. Она подумывала также выкупить некоторые лучшие владения дю Геников, выплатив их стоимость арендаторам. Раз скупость имеет какую-нибудь определенную цель, она перестает уже быть пороком и ее можно считать почти добродетелью: все лишения превращаются в добровольные пожертвования и под ничтожными мелочами скрывается одна главная Цель. Может быть, Зефирина была посвящена в тайные мечты Жакелины. И баронесса со своей стороны в своей беспредельной любви к сыну и нежности к его отцу тоже отдала кое-что, видя, с какой коварной настойчивостью мадемуазель де Пен-Холь приводила к ним каждый день свою любимицу пятнадцатилетнюю Шарлотту де Кергаруэт. Священник Гримов был тоже в заговоре: не даром он давал старой девице советы, как выгоднее помещать деньги. Но если бы у мадемуазель де Пен-Холь было не только триста тысяч франков золотом – цифра ее сбережений, а имей она поместий в десять раз больше, все-таки дю Геники ни за что не стали бы ей оказывать особого внимания, чтобы она не могла подумать, что на ее деньги имеют виды. Напротив, Жакелина де Пен-Холь, как истая бретонка, была счастлива благоволением, которое ей выказывали дю Геники и ее старая приятельница Зефирина, и ощущала большую гордость после всякого посещения, которым удостаивали ее дочь Ирландских королей и Зефирина. Она не показывала вида, что для нее немалая жертва каждый вечер позволять своему лакею жечь у дю Геников свечку, цветом напоминавшую пряник: такие свечи употребляются в некоторых местностях на западе. Итак, эта старая богатая девица представляла олицетворение родовитости, гордости и величия души. Для дополнения ее характеристики может послужить болтливость аббата Гримона, благодаря которой мы узнаем, что в тот самый вечер, когда старик барон с молодым шевалье и Гасселеном, вооружившись саблями и охотничьими ружьями, собирались уехать в Вандею, к великому ужасу Фанни и к радости бретонцев, и присоединиться там к королеве, в тот самый вечер мадемуазель де Пен-Холь вручила барону десять тысяч ливров золотом. К этой сумме, отдать которую стоило ей немало мужества, она прибавила еще десять тысяч ливров, собранных священником: старый партизан должен был вручить эту последнюю сумму матери Генриха V от имени Пен-Холь и от прихожан Геранды.
Старая девица считала, что имеет права над Калистом, сообразно с этим и вела себя по отношению к нему и зорко следила за ним. Хотя она, как все старые люди монархического правления, смотрела снисходительно на сердечные похождения, но зато не выносила революционного духа. Так что Калист мог своими романами с бретонками только выиграть в ее мнении, но вдайся он в новшества, он сразу упал бы в ее глазах. Мадемуазель де Пен-Холь наскребла бы откуда-нибудь денег, чтобы задобрить обесчещенную им девушку, но, увидев его в тильбюри или услыхав, что он поговаривает о поездке в Париж, она сочла бы Калиста мотом. Застань она его за чтением безбожных книг или журналов – кто знает, на что она была способна. По ее мнению, новые идеи – это конец земельной собственности, это разорение под фирмой каких-то улучшений и систем, которые в результате приведут владельцев к залогу имений. Только путем благоразумия, говорила она, можно себе составить состояние. А для этого надо хорошо управлять своим имением, т. е. складывать в амбары гречиху, рожь и коноплю, а затем ждать хороших цен и, не боясь прослыть алчной, сидеть на своих мешках. До сих пор ее теория всегда приводила к блестящим результатам; вероятно, потому общественное мнение признало ее очень ловкой и хитрой. В действительности она была просто глупа, но такого лестного отзыва удостоилась благодаря своей чисто голландской аккуратности, своей кошачьей осторожности и, наконец, благодаря настойчивости, достойной духовного лица: это последнее качество особенно упрочило за ней репутацию ума.
– Увидим ли мы сегодня г-на дю Хальга? – спросила старая девица, снимая свои вязаные шерстяные митенки после обмена приветствий.
– Как же, мадемуазель, я видел его: он водил свою собачку погулять, – отвечал священник.
– Ага! Значит, наша мушка будет сегодня в полном составе. Вчера нас было только четверо.
Услышав слово «мушка», священник встал со своего места и направился к шкафчику. Из ящика он вынул маленькую соломенную корзинку с костяными кружками, которые от двадцатилетнего употребления стали желтыми, как турецкий табак, и карты, до того засаленные, что, вероятно, такими же играют таможенные служащие в С.-Назере. Аббат сам разложил на столе кружки для каждого игрока, поставил корзину около лампы и проделывал все это с детской поспешностью, и видно было, что ему это случалось делать не впервые. Сильный, по-военному, стук в дверь вдруг нарушил безмолвие старинного замка. Маленький лакей мадемуазель де Пен-Холь с важным видом пошел отворять дверь. Вслед затем на полутемном фоне двери показалась высокая, худая фигура шевалье дю Хальга, отставного капитана судна, которым командовал адмирал Кергаруэт.
– Скорее, шевалье, – закричала мадемуазель Пен-Холь.
– Жертвенник уже готов, – сказал священник.
Шевалье отличался очень слабым здоровьем и потому постоянно носил от своих ревматизмов фланель, на голове черную шелковую шапочку и, кроме того, спенсер, который предохранял его драгоценную грудь от ветров, которые сразу иногда охлаждают атмосферу в Геранде. В его руках всегда была трость с золотым яблоком в виде набалдашника: он ей отгонял собак, которые имели дерзость ухаживать за его собачкой. Этот господин, теперь мелочный, как женщина, старавшийся обойти всякое встречающееся ему на пути препятствие, говоривший постоянно тихим голосом, чтобы сохранить уцелевшие остатки его, считался в свое время одним из самых ученых и храбрых морских офицеров. Он пользовался большим уважением судьи Суфферена и был удостоен дружбы графа де Портандюэр. Впрочем, лицо его, все покрытое шрамами от ран, достаточно ясно говорило о подвигах капитана. А теперь, увидев его, нельзя было бы поверить, что его зоркое око видело все далеко вокруг, что этот бретонский моряк не имел себе соперников в храбрости. Он не курил, не употреблял в разговоре бранных слов и своею кротостью и спокойствием походил на молодую девушку; за своей любимицей, собачкой Тизбе, он ухаживал так умело и заботливо, как истая старая барыня. Здесь сказывалась его прежняя галантность к женщинам. Сам он никогда ничего не рассказывал о своих славных деяниях, которые вызвали восхищение графа д’Эстенга. Хотя он теперь выглядел совершенным инвалидом, двигался так осторожно, как будто с каждым сделанным шагом ему угрожала опасность раздавить под своими ногами яйца, хотя он постоянно жаловался то на холодный ветер, то на палящий зной солнца, то, наконец, на сырой туман, тем не менее, его белые зубы с красными деснами красноречиво протестовали против его болезни, стоившей ему к тому же очень дорого, так как, благодаря ей, он должен был есть непременно четыре раза в день и не как-нибудь, а очень сытно. Фигура его была крепкая, хотя худая; как и фигура барона, она состояла из одних костей, обтянутых кожей, желтой, как пергамент и крепко обтягивающей кости, точно кожа арабского скакуна, блестящая на солнце. Цвет лица у него был темно-бурый и стал таким после его путешествий в Индию, откуда он не привез никаких впечатлений, никаких новых воззрений. В свое время он эмигрировал, потерял состояние, потом получил крест Св. Людовика и пенсион в две тысячи франков, вполне заслужив его своей службой и получая его из кассы моряков-инвалидов. Когда-то он служил в морском флоте в России, до тех пор, пока император Александр не вознамерился заставить его воевать с Францией; тогда он подал в отставку и поселился в Одессе с герцогом Ришелье, с которым и вернулся на родину; герцог выхлопотал ему пенсион, как славному представителю старинного бретонского флота. После смерти Людовика XVIII, т. е. приблизительно вскоре после того, как шевалье дю Хальга вернулся в Геранду, его назначили городским мэром. Священник, шевалье и мадемуазель де Пен-Холь пятнадцать лет подряд проводили вечера в отеле дю Геников, куда нередко собирались и другие дворяне из города и окрестностей. Дю Геники были во главе С.-Жерменского предместья этого городка и к ним не имело доступа ни одно должностное лицо, посланное новой администрацией государства. Уже шесть лет, как священник начинает усиленно кашлять за обедней при щекотливых словах: Боже, спаси короля! Вот в каком положении была в Геранде политика.
Мушка – это игра, в которой играющим сдают по пять карт, а шестую открывают. Открытая карта определяет козыри. При всякой сдаче играющий может по желанию пасовать или принять участие в игре. В первом случае он проигрывает только свою ставку, так как пока в корзине нет ремизов, каждый играющий вносит небольшую сумму. Если играющий принимает участие в игре, то он должен взять взятку, стоимость которой является сообразно со ставкой: если в корзине набралось пять су, то взятка оценивается в одно су. Если он взятки не возьмет, то он попадает в мушку, т. е. он должен заплатить всю ставку, так что при следующей сдаче содержимое корзины значительно увеличивается. Все мушки записываются, и жетоны, которыми производится временная расплата, складываются в корзину, причем жетоны, означающие более крупную стоимость, кладутся раньше. Те играющие, которые спасовали, тоже сбрасывают карты, но это не идет в расчет. Карты, оставшиеся после сдачи, раздаются играющими, как и в экарте, но в мушке соблюдается очередь. Все берут столько карт, сколько хотят, так что может случиться, что карт хватит только на двух играющих. Открытая карта принадлежит сдававшему, т. е. последнему в очереди: он имеет право обменять на нее какую-нибудь свою карту. Особенно большое значение имеет одна карта, под названием Мистигри: валет треф. Игра эта, очень в сущности простая, не лишена занимательности. В ней может проявиться у игроков свойственная людям алчность, и тонкая дипломатия, и выразительная игра лица. В замке дю Геников играющие брали по двадцать жетонов всего на сумму пять су, что составляло ставку в пять лиардов, сумму крупную в глазах игроков. При очень большом счастье можно было выиграть пятьдесят су, т. е. столько, сколько никто не тратил в Геранде в день. Поэтому не удивительно, что мадемуазель де Пен-Холь относилась к этой игре, которая по своим невинным свойствам может быть приравнена, если верить словам Академии, только к игре в пьяницу, со всей страстью, которую может проявить охотник по какой-нибудь очень интересной охоте. Мадемуазель Зефирина, участвовавшая в половине ставки баронессы, относилась к мушке с таким же интересом. Поставить один лиард с шансами выиграть сразу пять, это для старой скопидомки была целая сложная финансовая операция, и она решалась на нее с таким же душевным трепетом, какое может разве испытать жадный биржевой спекулянт на бирже при игре на понижение и повышение. По дипломатическому договору, состоявшемуся в сентябре 1825 г., после одного вечера, когда мадемуазель де Пен-Холь проиграла тридцать семь су, было постановлено, что игра прекращается, как только проигравший десять су изъявит на то желание. Вежливость не позволяла причинять другому игроку неприятность видеть, что игра в мушку продолжается без его участия. Но всякая страсть ведет к обходу закона. Шевалье и барон, эти два престарелых политикана, нашли способ обойти постановление. Если у игроков будет сильное желание продолжать интересную партию, то отважный шевалье дю Хальга, очень расточительный и щедрый на то, что не касалось лично его издержек, всегда предлагал вперед десять жетонов мадемуазель де Пен-Холь или Зефирине. Если только одна из них или обе вместе успевали проиграть по пяти су при первом выигрыше, они должны ему уплатить долг. Старый холостяк может позволить такую любезность по отношению к барышням. Барон со своей стороны также предлагал жетоны старым девам, чтобы продолжать партию. Обе скупые старухи всегда соглашались на это, но предварительно, по обычаю барышень, долго заставляли себя упрашивать. Особенно была оживленна мушка, когда у тетки гостила одна из девиц Кергаруэт – просто Кергаруэт: здесь никто из них не мог добиться, чтобы их называли Кергаруэт де Пен-Холь, даже слуги получили на этот счет такое приказание раз навсегда. Тетка брала ее с собой на мушку к дю Геникам, как на какое-нибудь величайшее веселье. Молодой девушке при этом внушалось, чтобы она была как можно любезнее, что, впрочем, ей не было трудно, если тут находился красавец Калист, обожаемый всеми четырьмя барышнями де Кергаруэт. Молодые девицы эти, воспитанные по-новому, нисколько не дорожили пятью су и за ними записывались мушка за мушкой: иногда за ними числилось до ста су, суммами от двух с половиной су до десяти. Эти вечера очень волновали старую слепую. Взятки именовались в Геранде руками. Баронесса пожимала ногу своей золовки столько раз, сколько по ее картам можно было рассчитывать взять верных взяток. Играть или не играть, особенно когда корзина была полна, было вопросом очень важным и в душе играющих жадность наживы и боязнь рискнуть производили мучительную тревогу. Каждый спрашивал остальных: «Будете ли вы ходить?» и при этом с завистью смотрел на тех, у кого карты были достаточно хороши, чтобы попытать счастья, и чувствовал отчаяние, если самому приходилось пасовать. Если Шарлотта де Кергаруэт, слывшая у них за отчаянную благодаря смелой игре, рисковала счастливо, то на возвратном пути ее тетка, в случае, если сама не была в выигрыше, обращалась с ней холодно и читала ей наставление: у нее характер слишком решительный, молодая особа не должна так идти напролом, играя с почтенными и уважаемыми особами; и манера схватывать корзину, и бросать карты у нее слишком резка; для молодой девушки нужно побольше сдержанности и скромности; над чужим несчастьем нельзя смеяться и т. д. Тысячу раз в год повторялись в их кружке одни и те же, но всякий раз казавшиеся новыми шуточки о том, кого надо запрячь в корзинку, если она слишком была полна: один предлагал запрячь быков, другой – слонов, лошадей или ослов, собак. И за двадцать лет никому не пришло в голову, что эти шутки повторяются изо дня в день. Такие предложения всегда встречались улыбкой. Повторялись каждый раз и слова сожаления, вырывавшиеся у тех, кто оставался посторонним зрителем, когда полная корзина доставалась одному из игроков. Карты сдавались очень медленно, размеренными движениями. Разговаривали играющие между собой не иначе, как прижав карты к груди. Эти благородные и уважаемые люди имели очаровательную слабость – не доверять друг другу в игре. Мадемуазель де Пен-Холь почти всегда укоряла священника в плутовстве, если он брал себе корзину.
– Странно, однако, – возражал священник, – что меня никогда не обвиняют в плутовстве, если я проигрываю.
Каждая карта сбрасывалась на стол только после зрелого обсуждения, причем играющие обменивались тонкими и слегка ядовитыми замечаниями и обнаруживали необыкновенную проницательность. Между двумя сдачами, само собой, велись разговоры о городских происшествиях и споры о политике. Зачастую играющие, крепко прижав карты к груди, тратили целую четверть часа, увлекшись разговором. Вслед за таким перерывом, если вдруг оказывалось, что в корзине не хватало одного жетона, то каждый принимался уверять, что твердо помнит, что положил свою ставку. Почти всегда эти прерывания кончались тем, что шевалье пополнял недостающую сумму, причем на него сыпались обвинения, что он, вероятно, задумался о своем шуме в ушах, о головной боли, обо всех этих грозных болезненных призраках и совершенно забыл положить свою долю. Но как только он клал свой жетон, так тотчас же являлись угрызения совести у старой Зефирины и у хитрой горбуньи: они принимались со своей стороны уверять, что, может быть, это их недосмотр, что, как будто, они забыли положить, что утверждать это они не берутся, но им сдается, что они не клали жетона, хотя, конечно, шевалье достаточно богат, чтоб исправить это маленькое несчастье. Особенно часто случались промахи со стороны барона, если речь заходила о несчастьях королевского дома. Нередко также игра кончалась ничем, к удивлению игравших, которые все рассчитывали на выигрыш: через известное число партий жетоны пересчитывались и все расходились по домам в виду позднего часа, не получив в результате ни выигрыша, ни проигрыша. Тогда на мушку воздвигалось общее гонение: она не была вовсе оживлена и интересна в такие вечера; они сердились на нее, точно негры, которые бьют отражение луны в воде, когда стоит неблагоприятная погода. Все находили, что вечер прошел вяло, и не стоило хлопотать из-за такого пустяшного результата. Однажды виконт и виконтесса Кергаруэт в одно из своих посещений заговорили о висте и бостоне, как об играх более интересных, чем мушка; баронесса, которой мушка порядочно наскучила, попросила их объяснить сущность этих игр; все общество примкнуло к ее просьбе, хотя не без некоторого протеста против нововведений. Но заставить их уразуметь новые игры оказалось невозможно; как только Кергаруэты уехали, то общим голосом было решено, что игры эти слишком головоломны, страшно замысловаты, точно алгебраические исчисления. Все стояли за милую, маленькую и приятную мушку, и таким образом она восторжествовала над новыми играми, как и все старые порядки торжествовали в Бретани над новыми.
Пока священник сдавал карты, баронесса предлагала шевалье дю Хальга каждый день повторявшиеся вопросы относительно его здоровья. Тот очень гордился тем, что у него всегда объявлялись новые болезни. Хотя вопросы ему предлагались всегда одни и те же, но ответы свои он непременно варьировал. Сегодня, например, у него была боль в боку. Любопытнее всего было, что шевалье никогда не жаловался на свои раны; все, что у него болело действительно, нисколько не тревожило и не удивляло его – он был готов к этому. Его пугали неожиданные боли: то у него болела голова, то ему казалось, что ему собаки грызут желудок, то в ушах звенели колокола и тому подобные ужасы. Он очень основательно считал себя неизлечимым, потому что доктора не придумали еще средства от несуществующих болезней.
– Вчера, мне помнится, у вас были боли в ногах? – серьезно говорил священник.
– Она идет все выше, – отвечал шевалье.
– От ног к бокам? – спросила мадемуазель Зефирина.
– А по дороге не останавливается? – с улыбкой спросила мадемуазель де Пен-Холь.
Шевалье в ответ отрицательно покачал головой, сделав при этом комичный жест, из которого всякий посторонний наблюдатель мог бы заключить, что моряк в своей молодости был умен, любил и был любим. Может быть, его скромная жизнь в Геранде была богата воспоминаниями. И когда он, крепко опираясь на обе ноги, точно цапля, стоял на набережной, любуясь на свою резвую собачку, или задумчиво устремлял глаза на море, может быть, он уносился воспоминаниями в прошлое, которое было для него, быть может, своего рода земным раем.
– Вот и умер старый герцог де Ленонкур, – сказал барон, возвращаясь к известию из «Ежедневника», на котором остановилась его супруга. – Да, первое лицо при дворе не намного пережило своего государя. Скоро и я отправлюсь за ними.
– Друг мой, друг мой! – сказала ему жена, слегка похлопав рукой по худой и огрубелой руке мужа.
– Пускай себе говорит, сестра, – сказала Зефирина, – пока я буду на земле, он не будет лежать под землей: ведь он моложе меня.
Веселая улыбка мелькнула на губах старой девицы. Обыкновенно в таких случаях все играющие и случавшиеся здесь гости, услыхав такие печальные речи барона, начинали с выражением испуга переглядываться, чувствуя себя неспокойно при виде грустного настроения короля Геранды. При расставании, расходясь по домам, они говорили обыкновенно в таких случаях: «Г. дю Геник был сегодня очень грустный. Вы обратили внимание, что он все спит?» А на завтра об этом говорила вся Геранда. «Барон дю Геник все слабеет!» Этой фразой начинался разговор в каждом доме.
– А Тизбе здорова? – спросила мадемуазель де Пен-Холь у шевалье, когда карты были сданы.
– Эта бедняжка, как и я, страдает нервами; она, когда бежит, постоянно поднимает то одну, то другую лапку. Вот так, смотрите!
Желая представить свою собачку, согнув одну руку, шевалье показал все свои карты своей горбатой соседке, которой только и нужно было знать, есть ли у него козыри и Мистигри. Он попался в ее ловушку.
– О! – сказала баронесса, – кончик носа у г-на аббата побелел; у него наверное Мистигри.
Священник всегда приходил в такой восторг, когда ему попадался Мистигри, что не мог скрыть этого. На лице у всякого человека есть черта, которая выдает самые сокровенные сердечные помыслы. Опытные и зоркие глаза его партнеров, по прошествии нескольких лет, нашли слабую сторону священника: всякий раз, как к нему приходил Мистигри, кончик его носа белел. И тогда никто не рисковал играть.
– У вас сегодня были гости? – спросил шевалье у мадемуазель де Пен-Холь.
– Да, приезжал один из кузенов моего зятя. Он очень удивил меня, сообщив о свадьбе графини де Кергаруэт, рожденной де Фонтен…
– Дочери Большого Жака! – воскликнул шевалье, – который во время пребывания в Париже неотлучно находился при своем адмирале.
– Графиня его единственная наследница, она вышла за бывшего посланника. Кроме того, он мне рассказал много странного о нашей соседке, мадемуазель де Туш, но такого странного, что я отказываюсь этому верить. Калист не стал бы так часто сидеть у нее, у него достаточно здравого смысла, чтобы заметить такие ужасы.
– Ужасы? – спросил барон, проснувшись при этом слове.
Баронесса и священник обменялись многозначительным взглядом. Карты были уже сданы, и так как Мистигри был у нее, то старая девица прекратила разговор, вполне довольная тем, что, возбудив общее недоумение этим словом, может скрыть свою радость.
– Кладите карту, барон, – сказала она, крепко прижав к себе свои карты.
– Мой племянник не из тех молодых людей, которые восхищаются разными ужасами, – сказала Зефирина, в раздумье перебирая свои волосы.
– Мистигри! – закричала мадемуазель де Пен-Холь, не отвечая своей приятельнице.
Священник, который, по-видимому, хорошо был осведомлен о положении дел между Калистом и мадемуазель де Туш, не вступал в спор.
– А что же она делает такого необыкновенного, эта барышня? – спросил барон.
– Она курит, – отвечала мадемуазель де Пен-Холь.
– Это очень здорово, – возразил шевалье.
– Ну, а ее земли?.. – спросил барон.
– Свои земли она проедает, – отвечала старая девица.
– Все играли и на всех записывается мушка. У меня король, дама, валет козырный, Мистигри и еще король, – сказала баронесса. – Корзина наша, сестра!
Эта партия, выигранная без всякой игры, поразила мадемуазель де Пен-Холь, из головы которой моментально вылетел и Калист и мадемуазель де Туш. В девять часов в зале остались только баронесса и священник. Все старички разошлись спать. Шевалье, по своему обыкновению, отправился провожать мадемуазель де Пен-Холь до ее дома на городской площади; дорогой они обменивались замечаниями о том, как ловко была ведена последняя партия, везло им или нет в этот вечер, с какою радостью прятала в карман свой выигрыш старая слепая, не стараясь скрыть своего восторга. У двери, когда маленький лакей оставил их одних, старая девица в ответ на выраженное шевалье предположение, что могло бы быть причиной озабоченности баронессы, отвечала:
– Я знаю, в чем тут дело. Калист погиб, если мы его не женим как можно скорее. Он любит мадемуазель де Туш, комедиантку.