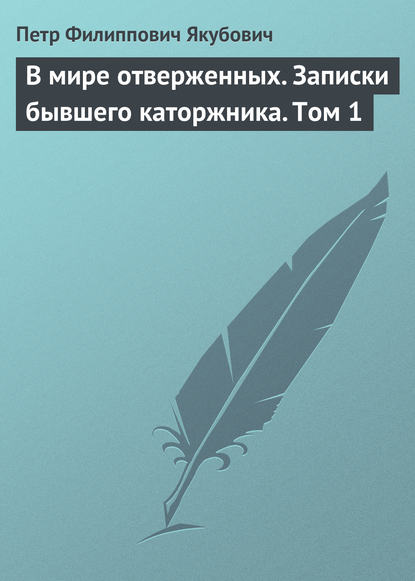По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
Автор
Год написания книги
1896
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тебе, Мишенька, привычное дело каменья-то ворочать, – прибавил Ракитин, – будешь там поваркивать себе: м-м! м-м! м-м!.
Трое арестантов, в том числе и я, взялись крутить вал, Семенов с Ракитиным – принимать кибель и относить каменья в носилках на отвал. Втроем мы едва выкручивали теперь кибель: камень был потяжелее воды и тем более льда. Однажды, когда мы уже выкрутили кибель, Ракитин, неловко принимая его, упустил из рук гранитную глыбу весом не меньше двух пудов, и с страшным шумом и свистом она полетела на дно шахты.
– Берегись! – успел крикнуть Семенов, и крик этот спас Ногайцева от неминучей смерти: едва успел он отскочить под лестницу, как камень грохнулся на то самое место, где он стоял.
– У, чучело соломенное, мякинное брюхо! – : накинулись на него же Семенов с Ракитиным. – Ты каждый раз должен под варшафтом[36 - Так выговаривают арестанты слово "форшахта", то есть передняя часть шахты, занятая лестницами, (Прим. автора.)] стоять, когда подымают кибель… А то и мокренько от тебя не останется!
– Вот ироды оглашенные! – кричал, в свою очередь, Ногайцев из глубины колодца, очевидно до полусмерти перепуганный. – Вы, пожалуй, скорее начальства на тот свет отправите… Жизнь мне, что ль, надоела, с вами работать? Черти!
– Ну! Ну! – прикрикнули на него. – Сам же виноват, плохо укладывает, да еще и ругается… Толстопузый боров!
И работа пошла по-прежнему, хотя долго еще не мог я оправиться от пережитого волнения. А неунывающий Ракитин уже острил:
– А что б за беда, ежели б и убило одного такого дьявола? Нового б пригнали, еще жирнее. Нашего брата у матушки казны много!
– А бывают случаи, что убивает насмерть? – полюбопытствовал я.
– Сколько еще бывает-то, – отвечали арестанты. – Здесь хорошо вот – восемь сажен глубины, а ведь есть шахты в двадцать и сорок сажен. Там бросьте этакий вот маленький камушек, в зернышко величиной, и то, пожалуй, голову до крови прошибет. Прошлой зимой в Зерентуе сорвалась с каната пустая бадья и упала на татарина. Так ему весь череп разнесло и руку из плеча вырвало, на аршин в сторону отбросило… А иной раз так счастливо обойдется, что просто диву дашься. Раз этак же в Алгачах с четырех сажен сорвался кибель и прямо на плечи Ваньке Микитину… Положим, здоровенный детина, богатырь прямо… Так он всего только неделю в больнице пролежал, да и то так больше, для предлогу… Теленок раз тоже упал на Покровском в шахту и хоть бы что у него повредилось! Мычит там, сердешный, насилу выволокли.
– Одиножды я тоже напужался, братцы. Сижу это в шахте, бурю себе, ни об чем, то-ись, не думаю. А рядом Андрюшка на кибель примостился бурить. Не приметил того, что другой-то кибель снят, конец каната пустой болтается на валке; ну и ерзает себе, на кибеле-то сидя. Вдруг как зашуршит!.. Как почнет валок крутиться, как побежит канат… Я-то бурю себе и внимания никакого не беру, а Андрюшка вытаращил со страху шары, глядит вверх и ждет, как дурак. Валок все скорей, все скорей крутится… Вот он как побежит под варшафт, да заголосит: "Бере-гись!" Только-только успел я к стенке прижаться – весь канат грох! В двух вершках от меня на то самое место, где я сидел. Кабы не отскочил вовремя, пожалуй, крышка была бы.[24 - К этому эпизоду, отсутствовавшему в журнальном тексте, на экземпляре П. Ф. Якубовича имеется следующее замечание: "Случай с Брагинским и со мной". Как сообщил в 1932 году М. А.Брагинский (политический товарищ Якубовича по Акатую), он точно так же был спасен в шахте Якубовичем от упавшего каната (Записки Д. П. Якубовича. Архив семьи Якубовича)]
– А сколько случается тоже, буронос из рук бур выпустит. Тоже страху натерпишься. Ругани тогда бывает, ругани!
– Никому помирать здря неохота.
Мы подняли в этот день восемьдесят кибелей камня, и, уходя в светличку, я чувствовал себя всего разбитым и измученным.
VII. Тюремные будни
Жизнь в тюрьме шла между тем своим чередом по однажды заведенному порядку. В свое время поверка, в свое время обед, окончание работ, сон. Все, решительно все направлено было к тому, чтобы превратить людей и машинообразные существа, иначе не живущие, как по команде и "согласно инструкции". Последняя, по-видимому, не предполагала даже, чтобы на дне всячески регламентированной жизни арестанта все-таки мог оставаться уголок, куда она, инструкция, не в силах проникнуть, чтобы в душе и самых развращенных людей была смятая святых, куда они никого чужого не впускают. Таким святая святых для арестанта являлись воспоминания о прошлом, стремление к воле, инстинктивная ненависть ко всякого рода "духам", то есть солдатам, надзирателям, вообще к начальству. Правда, чистая и неиспорченная душа могла бы, пожалуй, содрогнуться, а глянув в это страшное святилище; но что из того? Для отверженца человеческого общества оно все-таки является таковым; душа его чувствует себя довольной и счастливой только в этом мире, а не в каком-либо другим, лучшем и высшем на наш взгляд. Даже в Шелайской тюрьме, где жизнь была до смешного опутана всевозможными установлениями и формализмами, никакие инструкции не могли отнять у арестантов свободы мыслить и чувствовать сообразно их понятию и умению; и так как установления эти касались только чисто внешнего облика и поведения человека, того, чтобы в камерах и коридорах было чисто, чтобы одежда была в исправности, чтобы уроки сдавались сполна и шапка с головы снималась вовремя, то в результате не было, конечно, ни одного случая перевоспитания души человеческой. Понятия о цели и смысле жизни, все взгляды на вещи оставались совершенно нетронутыми, и арестант, выходя в вольную команду или на поселение, начинал новую жизнь по тому же шаблону, по какому и раньше жил, с тою только разницею, что теперь старался вести дело "чище", осторожнее, не оставляя по возможности следов и улик. Одним словом, я вынес такое впечатление, что терроризующий режим каторги влияет в желательном для закона смысле лишь на очень небольшую группу людей, здоровых от природы и не развращенных воспитанием, попавших в тюрьму вследствие внезапной вспышки темперамента, минутного соблазна или судебной ошибки; но ведь таких незачем и устрашать: они все равно не попадут во второй раз в каторгу, а если и попадут, то не скорее всякого другого среднего человека, живущего на воле. Зато испорченного до мозга костей человека внешний страх только окончательно развращает, заставляя быть хитрым и лицемерным. Он не уничтожает в его душе злотворных бацилл, производящих болезни преступлений, а загоняет их, так сказать, вглубь, в невидимые для постороннего глаза сердечные тайники, где присутствие их, однако же, не менее опасно для общественного организма… Бравому штабс-капитану Лучезарову, который основывался на чисто внешних данных, на том, что во вверенной ему тюрьме все обстоит "благополучно", нет ни карточных игр, ни промота казенных вещей, ни пьянства, ни буйства, совершенно естественно могло казаться, что тюремное дело в его руках кипит и процветает, что он идет впереди своего века или по крайней мере ни на шаг не отстает от выводов самоновейшей криминальной науки; но мне, перед которым открывались порой сокровеннейшие глубины преступной души, дело, было виднее, и я с болью в сердце видел, что ничего существенного, ничего хорошего этим страшным режимом не достигалось… Я видел, что все эти грозные команды, строи, маршировки, все эти крики о снимании и надевании вовремя шапок через несколько же дней обращались для арестанта в привычку, которой он следовал так же машинально, как машинально подносил ложку ко рту, а не к носу, когда хотел есть, что даже ни малейшего страха и страдания эти вещи ему не доставляли. По собственному уверению арестантов, они целый день готовы были снимать и надевать шапку, лишь бы не допекали их другими, более существенными способами… Да и чего же иного стали бы вы ожидать от людей, у которых совершенно атрофировано понятие о человеческом достоинстве, о праве, об унижении? Большего того: у людей, у которых до сей поры вы же, представители и защитники культуры (в лице властей и чиновников), старались по возможности подавить, а не развить это понятие? Страдать подобным страданием способен только интеллигентный человек, и действительно, я с положительностью могу утверждать, что за годы моего прозябания в Шелайской тюрьме из сотен перебывавших в ней арестантов эта сторона тюремной жизни действовала угнетающим образом не больше как на двух-трех интеллигентов, имевших несчастье, подобно мне, попасть на каторгу. В самом деле, мне лично она доставляла наибольшее, поистине невыразимое мучение, и сознание того, что мучений этих не разделяет со мной никто из невольных сотоварищей, особенно удручало, делало меня несчастным. Как ни старался я убаюкивать себя мыслью, что это не больше как неизбежная формальность, которая не может принизить мое человеческое достоинство, что-то в глубине души болело и протестовало. Я готов был сквозь землю провалиться всякий раз, как при появлении Шестиглазого надзиратель командовал снимать шапки, а бравый, штабс-капитан не торопился с дозволением накрыть их, и нам приходилось стоять перед ним иногда по нескольку минут, смиренно держа в руках шапки. Чувство это (вставляло меня прибегать к смешной на первый взгляд уловке. Я снимал шапку добровольно еще задолго до появления начальства и таким образом, не слушаясь команды, не шел в то же время и против нее. Я хорошо сознавал, что это не более как жалкий компромисс, сделка с собственной совестью, и тем не менее чувствовал ее несколько успокоенной и удовлетворенной… Что же касается арестантской массы, то, мне казалось, ей доставляло даже какое-то наслаждение снять лишний раз шапку перед начальством.
В ненастную погоду вечерняя поверка производилась обыкновенно в коридоре, где можно было стоять совсем без шапок. По моей просьбе, артельный староста Юхорев и предложил кобылке так делать.
– И в сам-деле, ребята, – кричал он, – на кой они черт? Лишний раз только слушать эту команду. Да провались вместе с ней и сам Шестиглазый.
Он доложил надзирателю, что арестанты будут стоять в коридоре без шапок и что потому команды "шапки долой" не нужно. Надзиратель согласился и при появлении Лучезарова прокричал только "смирно". Но в следующий же раз, недели через две, когда поверка опять случилась в коридоре, арестанты вышли решительно все в шапках, и на мое напоминание об условии отвечали, смеясь:
– А что, лень нам снять-то будет, что ли? Крикнут "сымай!" – мы и сымем.
Да и сам староста, так горячо принявший прошлый раз к сердцу мою просьбу, уже забыл о ней и стоял тоже в шапке, ухарски заломив ее набекрень. Я махнул рукой на этот вопрос.
Неизмеримо страшнее была, разумеется, мысль о телесных наказаниях. Мне казалось, что если бы когда-нибудь самого меня подвергли этому ужасному надругательству, то вся моя духовная личность была бы навеки раздавлена, уничтожена и я больше не мог бы жить и глядеть на свет божий. Чем-то неизгладимо позорным и варварским, худшим из всех остатков средневековой пытки представлялось мне употребление плетей и розог накануне XX века… Между тем сожителям моим и этот взгляд был вполне чужд и непонятен. В телесном наказании пугал их один только элемент – физической боли. Когда я увидел в первый раз длинную, толстую плеть, свитую из бечевок наподобие женской косы, когда ее принесли в тюрьму для наказания приговоренных по суду к плетям и в маленький карцерный дворик, кроме палача, вошли сам Лучезаров, доктор, фельдшер и несколько надзирателей, я весь дрожал как в лихорадке и долго не мог успокоиться даже после того, как наказанные вернулись в камеры и рассказывали, смеясь, что одна "проформа" была.
– Микитке так только заглянули… А меня чуть-чуть по штанам погладили… Шестиглазый прямо отрезал: "Я этих наказаньев по суду не обожаю! Они меня не касаются. Вот если у меня в чем проштрафитесь, ну тогда не помилую".
Арестанты все в один голос одобрили за это Шестиглазого и вообще остались очень довольны его поведением. Репутация его после этого случая значительно поднялась в глазах кобылки. Я застал еще то время, когда практиковалось даже сечение женщин;[37 - Телесное наказание женщин отменено окончательно весною 1893 года. (Прим. автора.)] но и оно никого не возмущало с точки зрения позора…
Лишение воли отзывалось, конечно, одинаково тяжело на всех заключенных. Но, говоря правду, я думаю, что образованный человек легче выносит это лишение. У него обширнее внутренний мир, богаче те сокровища, которых никто и ничто не может отнять у человека. У темного человека внутреннее "я" беднее, и потому он более нуждается в чисто внешних впечатлениях, которые наполняли бы его душевную пустоту и отвлекали от горьких дум. По той же причине его сильнее тянут на волю и чисто физические инстинкты и потребности. Я нередко удивлялся и не мог понять, зачем так рвались арестанты в вольную команду, откуда так часто приводили их обратно в тюрьму с лишением скидок или даже в надбавкой срока каторги за какую-нибудь кражу или буйство в пьяном виде. Многие из них и сами признавались мне, что для них лучше было бы до конца просидеть в тюрьме, не выходя, в вольную команду, где так легко новую каторгу заработать; и тем не менее каждый из говоривших это печально бродил по двору вдоль тюремных стен, завистливо поглядывая на высившиеся за ними сопки, вздыхал и высчитывал, сколько месяцев и дней остается ему до вольной команды… И пускай бы еще вздыхали те, которые мечтали о побеге с воли, те, которые имели двадцать и тридцать лет каторги на плечах: таких я понимал бы… Но рвались команду и те, кому до поселения оставалось всего каких-нибудь два-три месяца… Подчиненность была, правда, в вольной команде слабее: "духа со штыком" не замечалось за спиной; но работа была не менее тяжела. Та же жизнь в казарме, только гораздо худшей, более тесной, грязной и шумной (благодаря большей свободе); пища хуже тюремной, потому что за вольнокомандцами начальство следило не так зорко и строго. Что же в таком случае влекло туда этих людей? Конечно, воля, выражавшаяся главным образом в свободной игре в карты, питье водки и ухаживанье за каторжными дульцинеями…
В чисто физическом смысле Шелайская тюрьма давала арестантам действительно огромную массу страданий. Самым главным из них было запрещение частных улучшений пищи и необходимость, даже имея свои деньги, питаться одной казенной баландой. Среди арестантов попадались довольно состоятельные люди, но дойти до такого – первобытного, в сущности, – альтруизма, чтобы согласиться улучшить на свой счет общий котел (что разрешалось начальством), никто из них никогда не мог.
– С какой стати на собственные свои деньги стану я всю тюрьму кормить? Меня же дураком назовут! – рассуждал каждый и предпочитал лучше издыхать с голоду.
Правда, как ни строг был Шестиглазый, как ни грозны были его речи и сулимые в них кары, вскоре и в Шелайской образцовой тюрьме образовались разные маленькие лазейки и бреши. Больничный повар стал потихоньку продавать "лишнее" молоко, а сами больные – свои порции мяса и пр. Долгое время я не понимал, как и на какие деньги производится эта конспиративная торговля, потому что на руках арестантам не полагалось иметь ни одной копейки, пронести же в тюрьму хоть один рубль при том изысканном обыске, которым мы были встречены при приемке, представлялось мне немыслимым. На выраженное мной однажды недоумение в этом роде старик Гончаров, с которым мы были одни в номере, засмеялся.
– Да хоша бы он и того пуще обыскивал, деньги у арестанта всегда будут! Вы что думаете? Ив карты здесь не играют? – шепотом спросил он у меня.
– В карты? Откуда же их взять? Карты еще труднее пронести.
Гончаров, не отвечая ни слова, вышел в отхожее место и, возвратись оттуда через несколько минут, таинственно показал мне, хитро улыбаясь, две колоды старых, замасленных карт.
– Как! Разве и вы играете?
– Нет, я-то сам отроду не игрывал, и никогда даже смотреть на игру меня не тянет. Мы с Петькой так только… держим. Он-то, положим, игрок, первой руки шулер. Он, помни, за всю дорогу (мы полгода шли вместе) ни одного разу в проигрыше не был. Все эти подходы и выверты картежные он до тонкости знает.
– И здесь играет Семенов?
– Какая здесь может быть игра! Стоит ли ему тут мараться? Во всей-то тюрьме здесь колесом ходит много-много – двадцать каких рублей.
– Так зачем же держите вы карты?
– Как зачем? Вот кто захочет поиграть – и идет к нам. Мы получаем процент.
– А, вот что…
После того мне и самому случалось несколько раз быть свидетелем картежной игры. Происходила она обыкновенно на нарах в углу камеры или в кухне за немкой. У дверной форточки обязательно стоял стрёмщик, который при приближении надзирателя обыкновенно провозглашал: "Двадцать шесть!" – обычный условный знак тюремных жуликов. Стрёмщиком большею был Яшка Тарбаган, большой любитель и знаток своего дела. К счастью картежников, дежурный надзиратель всегда был обвешан, точно бубенчиками, связками ключей, которые гремели при каждом его движении и тем предупреждали виновных. Помню, в каком волнении была вся тюрьма, когда однажды игроки "засыпались" в кухне: стрёмщик прозевал, и надзиратель прямо из их рук взял и карты и деньги. Ожидали, что Шестиглазый строго расправится с виновными, но, к нашему удивлению, он, ограничился тем, что продержал несколько дней в карцере и не произвел даже обыска в камере. В другой раз надзиратель подглядел, что в карты происходит игра. Неслышно отомкнул он замок, резким толчком отворил дверь и кинулся схватить карты, но они исчезли.
– Где карты? Где карты? – кричал опешивший блюститель порядка.
– Какие карты? Господь с вами, Прокопий Филиппыч. Мы просто так сидели, разговаривали.
– Врете, врете, собачьи дети! Я сам собственными глазами сейчас видел, как Петин сдавал. У тебя, Петин? Признавайся!
– Да нет у меня.
– Разувайся, я обыщу. Голову на отсеченье даю, у тебя. Заморю в карцере!
– Воля ваша, ищите.
Все, до последней ниточки, обшарил надзиратель на Петине, детине саженного роста, покорно расставлявшем по его требованию, руки и ноги, снимавшем сапоги, штаны и бушлат. Карты будто сквозь землю провалились.
– Ну ладно, батьке твоему нехорошо будь! Ничего не поделаешь… Ну да я все ж подкараулю тебя.
Надзиратель ушел, и арестанты начали смеяться.
– Куда вы ухитрились спрятать их, Петин? – полюбопытствовал я.
Он весело оскалил свои белые зубы.
Трое арестантов, в том числе и я, взялись крутить вал, Семенов с Ракитиным – принимать кибель и относить каменья в носилках на отвал. Втроем мы едва выкручивали теперь кибель: камень был потяжелее воды и тем более льда. Однажды, когда мы уже выкрутили кибель, Ракитин, неловко принимая его, упустил из рук гранитную глыбу весом не меньше двух пудов, и с страшным шумом и свистом она полетела на дно шахты.
– Берегись! – успел крикнуть Семенов, и крик этот спас Ногайцева от неминучей смерти: едва успел он отскочить под лестницу, как камень грохнулся на то самое место, где он стоял.
– У, чучело соломенное, мякинное брюхо! – : накинулись на него же Семенов с Ракитиным. – Ты каждый раз должен под варшафтом[36 - Так выговаривают арестанты слово "форшахта", то есть передняя часть шахты, занятая лестницами, (Прим. автора.)] стоять, когда подымают кибель… А то и мокренько от тебя не останется!
– Вот ироды оглашенные! – кричал, в свою очередь, Ногайцев из глубины колодца, очевидно до полусмерти перепуганный. – Вы, пожалуй, скорее начальства на тот свет отправите… Жизнь мне, что ль, надоела, с вами работать? Черти!
– Ну! Ну! – прикрикнули на него. – Сам же виноват, плохо укладывает, да еще и ругается… Толстопузый боров!
И работа пошла по-прежнему, хотя долго еще не мог я оправиться от пережитого волнения. А неунывающий Ракитин уже острил:
– А что б за беда, ежели б и убило одного такого дьявола? Нового б пригнали, еще жирнее. Нашего брата у матушки казны много!
– А бывают случаи, что убивает насмерть? – полюбопытствовал я.
– Сколько еще бывает-то, – отвечали арестанты. – Здесь хорошо вот – восемь сажен глубины, а ведь есть шахты в двадцать и сорок сажен. Там бросьте этакий вот маленький камушек, в зернышко величиной, и то, пожалуй, голову до крови прошибет. Прошлой зимой в Зерентуе сорвалась с каната пустая бадья и упала на татарина. Так ему весь череп разнесло и руку из плеча вырвало, на аршин в сторону отбросило… А иной раз так счастливо обойдется, что просто диву дашься. Раз этак же в Алгачах с четырех сажен сорвался кибель и прямо на плечи Ваньке Микитину… Положим, здоровенный детина, богатырь прямо… Так он всего только неделю в больнице пролежал, да и то так больше, для предлогу… Теленок раз тоже упал на Покровском в шахту и хоть бы что у него повредилось! Мычит там, сердешный, насилу выволокли.
– Одиножды я тоже напужался, братцы. Сижу это в шахте, бурю себе, ни об чем, то-ись, не думаю. А рядом Андрюшка на кибель примостился бурить. Не приметил того, что другой-то кибель снят, конец каната пустой болтается на валке; ну и ерзает себе, на кибеле-то сидя. Вдруг как зашуршит!.. Как почнет валок крутиться, как побежит канат… Я-то бурю себе и внимания никакого не беру, а Андрюшка вытаращил со страху шары, глядит вверх и ждет, как дурак. Валок все скорей, все скорей крутится… Вот он как побежит под варшафт, да заголосит: "Бере-гись!" Только-только успел я к стенке прижаться – весь канат грох! В двух вершках от меня на то самое место, где я сидел. Кабы не отскочил вовремя, пожалуй, крышка была бы.[24 - К этому эпизоду, отсутствовавшему в журнальном тексте, на экземпляре П. Ф. Якубовича имеется следующее замечание: "Случай с Брагинским и со мной". Как сообщил в 1932 году М. А.Брагинский (политический товарищ Якубовича по Акатую), он точно так же был спасен в шахте Якубовичем от упавшего каната (Записки Д. П. Якубовича. Архив семьи Якубовича)]
– А сколько случается тоже, буронос из рук бур выпустит. Тоже страху натерпишься. Ругани тогда бывает, ругани!
– Никому помирать здря неохота.
Мы подняли в этот день восемьдесят кибелей камня, и, уходя в светличку, я чувствовал себя всего разбитым и измученным.
VII. Тюремные будни
Жизнь в тюрьме шла между тем своим чередом по однажды заведенному порядку. В свое время поверка, в свое время обед, окончание работ, сон. Все, решительно все направлено было к тому, чтобы превратить людей и машинообразные существа, иначе не живущие, как по команде и "согласно инструкции". Последняя, по-видимому, не предполагала даже, чтобы на дне всячески регламентированной жизни арестанта все-таки мог оставаться уголок, куда она, инструкция, не в силах проникнуть, чтобы в душе и самых развращенных людей была смятая святых, куда они никого чужого не впускают. Таким святая святых для арестанта являлись воспоминания о прошлом, стремление к воле, инстинктивная ненависть ко всякого рода "духам", то есть солдатам, надзирателям, вообще к начальству. Правда, чистая и неиспорченная душа могла бы, пожалуй, содрогнуться, а глянув в это страшное святилище; но что из того? Для отверженца человеческого общества оно все-таки является таковым; душа его чувствует себя довольной и счастливой только в этом мире, а не в каком-либо другим, лучшем и высшем на наш взгляд. Даже в Шелайской тюрьме, где жизнь была до смешного опутана всевозможными установлениями и формализмами, никакие инструкции не могли отнять у арестантов свободы мыслить и чувствовать сообразно их понятию и умению; и так как установления эти касались только чисто внешнего облика и поведения человека, того, чтобы в камерах и коридорах было чисто, чтобы одежда была в исправности, чтобы уроки сдавались сполна и шапка с головы снималась вовремя, то в результате не было, конечно, ни одного случая перевоспитания души человеческой. Понятия о цели и смысле жизни, все взгляды на вещи оставались совершенно нетронутыми, и арестант, выходя в вольную команду или на поселение, начинал новую жизнь по тому же шаблону, по какому и раньше жил, с тою только разницею, что теперь старался вести дело "чище", осторожнее, не оставляя по возможности следов и улик. Одним словом, я вынес такое впечатление, что терроризующий режим каторги влияет в желательном для закона смысле лишь на очень небольшую группу людей, здоровых от природы и не развращенных воспитанием, попавших в тюрьму вследствие внезапной вспышки темперамента, минутного соблазна или судебной ошибки; но ведь таких незачем и устрашать: они все равно не попадут во второй раз в каторгу, а если и попадут, то не скорее всякого другого среднего человека, живущего на воле. Зато испорченного до мозга костей человека внешний страх только окончательно развращает, заставляя быть хитрым и лицемерным. Он не уничтожает в его душе злотворных бацилл, производящих болезни преступлений, а загоняет их, так сказать, вглубь, в невидимые для постороннего глаза сердечные тайники, где присутствие их, однако же, не менее опасно для общественного организма… Бравому штабс-капитану Лучезарову, который основывался на чисто внешних данных, на том, что во вверенной ему тюрьме все обстоит "благополучно", нет ни карточных игр, ни промота казенных вещей, ни пьянства, ни буйства, совершенно естественно могло казаться, что тюремное дело в его руках кипит и процветает, что он идет впереди своего века или по крайней мере ни на шаг не отстает от выводов самоновейшей криминальной науки; но мне, перед которым открывались порой сокровеннейшие глубины преступной души, дело, было виднее, и я с болью в сердце видел, что ничего существенного, ничего хорошего этим страшным режимом не достигалось… Я видел, что все эти грозные команды, строи, маршировки, все эти крики о снимании и надевании вовремя шапок через несколько же дней обращались для арестанта в привычку, которой он следовал так же машинально, как машинально подносил ложку ко рту, а не к носу, когда хотел есть, что даже ни малейшего страха и страдания эти вещи ему не доставляли. По собственному уверению арестантов, они целый день готовы были снимать и надевать шапку, лишь бы не допекали их другими, более существенными способами… Да и чего же иного стали бы вы ожидать от людей, у которых совершенно атрофировано понятие о человеческом достоинстве, о праве, об унижении? Большего того: у людей, у которых до сей поры вы же, представители и защитники культуры (в лице властей и чиновников), старались по возможности подавить, а не развить это понятие? Страдать подобным страданием способен только интеллигентный человек, и действительно, я с положительностью могу утверждать, что за годы моего прозябания в Шелайской тюрьме из сотен перебывавших в ней арестантов эта сторона тюремной жизни действовала угнетающим образом не больше как на двух-трех интеллигентов, имевших несчастье, подобно мне, попасть на каторгу. В самом деле, мне лично она доставляла наибольшее, поистине невыразимое мучение, и сознание того, что мучений этих не разделяет со мной никто из невольных сотоварищей, особенно удручало, делало меня несчастным. Как ни старался я убаюкивать себя мыслью, что это не больше как неизбежная формальность, которая не может принизить мое человеческое достоинство, что-то в глубине души болело и протестовало. Я готов был сквозь землю провалиться всякий раз, как при появлении Шестиглазого надзиратель командовал снимать шапки, а бравый, штабс-капитан не торопился с дозволением накрыть их, и нам приходилось стоять перед ним иногда по нескольку минут, смиренно держа в руках шапки. Чувство это (вставляло меня прибегать к смешной на первый взгляд уловке. Я снимал шапку добровольно еще задолго до появления начальства и таким образом, не слушаясь команды, не шел в то же время и против нее. Я хорошо сознавал, что это не более как жалкий компромисс, сделка с собственной совестью, и тем не менее чувствовал ее несколько успокоенной и удовлетворенной… Что же касается арестантской массы, то, мне казалось, ей доставляло даже какое-то наслаждение снять лишний раз шапку перед начальством.
В ненастную погоду вечерняя поверка производилась обыкновенно в коридоре, где можно было стоять совсем без шапок. По моей просьбе, артельный староста Юхорев и предложил кобылке так делать.
– И в сам-деле, ребята, – кричал он, – на кой они черт? Лишний раз только слушать эту команду. Да провались вместе с ней и сам Шестиглазый.
Он доложил надзирателю, что арестанты будут стоять в коридоре без шапок и что потому команды "шапки долой" не нужно. Надзиратель согласился и при появлении Лучезарова прокричал только "смирно". Но в следующий же раз, недели через две, когда поверка опять случилась в коридоре, арестанты вышли решительно все в шапках, и на мое напоминание об условии отвечали, смеясь:
– А что, лень нам снять-то будет, что ли? Крикнут "сымай!" – мы и сымем.
Да и сам староста, так горячо принявший прошлый раз к сердцу мою просьбу, уже забыл о ней и стоял тоже в шапке, ухарски заломив ее набекрень. Я махнул рукой на этот вопрос.
Неизмеримо страшнее была, разумеется, мысль о телесных наказаниях. Мне казалось, что если бы когда-нибудь самого меня подвергли этому ужасному надругательству, то вся моя духовная личность была бы навеки раздавлена, уничтожена и я больше не мог бы жить и глядеть на свет божий. Чем-то неизгладимо позорным и варварским, худшим из всех остатков средневековой пытки представлялось мне употребление плетей и розог накануне XX века… Между тем сожителям моим и этот взгляд был вполне чужд и непонятен. В телесном наказании пугал их один только элемент – физической боли. Когда я увидел в первый раз длинную, толстую плеть, свитую из бечевок наподобие женской косы, когда ее принесли в тюрьму для наказания приговоренных по суду к плетям и в маленький карцерный дворик, кроме палача, вошли сам Лучезаров, доктор, фельдшер и несколько надзирателей, я весь дрожал как в лихорадке и долго не мог успокоиться даже после того, как наказанные вернулись в камеры и рассказывали, смеясь, что одна "проформа" была.
– Микитке так только заглянули… А меня чуть-чуть по штанам погладили… Шестиглазый прямо отрезал: "Я этих наказаньев по суду не обожаю! Они меня не касаются. Вот если у меня в чем проштрафитесь, ну тогда не помилую".
Арестанты все в один голос одобрили за это Шестиглазого и вообще остались очень довольны его поведением. Репутация его после этого случая значительно поднялась в глазах кобылки. Я застал еще то время, когда практиковалось даже сечение женщин;[37 - Телесное наказание женщин отменено окончательно весною 1893 года. (Прим. автора.)] но и оно никого не возмущало с точки зрения позора…
Лишение воли отзывалось, конечно, одинаково тяжело на всех заключенных. Но, говоря правду, я думаю, что образованный человек легче выносит это лишение. У него обширнее внутренний мир, богаче те сокровища, которых никто и ничто не может отнять у человека. У темного человека внутреннее "я" беднее, и потому он более нуждается в чисто внешних впечатлениях, которые наполняли бы его душевную пустоту и отвлекали от горьких дум. По той же причине его сильнее тянут на волю и чисто физические инстинкты и потребности. Я нередко удивлялся и не мог понять, зачем так рвались арестанты в вольную команду, откуда так часто приводили их обратно в тюрьму с лишением скидок или даже в надбавкой срока каторги за какую-нибудь кражу или буйство в пьяном виде. Многие из них и сами признавались мне, что для них лучше было бы до конца просидеть в тюрьме, не выходя, в вольную команду, где так легко новую каторгу заработать; и тем не менее каждый из говоривших это печально бродил по двору вдоль тюремных стен, завистливо поглядывая на высившиеся за ними сопки, вздыхал и высчитывал, сколько месяцев и дней остается ему до вольной команды… И пускай бы еще вздыхали те, которые мечтали о побеге с воли, те, которые имели двадцать и тридцать лет каторги на плечах: таких я понимал бы… Но рвались команду и те, кому до поселения оставалось всего каких-нибудь два-три месяца… Подчиненность была, правда, в вольной команде слабее: "духа со штыком" не замечалось за спиной; но работа была не менее тяжела. Та же жизнь в казарме, только гораздо худшей, более тесной, грязной и шумной (благодаря большей свободе); пища хуже тюремной, потому что за вольнокомандцами начальство следило не так зорко и строго. Что же в таком случае влекло туда этих людей? Конечно, воля, выражавшаяся главным образом в свободной игре в карты, питье водки и ухаживанье за каторжными дульцинеями…
В чисто физическом смысле Шелайская тюрьма давала арестантам действительно огромную массу страданий. Самым главным из них было запрещение частных улучшений пищи и необходимость, даже имея свои деньги, питаться одной казенной баландой. Среди арестантов попадались довольно состоятельные люди, но дойти до такого – первобытного, в сущности, – альтруизма, чтобы согласиться улучшить на свой счет общий котел (что разрешалось начальством), никто из них никогда не мог.
– С какой стати на собственные свои деньги стану я всю тюрьму кормить? Меня же дураком назовут! – рассуждал каждый и предпочитал лучше издыхать с голоду.
Правда, как ни строг был Шестиглазый, как ни грозны были его речи и сулимые в них кары, вскоре и в Шелайской образцовой тюрьме образовались разные маленькие лазейки и бреши. Больничный повар стал потихоньку продавать "лишнее" молоко, а сами больные – свои порции мяса и пр. Долгое время я не понимал, как и на какие деньги производится эта конспиративная торговля, потому что на руках арестантам не полагалось иметь ни одной копейки, пронести же в тюрьму хоть один рубль при том изысканном обыске, которым мы были встречены при приемке, представлялось мне немыслимым. На выраженное мной однажды недоумение в этом роде старик Гончаров, с которым мы были одни в номере, засмеялся.
– Да хоша бы он и того пуще обыскивал, деньги у арестанта всегда будут! Вы что думаете? Ив карты здесь не играют? – шепотом спросил он у меня.
– В карты? Откуда же их взять? Карты еще труднее пронести.
Гончаров, не отвечая ни слова, вышел в отхожее место и, возвратись оттуда через несколько минут, таинственно показал мне, хитро улыбаясь, две колоды старых, замасленных карт.
– Как! Разве и вы играете?
– Нет, я-то сам отроду не игрывал, и никогда даже смотреть на игру меня не тянет. Мы с Петькой так только… держим. Он-то, положим, игрок, первой руки шулер. Он, помни, за всю дорогу (мы полгода шли вместе) ни одного разу в проигрыше не был. Все эти подходы и выверты картежные он до тонкости знает.
– И здесь играет Семенов?
– Какая здесь может быть игра! Стоит ли ему тут мараться? Во всей-то тюрьме здесь колесом ходит много-много – двадцать каких рублей.
– Так зачем же держите вы карты?
– Как зачем? Вот кто захочет поиграть – и идет к нам. Мы получаем процент.
– А, вот что…
После того мне и самому случалось несколько раз быть свидетелем картежной игры. Происходила она обыкновенно на нарах в углу камеры или в кухне за немкой. У дверной форточки обязательно стоял стрёмщик, который при приближении надзирателя обыкновенно провозглашал: "Двадцать шесть!" – обычный условный знак тюремных жуликов. Стрёмщиком большею был Яшка Тарбаган, большой любитель и знаток своего дела. К счастью картежников, дежурный надзиратель всегда был обвешан, точно бубенчиками, связками ключей, которые гремели при каждом его движении и тем предупреждали виновных. Помню, в каком волнении была вся тюрьма, когда однажды игроки "засыпались" в кухне: стрёмщик прозевал, и надзиратель прямо из их рук взял и карты и деньги. Ожидали, что Шестиглазый строго расправится с виновными, но, к нашему удивлению, он, ограничился тем, что продержал несколько дней в карцере и не произвел даже обыска в камере. В другой раз надзиратель подглядел, что в карты происходит игра. Неслышно отомкнул он замок, резким толчком отворил дверь и кинулся схватить карты, но они исчезли.
– Где карты? Где карты? – кричал опешивший блюститель порядка.
– Какие карты? Господь с вами, Прокопий Филиппыч. Мы просто так сидели, разговаривали.
– Врете, врете, собачьи дети! Я сам собственными глазами сейчас видел, как Петин сдавал. У тебя, Петин? Признавайся!
– Да нет у меня.
– Разувайся, я обыщу. Голову на отсеченье даю, у тебя. Заморю в карцере!
– Воля ваша, ищите.
Все, до последней ниточки, обшарил надзиратель на Петине, детине саженного роста, покорно расставлявшем по его требованию, руки и ноги, снимавшем сапоги, штаны и бушлат. Карты будто сквозь землю провалились.
– Ну ладно, батьке твоему нехорошо будь! Ничего не поделаешь… Ну да я все ж подкараулю тебя.
Надзиратель ушел, и арестанты начали смеяться.
– Куда вы ухитрились спрятать их, Петин? – полюбопытствовал я.
Он весело оскалил свои белые зубы.